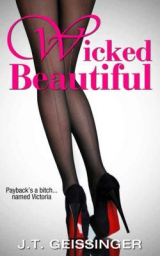
Текст книги "Порочная красавица (ЛП)"
Автор книги: Джей Ти Джессинжер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Глава двадцать первая
ДВАДЦАТЬ ОДИН
Виктория
Когда я возвращаюсь в свой пентхаус, Табита и Дарси сидят за моим кухонным столом и хихикают, как две старухи, над тем, что Табби показывает Дарси на своем телефоне. На Табби розовая майка с надписью «Хватит пялиться на мои сиськи», кожаная мини-юбка, куча серебряных браслетов и байкерские ботинки. На Дарси надеты эластичные брюки с принтом под зебру, блестящий фиолетовый топ и золотые босоножки на опасно высоком каблуке.
– Боже. Похоже, здесь была распродажа магазина для стриптизерш.
– Ну и ну, – говорит Дарси, оглядывая меня с ног до головы. – Посмотри, кого к нам занесло.
– Это не смешно.
Дарси фыркает.
– А, по-моему, очень даже смешно.
– Чья это рубашка? – жизнерадостно спрашивает Табби.
– А ты как думаешь? – бормочу я, выдвигая стул и театрально усаживаясь на него. Дарси и Табби переглядываются.
Табби спрашивает: – Что случилось с блузкой, в которой ты уходила прошлой ночью?
Я хмуро смотрю на нее.
– Вы что сговорились?
Она улыбается так, что мне хочется обхватить руками ее горло.
Дарси говорит: – Знаешь, нет ничего постыдного в том, что ты отлично провела время.
Я подпираю подбородок кулаками.
– Заткнитесь. И почему вы, обе, оказались на моей кухне так рано в воскресенье утром?
– Потому что твоя помощница позвонила мне и сказала, что ты не вернулась домой прошлой ночью, поэтому мне пришлось приехать, чтобы самой посмотреть, в каком ты будешь состоянии, когда наконец появишься. – Она поджимает губы. – И в каком же ты состоянии?
Я опускаю голову на стол, кладу лоб на сложенные руки и вздыхаю.
– О-о-о, – говорит Табби.
Дарси спрашивает: – Что?
– Я знаю этот вздох. Это предвестник какого-то действительно мерзкого плана. Вероятно, сейчас Виктория расскажет нам о теле, от которого нужно помочь ей избавиться.
Дарси резонно замечает: – Девочка, зачем тебе друзья, если ты не можешь рассчитывать на их помощь в сокрытии тела?
– Спасибо вам, – ворчу я, обращаясь к столу. – По крайней мере, я знаю, что могу положиться хотя бы на кого-то здесь.
Табби встает. Я слышу, как она подходит к стойке, слышу, как льется жидкость. Она возвращается и ставит передо мной дымящуюся кружку с кофе.
– Не суди так поспешно, Малефисента. Ты можешь на меня положиться. И в важных делах тоже, например… в поисках девушки, с которой встречался Паркер и которая покончила с собой.
Я резко выпрямляюсь и пристально смотрю на нее.
– Ты узнала? Скажи мне, скажи!
Дарси говорит: – Ого, о чем вы?
– Паркер рассказал Виктории, что встречался с девушкой, которая покончила с собой.
– На самом деле, он сказал: «Я однажды убил человека», что совсем другое дело, но, когда я на него надавила, он признал, что в действительности она покончила с собой. Он просто довел ее до этого.
У Дарси такое лицо, будто она только что съела протухшие суши.
– Белые люди. Вы все ебанутые.
– Продолжай рассказ, Табита! Что же случилось?
Табби садится, складывает руки на столе и смотрит на меня.
– Случилось то, что твой парень солгал.
Я слышу слабый, далекий звон в ушах.
– Что?
Табби качает головой, выдерживая мой взгляд.
– Ни одна девушка, с которой встречался Паркер, не покончила с собой. Я искала везде, вплоть до того времени, когда он учился в средней школе, даже сделала перекрестные ссылки на записи моргов в каждом месте, где он жил, на случай если я что-то пропустила. Ничего нет. Он солгал.
Я медленно откидываюсь на спинку стула.
– Но… Европа. Он ходил в школу в Англии. Он жил во Франции…
– Я искала везде, Ви. Когда люди умирают, остаются записи. Медицинские карты, некрологи, свидетельства о смерти, статьи в газетах. Я имею в виду, что вся история его отношений общеизвестна; он знаменит уже десять лет. Можно связать точки от одной к другой, вплоть до прошлого, но даже до этого ничего нет. Я уверена в этом; Паркер солгал.
Поскольку я знаю, насколько Табби хороша в своем деле, я уверена, что она говорит мне правду. Если бы была хоть какая-то крупица информации, подтверждающая его историю, хоть что-то, она бы это нашла.
Кажется, меня сейчас стошнит.
– Матерь Божья. Ублюдок.
Дарси бормочет: – О боже. Я чувствую, что Капитану Америке сейчас отвесят пощечину.
– Он, блядь, солгал мне? Этот сукин сын СОЛГАЛ мне?
Не в силах больше сидеть, я вскакиваю на ноги и начинаю расхаживать по комнате. Не могу в это поверить. Не могу поверить, что снова повелась на его уловки.
– Хорошо, а теперь давайте сохранять спокойствие, – говорит Дарси обеспокоенным тоном.
– Спокойствие? – Я разворачиваюсь, чтобы посмотреть на нее. – Ты хочешь спокойствия? Я покажу тебе гребаное спокойствие! Я так спокойна, что мои руки даже не будут дрожать, когда я отрублю ему чертову голову!
Табби говорит: – Виктория, пожалуйста, не отрубай мне голову за то, что я это говорю, но чего ты ожидала? Ты знаешь его лучше, чем кто-либо другой. Он лжец. Это его обычное поведение.
И у него это так хорошо получается.
Паркер действительно заставил меня поверить, что у него есть ко мне чувства. Все это казалось таким… реальным.
Хотя на самом деле это была просто блестяще рассчитанная ложь, чтобы заставить меня ослабить бдительность, чтобы он мог трахнуть меня.
Чувствуя тошноту, я опускаюсь обратно в кресло.
Дарси переводит взгляд с меня на Табби.
– Хорошо, может кто-нибудь, пожалуйста, рассказать мне, что именно связано с этим парнем? Всё, что я знаю, это то, что у вас двоих есть прошлое. Насколько оно велико?
В этот момент звонит мой мобильный телефон. Я оставила его на стойке у раковины, когда уходила накануне вечером. Мы втроем смотрим на него.
– Ты собираешься ответить? – спрашивает Дарси, когда телефон продолжает звонить.
– Табби.
По моей подсказке она подскакивает к стойке и берет телефон в руки.
– Это он.
Я делаю рукой поперек шеи движение, словно перерезаю горло. Она нажимает кнопку, и звонок прекращается.
На кухне воцаряется тишина, пока Табби не спрашивает: – Так там был сейф?
Я киваю.
– Настенный сейф. Спрятан в его кабинете за картиной «Влюбленные» Магритта32.
Ее глаза расширяются.
– Ты шутишь.
– Нет.
– Вот это символизм! – восклицает Табита.
Дарси вздыхает.
– Переведи, пожалуйста.
Табби помогает ей понять суть.
– Это знаменитая французская картина, на которой двое влюбленных целуются, но их головы покрыты белыми вуалями. Тканевый барьер препятствует истинной близости между влюбленными, превращая акт страсти в изоляцию. Обычно это интерпретируется как рассказ о неудовлетворенных желаниях, о неспособности полностью раскрыть истинную природу даже наших самых близких спутников жизни.
Дарси смотрит на меня.
– Я спрошу тебя позже, каково это – проводить дни с ходячей энциклопедией, но сейчас ответь мне вот на какой вопрос: что в сейфе?
– Я не знаю. Это то, что мне нужно выяснить. Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти его, поэтому я не хотела рисковать и тратить больше времени на поиски ключа. – Мое лицо каменеет. – Я сделаю это в следующий раз.
Табби бросает взгляд на Дарси, а затем переводит свой немигающие зеленый глаза на меня.
– Я уверена, что ответ отрицательный, но я все равно должна спросить; когда ты играла в прятки и рылась в его шкафу в поисках одежды и прочего, ты ведь не проговорилась ему о другом, не так ли?
Дарси оживляется.
– Что еще?
Я в ярости, и гнев затуманивает мой рассудок. Я выпаливаю: – Ребенок.
Дарси смотрит на меня в полном замешательстве.
– Ребенок? Какой ребенок?
Дерьмо. Отличная работа, Виктория.
Я закрываю глаза. Когда открываю их снова, весь гнев уходит. Все, что осталось, – это огромная, давящая чернота.
– Табби, отмени все, что у меня запланировано на вторник. И позвони в NetJets. Закажи мне билет на первый рейс до Ларедо.
– Почему? Что ты собираешься делать?
Я смотрю на нее, потом на Дарси. Я ясно вижу беспокойство на их лицах, но все, что меня сейчас волнует, – это закончить то, что я начала. И есть только один человек в мире, который может мне в этом помочь.
– Я собираюсь повидаться со своей дочерью.
У Дарси отвисает челюсть. Табби качает головой и вздыхает.
А я поворачиваюсь, чтобы пойти в свою спальню собирать вещи.
Глава двадцать вторая
ДВАДЦАТЬ ДВА
Виктория
Когда я хихикаю, Паркер пытается утихомирить меня, но сам тоже смеется. Он ничего не может с собой поделать; ему нравится мой смех.
– Бел, нам нужно вести себя тихо. Мои родители не должны знать, что ты здесь.
– Щекотно! – Я пытаюсь не шевелиться, пытаюсь заглушить визг удовольствия, отчаянно рвущийся из моего горла.
– Щекотно?! – Паркер притворяется оскорбленным. – Это должно быть приятно!
Он медленно проводит кончиком пера между моих обнаженных грудей, вниз по грудной клетке и по животу. Когда он проводит пером вокруг моего пупка, мне приходится прикрыть рот и прикусить губу, чтобы не завизжать от смеха.
– Это действительно приятно. Но еще и щекотно.
Паркер ухмыляется. Он вытягивается обнаженный рядом со мной, опираясь на локоть, его золотистые волосы растрепаны, а тяжелая нога перекинута через мои. Мы в его постели в доме его родителей, простынь натянуты на его голове и плечах, и мы уютно устроились в нашем собственном прекрасном мире. Сейчас одиннадцать часов дождливого школьного вечера, и я, как обычно, улизнула из дома, чтобы навестить его на другом конце города.
Мои родители крепко спят, но я делю спальню со своим младшим братом. У Паркера, единственного ребенка в семье, огромная спальня на верхнем этаже особняка его родителей, вдали от вечеринки с коктейлями, которая проходит в большой гостиной внизу.
Его родители любят устраивать такие вечеринки. Мои же любят есть размороженные ужины перед телевизором.
– В книге говорилось, что это должно быть суперсексуально. Ты должна быть, типа, вся на взводе прямо сейчас. – Он поджимает губы, пытаясь выглядеть суровым. – Ты не кажешься очень возбужденной.
– Если не считать попытки не намочить штаны из-за того, что я так сильно смеюсь, то я очень возбуждена.
Паркер проводит пером ниже по моему животу, над тазовой костью, по верхней части бедра. Когда он проводит пером между моих ног и я вздрагиваю, он улыбается.
– На тебе нет штанов, – шепчет он и наклоняется, чтобы поцеловать меня.
– На тебе тоже. – Я провожу рукой по его напряженному члену, который беспокойно дергается у меня возле ноги.
Его улыбка, которая всегда наготове, появляется снова.
– Как это мне так повезло быть с самой наблюдательной девушкой в городе?
Теперь моя очередь притвориться оскорбленной.
– Наблюдательная? То есть ты говоришь, что любишь меня за мой ум?
Его улыбка исчезает. В его глазах появляется такой теплый взгляд, что я чувствую, как меня обдает жаром.
– Да, я люблю тебя за твой ум. И за твое сердце. И за твою душу, и за твои глаза, и за твои волосы, и за твою улыбку, и за то, что я чувствую себя ростом в десять футов, когда ты смотришь на меня. Я люблю тебя, потому что рядом с тобой я больше становлюсь собой. Рядом с тобой, Бел, я самый лучший из всех, кем когда-либо буду.
Паркер прижимается горячей щекой к моей груди. Мое тело гудит от радости. Я обвиваю его руками и закрываю глаза, мое сердце так переполнено, что вот-вот разорвется.
Никто никогда не говорил мне, что всё может быть так. Никто никогда не говорил, что будет так легко потеряться в красивом, блестящем мальчике. Потерять себя и найти себя, всё сразу.
Без предупреждения дверь спальни Паркера распахивается и с оглушительным грохотом ударяется о стену. Мы оба подпрыгиваем под простынью.
– Кто там у тебя в постели, парень? – гремит отец Паркера. – Только не эта чертова шлюха!
Внезапным движением, которое заставляет меня ахнуть от шока, простынь срывается. Мы с Паркером, обнаженные в объятиях друг друга, в ужасе смотрим на мертвенно-бледное лицо его отца. Паркер вскакивает, пытаясь накрыть меня простыней, но его отец наотмашь бьет его по лицу, отчего сын пошатывается. Он натыкается на стул, теряет равновесие, ударяется о комод, а затем падает на пол. Билл Максвелл искоса смотрит на меня, когда я съеживаюсь на кровати и начинаю плакать.
– Еще раз найду тебя в этом доме, маленькая мексиканская шлюшка, и ты раздвинешь ноги перед обоими Максвеллами.
Паркер вскакивает на ноги. В ярости с красным лицом он бросается на отца, но слишком поздно. Мужчина постарше, бывший квотербек, широкий в плечах и сильный, как бык, наносит Паркеру удар в солнечное сплетение, который сбивает его с ног.
Я кричу, когда Паркер врезается в стену. Все окна дрожат от силы удара. Он соскальзывает на пол, хватаясь за живот и хватая ртом воздух.
Прежде чем его отец выходит из комнаты, он смотрит на меня, съежившуюся на кровати, на его сына, хватающего ртом воздух на полу, затем поправляет галстук и проводит рукой по волосам. Он даже не вспотел.
– Мой сын не будет водиться с прислугой. Тебе нужно принять решение, парень. Оставить себе свою шлюху или оставить себе наследство. Если ты выберешь ее, то останешься без гроша, слышишь? – Он смотрит на меня с ненавистью в глазах и злобно шипит: – Не трать всю свою жизнь на никчемную коричневую киску.
Когда он уходит, я сползаю с кровати и подлетаю к Паркеру. Я сворачиваюсь в клубок рядом с ним, прячась, всхлипывая, слушая, как Паркер хрипит и задыхается, изо всех сил желая, чтобы я была другой девушкой, достаточно хорошей для кого-то вроде него, достаточно хорошей для его родителей, его будущего и всего того, что ему суждено было сделать,
Другими словами, хотела бы я быть белой.
***
Частный самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу, и я просыпаюсь от толчка.
Мое сердце бешено колотится. Затылок покрывается испариной. Я нащупываю в сумочке лекарство и запиваю таблетку глотком воды из бутылки Evian, стоящей на маленьком столике передо мной. Затем я на мгновение замираю, позволяя своему дыханию замедлиться, а ужасным образам и чувствам из сна – рассеяться.
Ночные кошмары, ненависть к себе и старые горькие воспоминания. Так всегда бывает, когда я приезжаю домой. Вот почему я так редко это делаю.
На взлетно-посадочной полосе меня встречает частный автомобиль, который заказала для меня Табби. Я взяла с собой только самое необходимое – я не собираюсь задерживаться надолго – и вскоре мы с молчаливым водителем уже едем к дому моей матери. Он то и дело поглядывает в мою сторону через зеркало заднего вида. Я рада, что на мне солнцезащитные очки и что я повязала волосы шарфом; меньше всего мне хочется, чтобы меня узнали. Именно здесь.
Еще одна причина, по которой я так редко приезжаю домой.
Дорога до ранчо не долгая, но к тому времени, когда я наконец стою на крыльце дома моей матери с сумкой Louis Vuitton в руках, я чувствую себя меньше, чем когда-либо за последние годы.
Я чувствую себя униженной.
Я оглядываю невзрачный двор, курятник, который моя мать отказалась снести даже после того, как смогла позволить себе покупать яйца, бескрайние возделанные поля по одну сторону дороги за белым дощатым домом и дикие заросли кустарника и мескитового дерева по другую.
Боже, как я ненавижу это место.
Я нажимаю на звонок. Мама открывает дверь. Мгновение мы молча смотрим друг на друга. Она выглядит старше. Похудевшая. В ее иссиня-черных волосах гораздо больше седины.
– Hola, mama, – тихо говорю я.
Она смотрит на спортивную сумку у меня в руках, но не спрашивает, надолго ли я приехала. Ее темные глаза встречаются с моими. Она мгновение изучает мое лицо, а затем говорит по-испански: – Я только что приготовила позоле. Проходи. Оно еще теплое.
Мы заходим внутрь. Как только я переступаю порог, на меня наваливаются мрачные воспоминания, старые призраки, которые давно ждут в холодных могилах моего возвращения.
Я и забыла, какой маленький этот дом. Всё точно такое же, как в тот день, когда я подростком уехала в Нью-Йорк, вплоть до горшков из макраме, наполненных сухими папоротниками, которые свисают с потолка, и пыльных стопок журналов National Geographic, заполняющих два книжных шкафа по бокам от простого кирпичного камина.
Глубоко вздохнув, я бросаю сумку на диван в гостиной. В последний раз, когда я была здесь, это было осенью, во время сбора урожая, воздух благоухал насыщенным ароматом вспаханной земли. Сейчас весна, прохладно и свежо, и в воздухе пахнет удобрениями.
Этот запах всегда угнетал меня.
Мама ставит на кухонный стол дымящуюся миску с позоле. Я снимаю туфли на каблуках, очки и шарф, выдвигаю стул из-за круглого деревянного стола, за которым я ела все свои детские блюда, и сажусь.
Она садится напротив меня и наблюдает за тем, как я начинаю есть. Мама смотрит на часы с бриллиантами на моем левом запястье, на ожерелье из черных жемчужин у меня на шее, на такие же жемчужины в моих ушах. В ее взгляде чувствуется тяжесть и ощутимое тепло, как от прикосновения руки.
– Пять лет. Ты хорошо выглядишь, mija. Правда, слишком худая.
Я прихлебываю суп. Он восхитительный, единственное блюдо, которое она готовит превосходно. Я скучала по нему, по этому сытному крестьянскому супу. И, хоть я и удивлена, осознаю, что также скучала и по ней.
Я глубоко переживаю за свою мать, но находиться в ее присутствии – все равно что сдирать струп до того, как рана успеет зажить. Снова и снова.
– В Нью-Йорке нет ни одного приличного мексиканского ресторана.
– В Нью-Йорке нет ни одного приличного заведения.
Мы оба знаем, о ком говорим, но продолжаем делать вид, что не знаем.
– Поля выглядят неплохо.
– Э-э. Компания, которую ты наняла для их разработки, очень хороша. Слишком хороша. Мне целый день нечего делать, я просто сижу и смотрю, как старею. Тяжело так жить. – Ее взгляд, всё еще теплый, но, боже, такой проницательный, не отрывается от моего лица. – Ты же знаешь.
Да, я знаю. Семь месяцев я сидела без дела в этом доме. Семь месяцев вынужденного одиночества, расхаживания взад-вперед, разглядывания стен и попыток не сойти с ума, в то время как ребенок Паркера рос внутри меня. Мой отец не выпускал меня из дома, пока беременность не закончилась. Говорил, что позор слишком велик. Говорил, что именно это заставляет его пить, и пить, и пить.
Ближе к концу беременности отец уже не мог смотреть на меня и почти не ночевал дома. Тогда-то я и начала писать, в те бесконечные черные ночи, когда я слышала, как мама тихо плачет в своей комнате, когда каждая секунда была часом, каждый час – целой жизнью, а каждый тикающий звук часов был настоящей пыткой для моих ушей.
Я начала писать, чтобы избавиться от ужасающего чувства, что схожу с ума.
Я делаю еще глоток супа.
– Как дела в церкви?
Моя мама пожимает плечами и отводит взгляд. В уголках ее глаз и вокруг рта залегли глубокие морщины. Ее волосы собраны в тугой пучок на затылке. Несколько непослушных прядей выбились и вьются вокруг лица, отливая серебром в послеполуденном свете.
– Я все еще хожу. Но у нас с Богом есть разногласия. Я теперь не так много с Ним разговариваю.
Где-то вдалеке лает собака. Это самый тоскливый звук, который я когда-либо слышала.
– Я все время говорю тебе, что мы можем переехать, мама. Нет смысла оставаться в этом доме. Уже много лет как нет.
Снова появляется безнадежное пожатие плечами.
– А куда идти? И что делать? Эх, я не могу начать все сначала, mija.
Здесь небольшое ударение на «Я». У меня от этого волосы встают дыбом.
– И что бы ты хотела, чтобы я сделала? Остаться здесь, с тобой, после того как…
Мама перегибается через стол и сжимает мою руку.
– Нет. Правильно, что ты уехала. По крайней мере, один из нас сбежал из этого места.
Мы сидим в тишине, а собака продолжает лаять. Потом, потому что она моя мама и потому что она так хорошо меня знает, она без слов понимает, зачем я пришла и что мне нужно сделать.
– Она подросла. Ты ее не узнаешь.
Я смотрю на дно своей тарелки, на то, как оно начинает медленно покачиваться, а затем быстро моргаю, чтобы прочистить глаза.
– Ты все еще ездишь в школу?
– Только в действительно плохие дни. – Мама делает паузу. – Я была там после того, как увидела тебя и его на фотографии в газете.
Она не произносит имени Паркера. Мама не произносит его с того дня, как я прочитала письмо, которое он мне отправил, и не переставала кричать, пока не приехали парамедики и не сделали мне укол.
Когда я поднимаю глаза, то замечаю, что мамин рот стал более жестким. В ее глазах стальной блеск.
– Ну? Что происходит?
Мне не нужно спрашивать, что она имеет в виду. Я откидываюсь на спинку стула и отодвигаю тарелку, готовясь отчитаться.
– Я заманила его туда, куда хотела. Я нашла его сейф; я в него залезу. Табби прорабатывает свои ходы, собирает информацию о нем и его семье. Скоро у нас будет что-то, с помощью чего мы сможем его уничтожить.
С невероятной горячностью моя мать говорит: – Его отец – проверьте этого сукина сына! Он такой же, как и все они!
Пораженная, я смотрю на нее. Насколько мне известно, моя мать никогда не встречалась с отцом Паркера. Мне всегда совершенно ясно давали понять, что мои отношения с Паркером были таким же позором для старшего мистера Максвелла, как моя беременность для моего собственного отца. Мы были бедными фермерами с кожей не того цвета; они были привилегированной элитой. Моим самым большим преступлением было незнание своего места. Ее реакция не имеет для меня смысла.
– Почему ты так говоришь? Я имею в виду, я согласна с тобой, но…ты когда-нибудь встречалась с ним?
Мимолетное выражение ненависти искажает ее лицо. Оно исчезает почти так же быстро, как появилось. Мама резко встает и идет к раковине. Через плечо она говорит: – Нет. Конечно, нет. Но я кое-что слышала. То, как он обращается со своими работниками, и тому подобное. У него репутация безжалостного ублюдка.
Она открывает буфет, достает стакан, наполняет его водой из-под крана и выпивает все до дна, не останавливаясь, чтобы перевести дух.
Я наблюдаю за ней, отмечая напряженность в ее плечах, легкую дрожь в руке.
– Почему ты так расстроена?
Она отворачивается от раковины, глаза ее блестят. – Он отец того puto bendejo33, который довел тебя до сердечного приступа, вот почему!
Внезапно обессилев, я тяжело выдыхаю.
– Это был не сердечный приступ, мама.
– Фибрилляция предсердий, болезнь сердца, что угодно! Это он виноват! Ты была здорова как бык, пока он не бросил тебя, как вредную привычку. А теперь тебе приходится каждый день принимать лекарства, потому что твое сердце разваливается? Это его вина!
По всей вероятности, у меня с рождения были проблемы с сердцем, но они остались незамеченными. Потребовалось «отягчающее обстоятельство», как выразился врач, чтобы выявить проблему. Но для моей матери таким обстоятельством был и всегда будет Паркер Максвелл.
Просто еще один пункт, который можно добавить к его списку прегрешений.
– В любом случае, я занимаюсь обоими Маквеллами. Это только вопрос времени, когда я что-нибудь откопаю. – Я встаю и подхожу к ней, обнимая ее за хрупкие плечи. – И тогда я сравняю счет. ХОРОШО?
Проходит несколько долгих мгновений, прежде чем напряжение начинает покидать ее тело. Наконец мама вздыхает и похлопывает меня по спине.
– Прости, mija. Я не хотела кричать. Просто устала сегодня.
– Все в порядке, – шепчу я, глядя поверх ее головы в окно, выходящее во двор. – Я тоже устала.
Мама снова похлопывает меня по спине, высвобождается из моих объятий, подходит к большой кастрюле на плите и начинает разливать остатки супа по пластиковым контейнерам, пригодным для замораживания, которые уже сложены на столе. Стоя ко мне спиной, она говорит: – Мы поедем в школу завтра днем. Чистые простыни и полотенца в шкафу в прихожей. В машине полный бак бензина, если она тебе нужна.
Можно сказать еще что-то – всегда есть что-то еще, – но я просто киваю и отодвигаюсь от стойки. Я бреду через гостиную и дальше по коридору, останавливаясь, чтобы посмотреть на выцветшие фотографии нас с братом, вставленные в дешевые пластиковые рамки и развешанные на гвоздиках, забитых в стене. На фотографиях до боли ясно видно прогрессирование его болезни: костыли, инвалидное кресло, больничная койка с металлическими поручнями. Я почти забыла, какой ангельской была его улыбка.
Так много старых призраков. Интересно, отпустят ли они меня когда-нибудь.
С болезненным трепетом в груди я отворачиваюсь от фотографий, несу свою спортивную сумку в комнату, которую раньше называла своей, переодеваюсь в джинсы и футболку, надеваю куртку, наматываю шарф на волосы, надеваю большие черные солнцезащитные очки и беру ключи от маминой машины.
Затем я отправляюсь кататься холодным техасским днем, чтобы посетить все места, которые всё еще преследуют меня.
***
На следующий день в десять минут четвертого мы с мамой сидим на парковке, наблюдая за потоком учеников, которые вырываются из школьных дверей после звонка в конце рабочего дня.
Это хорошая частная школа – здание из красного кирпича с величественными белыми колоннами, расположенное на пышном зеленом холме в престижном районе города. Оно похоже на съемочную площадку. Как шпион, я разглядываю его в бинокль.
– Мы опоздали и упустили ее!
На пассажирском сиденье моя мама щурится от яркого послеполуденного солнца.
– Нет, она не выходила… – Внезапно она хватает меня за руку и указывает пальцем. – Вон там!
Я смотрю в том направлении, куда она указывает, и мое сердце замирает в груди.
Из тени здания на теплый послеполуденный свет выходит девушка. Она высокая, длинноногая блондинка, одетая в школьную форму из белой рубашки и темно-синей клетчатой юбки, в одной руке она держит стопку книг.
Моя дочь – моя прекрасная дочь, прекрасная незнакомка – поднимает руку, чтобы прикрыть глаза от солнца.
Мой голос прерывается, я говорю: – Она такая высокая. Когда она успела так вырасти?
– Дети растут как сорняки. Когда ты видела ее в последний раз, ей было сколько? Десять? Сейчас ей пятнадцать. Молодая женщина.
Пятнадцать. Столько же мне было, когда я встретила Паркера.
За два года до того, как моя жизнь рухнула.
Я поднимаю бинокль и снова смотрю в него. Если присмотреться, Ева еще красивее. У нее ямочки на щеках как у отца и его непринужденная грация. Я, затаив дыхание, смотрю, как она машет нескольким друзьям, затем сбегает по ступенькам, поворачивает за угол и исчезает.
Только когда я убираю бинокль от глаз, то замечаю, что мои щеки мокрые.
Мы с мамой сидим в гнетущей тишине, пока я не прихожу в себя. Она вежливо отводит взгляд. После того, как большинство машин выехало со стоянки и двери школы закрылись, она тихо говорит: – Роберт умер.
Моя голова резко поворачивается. Я пристально смотрю на нее.
– Приемный отец Евы? Когда?
– В прошлом году. Его сбил пьяный водитель.
– Мама! Почему ты мне не сказала?
Мама наконец смотрит на меня. Ее глаза полны сочувствия, и это приводит меня в ярость.
– Почему, mija? Что ты могла сделать?
– Я уверена, что могла бы что-нибудь сделать…
– Нет. – Голос моей матери тверд. – Ты не могла.
Даже сквозь свой гнев я знаю, что она права. Что я могла сделать? Ева не знает меня, никогда не знала. Я бросила ее, когда ей было всего несколько минут от роду. Мне даже не удалось подержать ее на руках. Врач забрал ее у меня и передал на попечение агентства, которое моя мать выбрала для оформления удочерения. С тех пор я присутствовал в ее жизни, лишь скрываясь из виду и украдкой поглядывая на своего ребенка, как вор.
Даже это больше, чем я должна была иметь.
Удочерение было частным, записи засекречены. Но задолго до того, как я наняла Табби, у меня был кое-кто еще, кто прятал и добывал информацию для меня. Мужчина по имени Дуни, с которым я познакомилась в группе психологов после родов. Он был экспертом в области информационных технологий и занимал высокий пост в армии, пока его не уволили с позором за непредумышленное убийство. (Это было как-то связано с его женой и другим мужчиной, хотя он никогда не вдавался в подробности.) Он помог мне создать новую личность на руинах моей прежней жизни, помог узнать, кто усыновил моего ребенка, а позже повесился на стропилах в своем гараже.
Табби, я должна платить. Дуни сделал это, потому что был влюблен в меня.
Птицы с одним оперением слетаются вместе34, так же, как и птицы со сломанными крыльями.
Мама вздыхает. Я знаю, она хотела бы, чтобы я никогда не узнавала, кому отдали Еву, но она давно перестала говорить мне, что эти тайные встречи нездоровы. Кроме того, она и сама не может держаться в стороне. Как и наркоманов, нас по-прежнему тянет к тому, что нас погубило.
– На днях я посетила могилу твоего отца.
Ярость поднимает свою уродливую голову внутри меня. Я бормочу: – Зачем?
Мама на мгновение задумывается.
– Иногда мне нужно с кем-нибудь поговорить.
Мое дыхание со свистом вырывается сквозь стиснутые зубы.
– И ты решила, что человек, который потратил все твои деньги до последнего цента на азартные игры и напился до смерти, а каждую минуту перед этим кричал на меня о том, какой позор я навлекла на семью, потому что забеременела, был тем, с кем тебе нужно по-дружески поболтать?
Ее голос звучит глухо, когда она отвечает.
– Я сказала ему, как сильно я все еще ненавижу его. Что его слабость убила твоего брата. Если бы он не потратил впустую все наши деньги, мы могли бы нанять Эдуардо лучших врачей, оказать больше помощи. Его болезнь не удалось бы вылечить, но он мог бы меньше страдать. Ему не пришлось бы так мучиться, быть изуродованным и беспомощным, испражняться, как младенец. – Она на мгновение замолкает, глядя в окно. Затем: – Надеюсь, твой отец горит в аду.
Я откидываю голову на подголовник и закрываю глаза.
– Эдуардо убил не папа. Это был Паркер. До того, как я забеременела и Паркер бросил меня, у нас всё было хорошо. Всё было хорошо. А потом не стало. Из-за него.
Мама молча кивает. Это старая тема для наших разговоров, настолько заезженная, что нет необходимости произносить ее вслух. Факт остается фактом: Паркер Максвелл стал причиной несчастий моей семьи. Он – крест, на котором висит вся наша боль.
И теперь дочь, которую он никогда не видел, снова осталась без отца.
Когда я делаю глубокий вдох, мама догадывается, о чем я подумала.
– Ты не можешь вмешиваться, mija. Если ты сделаешь что-то, что поставит тебя на путь этой девушки, тебя могут разоблачить. Подумай, что тогда будет.
Теперь я вижу заголовки газет: «У Королевы Стерв есть тайный ребенок от любовника!». Если я попытаюсь помочь Еве и меня раскроют, ее жизнь станет невыносимой. Пресса набросится на нее, как стервятники. А потом она узнает, кто ее настоящий отец, и он бросит ее снова, как сделал пятнадцать лет назад.
– Ты права. Лучше оставить спящих собак лежать, а вместо этого сосредоточиться на том, чтобы выбить дерьмо из их бесполезного хозяина.
Я завожу машину и выезжаю со стоянки, направляясь домой.








