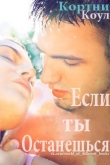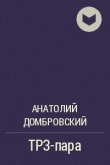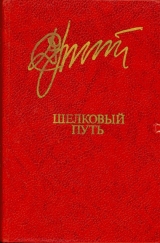
Текст книги "Шелковый путь"
Автор книги: Дукенбай Досжан
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 43 страниц)
Перевод Г. Бельгера
Я еду в горную долину. Мой конь с трудом взбирается по крутизне перевала. Извилистая тропинка тянется все выше, выше. Гладкие камни блестят на солнце серебром. Потому, наверное, и назвали предки перевал Серебряным. Взберешься на его вершину – сердце к горлу подкатит. Глянешь вниз, в пропасть, – голова закружится и в глазах потемнеет. Вот какая высота!
Вдруг слышится шелест. Я смотрю вверх. Огромный орел парит над моей головой.
Я рад ему, как доброму приятелю. Старый, должно быть, орел. Старый, как эти горы. Я помню его с детства. У него и тогда была облезлая шея. Он так же медленно кружил над летним пастбищем. Дети показывали на него пальцами и дружно кричали:
– Эй, старая ворона!
– Дряхлая ворона!
Орлы не боятся зимней стужи. И не улетают в жаркие страны. И этот не раз обмораживал подкрылья на холодных скалах. Однажды едва не поймали его охотники. Но полюбились ему дремучие утесы Серебряного перевала. С годами еще больше к ним привязался. Никуда не улетает. Стережет родные горы. В этой округе его все знают: и старики, и малыши…
Может, и он знает всех, кто живет здесь, в горах и у подножия гор?
Орел провожает меня до самой долины. Потом машет мне на прощанье крылом и круто взмывает ввысь,
Внизу открывается долина. Я вижу серую чабанскую юрту. Стоит одна-одинешенька в бескрайней степи. Издалека она похожа на мерлушковую шапку великана пастуха из сказки.
Мне чудится, будто зовет юрта, манит! «Эй, путник, заворачивай!» Я подгоняю коня.
Еду, еду, а сам удивляюсь. Со странностями, видать, чабан. Другие пастухи, спасаясь от комаров и слепней, давным-давно откочевали к склону гор. Там много травы. И не так жарко в тени. А здесь пустынная степь. Все вокруг вытоптано копытами овец. Ни кустика, ни чахлой травинки. Чуть подует ветер – пыль столбом. И солнце палит нещадно.
Подъезжаю к юрте. Кругом ни души. Только две ласточки с веселым чиликаньем встречают меня. Стоит железная тренога с котлом. Огонь под ним погас. Возле колодца длинное деревянное корыто. И собак не видно. Ушли, наверное, с отарой. Далеко-далеко у холма вьется пыль. Там пасутся овцы. Конечно, пасет эту отару хозяин одинокой юрты.
Слезаю с лошади. Привязываю поводья к седлу. Вхожу в юрту. Здесь темно. Только с потолка, через полуоткрытый деревянный круг, струится свет. Я приподнимаю полог на двери, прикрепляю его к притолоке. В юрте сразу становится светлей.
Юрта как юрта. Простое, скромное убранство. На почетном месте стоят два старых кованых сундука. На них сложены цветастые стеганые одеяла. Посередине низенький круглый столик. Пол застелен кошмой. У входа на стенке висит конская упряжь. На потолке между реечками ласточки свили гнездо. Они носятся взад-вперед. Верещат без умолку. Вольно им здесь живется!
Пожалуй, отдохну с дороги, И конь пусть отдохнет. До аула еще неблизко. Поеду вечерком, когда спадет жара.
Хорошо в юрте. Тихо, прохладно. Сейчас полдень. Любопытное солнышко заглядывает в потолочный круг. В ласточкином гнезде попискивают птенцы.
Издалека, постепенно нарастая, доносится шум. Блеют овцы. Они спешат к колодцу. Слышится зычный окрик чабана, лай собак, потом – приближающиеся шаги,
– Здравствуйте!
Я проворно вскакиваю и, по обычаю, протягиваю обе руки.
– Алейкум салем! – сдержанно отвечает мне хозяин.
Да это же дедушка Бекнур! Постарел он, ссутулился. Согнули годы его некогда крутые плечи. Борода длинная. Виски белые. Глаза ввалились. Лицо в глубоких морщинах.
Я называю себя. Дедушка сразу оживляется. Он снимает войлочную шляпу, а круглую тюбетейку под ней передвигает на затылок. Так же не торопясь стягивает пыльные, тяжелые сапоги. Ставит их у порога. Только потом садится на подстилку рядом, гладит бороду, начинает расспрашивать о здоровье, о делах.
– Ну и ну! – удивленно покачивает он головой. – Еще недавно ты был мальчик с пальчик. А теперь – вон какой джигит вымахал.
– И вы, дедушка, изменились, – говорю я,
О, когда-то дедушка Бекнур вихрем мчался по этой степи! Земля дрожала под копытами его скакуна. Отчаянным был наездником. Никто не мог за ним угнаться. Теперь он стал степенным стариком. Мало говорит, много думает.
Появляется старушка. С утра, видно, собирала хворост. Отряхивает одежду у порога. Вытирает потное лицо. Она тоже не сразу узнает меня.
– Это же Далабай, – подсказывает дедушка. Старушка ласково улыбается, спрашивает о знакомых, о родственниках. Потом идет ставить самовар.
Дедушка Бекнур молча разглядывает свои мозолистые ладони и внимательно слушает меня. Нет у дедушки ни детей, ни внуков. Единственный сын погиб на войне.
Он вытирает полотенцем широкую, крепкую еще грудь, закладывает под язык щепотку насвая.
За юртой завывает ветер. Вихрь-озорник гонит облако пыли.
Я спрашиваю:
– Почему одни вы остались в голой, выжженной степи? Ведь все чабаны давно откочевали?
Не сразу отвечает дедушка Бекнур. Теребит по привычке бороду. Встает и семенит к двери. Выплевывает табак. Потом набирает воды из чайника, полощет рот.
– И овец далеко гнать на выпас, – продолжаю я. – Сколько хлопот вам прибавилось.
– А что делать? – Дедушка хмуро косится на потолочный круг. – Видишь, где устроились эти щебетуньи? Птенцов вывели. В новолуние, думаю, полетят пискуны. Не мог же я разобрать юрту, погубить ласточкино гнездо. Вот и сижу теперь.
Старик чуть улыбается. Я знаю: он только говорит ворчливо, а на самом деле рад ласточкам и их крохотным птенцам. Нежность и доброта угрюмого с виду чабана меня поражают.
Старушка вносит самовар. Он жарко дышит, отдувается. Мы пьем густой чай со сливками.
После полудня я вновь отправляюсь в путь. Долго сопровождают меня, ликующе вереща, две ласточки.
Ровной рысью идет мой конь. Я думаю о старом орле, о добром дедушке Бекнуре, о двух неугомонных ласточках, свивших гнездо в одинокой чабанской юрте в степи.
Нет на свете ничего дороже родной земли и родной природы.
БАЙГАПеревод Г. Бельгера
– Гони! – раздался резкий окрик. Далабай сжался в комок, припал к гриве коня. Десять скакунов разом сорвались со стартовой линии и понеслись галопом.
Керкиик – опытный скакун. Он знает: если наездник приник к гриве и ослабил поводья – нужно скакать во весь опор.
Земля стремительно уплывала назад. Дробно цокали, лопотали копыта. Цок-цок, лоп-лоп… Будто черные смерчи помчались по рыжей степи.
В клубах пыли Далабай сначала ничего не разглядел. Он вспомнил наставления отца, старого наездника: «Смотри, наглотается конь пыли – быстро выдохнется». Далабай круто повернул в сторону.
– У-ух! Наконец-то вырвался.
Еще минуту назад кони шли плотной, тесной группой, а теперь растянулись длинной журавлиной стаей. Керкиик скакал посередине.
Далабай с шести лет скачет на лошадях. Сейчас ему уже десять. Наловчился. Знает толк в лошадях и верховой езде. Он легкий, как пушинка, и цепкий, как клещ. Потому и доверили ему скакать на Керкиике, защищать честь всей округи Каратау.
Маленькому наезднику известны два вида скачек. Первый – скачки по кругу. Скакуны мчатся в широкой, открытой степи, вокруг заранее расставленных отметок. Зрители могут наблюдать за состязанием от начала до конца. Вся борьба видна как на ладони. Такие скачки называются у казахов айналма-байга.
Второй вид – скачки напрямик. Коней собирают далеко в степи и пускают в сторону аулов. В таких случаях зрители не видят скачек. Они могут любоваться лишь их концом, узнать, кто пришел первым. Айдама-байга – так называются эти скачки.
Сегодня проводилась айналма-байга. Скакали пять кругов, по шесть километров каждый. После тридцати километров – конечная черта. Финиш!
Далабай так волновался, что и не заметил, как кончился первый круг. На холме восторженно кричала толпа. Мальчик пристально посмотрел вперед. Стрелой мчался темно-рыжий. За ним – вороной из города. Его еле видно было в густой пыли. Всех прочих скакунов Керкиик оставил позади.
Далабай перекинул густую гриву на другую сторону. Приятно коню, когда встречный ветер обдувает потную шею. Потом сдегка натянул повод. Надо вовремя попридержать разгорячившегося скакуна. Перевести на размеренный, плавный бег. Иначе он быстро запарится и сойдет с пути.
В конце второго круга один из скакунов догнал Керкиика. Кони шли голова в голову, бок о бок, касались крупами. Но Керкиик так и не дал себя обогнать. Он весь вытянулся и летел птицей над степью.
Далабаю опять вспомнился отец. Он большой знаток лошадей и готовил их для скачек. Нелегкое это дело – скакуна выхаживать. И забот и хлопот много. Пощупает отец подгрудок коня и сразу все знает. «Ну, – говорит он Далабаю, – сегодня ты перестарался. Смотри, как конь тяжело водит боками. Нельзя скакать как безумный. Эдак коня угробишь». Иногда отец говорит совсем непонятно. «Сегодня у коня выступил грязный пот, – скажет. – Завтра выжмем чистый». В другой раз озабоченно заметит: «Вот раздышит конь легкие, тогда и на выстойку поставим». Накануне скачек отец и вовсе покоя не знает. Поднимается в полночь. Проголодавшемуся на выстойке скакуну дает хорошо проваренный ячмень. Потом окатывает его студеной водой. Потом растирает грубой холстиной. Расчесывает гриву, хвост. Прилаживает узду, повод…
Утром отец сказал:
– Конь так и просится в байгу!
Далабай все понял. Отец вообще немногословен. «Конь не подведет. Теперь все зависит от тебя» – вот что означали слова отца.
Далабай достал из-за пояса штанов платок. Подтянулся, крепко держась за гриву, глаза коню вытер. Тяжело скакуну, когда соленый пот заливает глаза. Пот струится и по бокам, пощипывает, жжет голые ноги всадника.
Заканчивался третий круг.
Еще ни разу мальчик не ударил Керкиика плетью.
Хорошо идет скакун – легко, ровно. Ветер свищет в ушах. Грива развевается, хлещет по лицу. Керкиик стремительно настигал темно-рыжего.
Тот был весь в мыле. Скакал грузно, из последних сил. Тяжело всхрапывал. Сразу видно – плохо подготовлен конь для скачек. Мало простоял на выстойке. Помнится, так было и с Керкииком, когда он впервые участвовал в байге.
Наездник, совсем еще мальчишка, огрел темно-рыжего плетью. Потом еще ударил. Еще… Еще. Он не хотел, чтобы его обогнали, и хлестал коня нещадно. Кони шли на последнем дыхании. Темно-рыжий надсадно дышал, ронял хлопья пены. Далабаю жалко его стало. Даже в сердце кольнуло.
И вдруг…
Раздался треск, будто лопнуло что-то. Далабай в испуге зажмурился. Неужели подпруга порвалась? Проскакав сгоряча еще немного, он наклонился, посмотрел. Подпруга была цела. Отставая, темно-рыжий задел боком стремя. Подпруга ослабла, и седло заскользило взад-вперед.
Как же быть?
Впереди еще три круга. Остановить скакуна нельзя. Тогда все сразу обойдут его да еще в пыли оставят. И продолжать скачки на скользящем седле невозможно: и коню неудобно, и сам не удержишься, слетишь. Надо подтянуть подпругу на всем скаку. Тут нужна ловкость и сноровка.
Далабай зубами вцепился в повод. Осторожно наклонился. Достал конец широкой подпруги. Чуть-чуть, пальца на четыре, отпустил ее еще. Потом резким рывком застегнул застежку выше порвавшейся дырки. Седло сразу укрепилось.
Маленький наездник успокоился. Повеселел. Но Керкиик за это время сбился с шагу, сбавил скорость. Далабай понимал – сам виноват. Не надо было так тесно сближаться с темно-рыжим.
А байга разгоралась. Все стремительней скакали кони. Казалось, буря безумствовала в степи. Другие скакуны настигали Керкиика. По-прежнему шел впереди вороной из города. Он оторвался на полет стрелы. Если не догнать его сейчас, потом будет уже поздно. И тогда…
Далабаю даже представить было страшно, что будет тогда. Все хлопоты и надежды отца, все старания Далабая окажутся напрасными. Как он посмотрит тогда друзьям в глаза? И Керкиику не будет больше удачи. Горький комок подкатил к горлу мальчика.
И тут он впервые хлестнул коня плетью. Толпа на холме в неистовом реве снова откатилась назад.
Вороной мчался впереди без удержу. Это был знаменитый скакун. «Крылатый дух байги» – так говорили о нем в аулах. Сам хозяин, рослый, крупный джигит, гордо восседал в седле. «А не тяжело коню будет?» – спросили перед байгой старики. «Что вы! – махнул рукой джигит. – Вы разве не знаете, какой он выносливый! У него хребет железный. Не могу же я такого скакуна доверять мальчишкам-сосункам». Самоуверенный малый. На других скакунов и смотреть не стал. Только посмеивался в черные холеные усы. Что же… Вороной действительно хорош. Быстроногий, сильный. С самого начала байги идет впереди.
Удар плетью подстегнул Керкиика. По телу его пробежала дрожь. Ветер туго ударил в грудь. Далабай едва не задохнулся. Он отпустил поводья. Между ушами Керкиика видел он, с какой яростью мчится впереди скакун. Но расстояние между ними сокращалось. Всадник уже слышал топот копыт вороного, и пыль из-под ног его била в лицо.
– Ну, поддай, милый! Давай, родной! – подбадривал юный наездник своего любимца.
Керкиик достигал вороного. Долговязый джигит сидел в седле прямой, как кол, и руки-ноги его болтались, будто у тряпичной куклы. Конечно, грузноват он для скачек. Напрасно не послушался стариков. «В долгой байге даже поесть коню в тягость», – бывало, говорил отец. И еще он посмеивался над скачками на городском ипподроме: «Это не байга, а глупая забава. Лошадки малюсенькие, тощие. А всадники – тяжеленные дяди. Трясет их в седле, словно мешок с картошкой. Бедных коняг едва хватает на один круг. Лишь начнут скачку – и уже конец. Смотреть не на что. Только людей смешат и коней позорят». Наверное, этот долговязый на вороном тоже привык к городским состязаниям. Байга в степи – это совсем другое. Она под силу лишь скакуну из скакунов. Долог его путь, стремителен бег.
И нет на свете красивее зрелища степной байги!
Ух-х! Обошел-таки Керкиик вороного.
Оставался еще один круг. Последний и самый трудный.
Топот скачущего коня звучит как музыка домбры. Красив конь! Стелясь над землей, далеко закидывает ноги. И бег его похож на радостный полет птицы. Далабай едва не соскальзывает с седла. Пальцы судорожно вцепились в гриву. Он уже не подгоняет коня плетью. Мальчик весь в его власти. Скакун – во власти бешеного намета.
Близится полдень. Солнце печет. В степи наперегонки мчатся смерчи. Из-под копыт испуганно взлетают жаворонки: фр-р!.. фр-р!!!
Уже видна конечная черта. Склоны холма черны от людей. Собрались и конные, и пешие. Все с нетерпением ждут победителя. Сердце наездника радостно забилось. Видит ли его сейчас отец? Где он? Галдят мальчишки на стригунках. В руках у них белые платки. Это коноводы. Они должны водить скакунов после байги. Ведь нельзя сразу остановить взмыленного, разгоряченного коня. Его нужно долго водить под уздцы, чтобы он остыл, успокоил дыхание.
Вот она, конечная межа!
Степь гудела. Толпа качалась, кричала, ликовала. Подбадривала победителя. Радость охватила Далабая. Ему казалось, что он летит на крылатом коне-тулпаре, воспетом в песнях и сказках. Звездой падучей пронесся Керкиик мимо холма.
Ура-а! Он победил в байге! Он выиграл первый приз!
Никогда еще не был Далабай так счастлив, как сегодня. Мальчишка-коновод поскакал рядом, принял из рук Далабая повод, повел Керкиика. Далабай опустился на траву. Ноги затекли от долгой скачки. Все вокруг покачнулось, поплыло перед глазами… Скакуны, распластавшиеся над степью… Руки, напряженно державшие поводья… Клубящаяся пыль…
Подбежал отец. Подхватил сына на руки. Подкинул, будто шапку-ушанку. Он был взволнован. Голос его дрожал.
– Жеребенок мой! – ласково бормотал он. – Достойный потомок предков наших славных!
Олжас Сулейменов
СЛОВО О ПИСАТЕЛЕ
Шелковая нить мягка на ощупь и прочна. Она выдерживает натяжение грузов весом в целые державы и эпохи. Это историческая шелковая нить, связующая времена, поколения, судьбы целых народов, так что значит на ней пылинка одной человеческой судьбы, хотя из таких мерцающих и плывущих в солнечном свете пылинок состоит, может, сама История, и видеть в малом большое, и распознавать большое, как состоящее из малых частей, должен пристальный глаз художника, и тогда, наверное, не ускользнет от него главное – та истина, ради которой он стал дышать полынным и дымным воздухом прошлого, дабы понять настоящее и увидеть завтрашний день. И взгляд этот должен быть острым, чтобы блеск древнего оружия и пышность нарядов не заслонили собой лицо человеческое и сердце, истерзанное муками. Разглядеть человека под рубищем дервиша, увидеть несчастные глаза под тюрбаном, украшенным царским алмазом, понять страдание танцующей перед праздной толпой рабыни… И не столь важны становятся для писателя золотые светильники и тяжелые ковры, конная сбруя и святые слова Великой книги на синей стали. Главное – это человек, это мысли и страсти его, его горькая печаль и неизбывная тоска, светлая мечта его, прекрасное сердце. И тот, кто понял это, находит волшебные слова, воскрешающие целый мир, и ему удается излить на бумаге свои горести, страдания, свою неудовлетворенность, обжигающие мозг мысли, дабы связать крепче тающие времена, ускользающие призраки, населявшие иные лета, Великой Шелковой нитью единства прошлого и настоящего и провести себя и других по тому пестрому, красочному, богатому и кровавому Шелковому пути, по которому скачут кони напоминаний, сверкают клинки предупреждений, на котором мерцают крохотными огоньками жизни маленьких людей, и эти огни, сливаясь, создают Огромный Млечный путь истории, и нужен острый взгляд, чтобы разглядеть и каждую отдельную искорку, и вселенское пламя. В этом взгляде и в этих мыслях кроется и разгадка пути художника.
Восемнадцать рассказов-самоцветов, вошедших в книгу Дукенбая Досжанова вместе с романом «Шелковый путь», написаны в разное время и щедро отданы читателю. Д. Досжанов – умелый гранильщик своих камений, вобравших в себя чистый свет и теплый голос мастера, пользующегося особыми резцами, только своими инструментами.
Но у каждого мастера есть свои любимые напевы, свои мотивы. У Досжанова это прекрасно обыгранные глубокие морально-этические проблемы становления личности в ураганных условиях крутых жизненных перемен. Ему присуще сыновнее поклонение родной земле, щемящая сердце нежность и умная любовь к ней, чувство долга перед ней, искренность и истинность убеждений, осознанная ответственность перед собой и временем. Все, о чем пишет Дукенбай Досжанов, и спето вдохновенно, напряженными струнами домбры в руках акына. Иными не могут быть глаза и сердце писателя. Точность социального анализа казахской действительности, психологическая разработка характеров, сложный, звучный, узорчатый, многоцветный слог, высокие стилистические достоинства рассказов Д. Досжанова превращают их в яркое явление современной казахской прозы.
Автор сам напряжен, как струна кобыза, и голос его звучит то в мистическом нижнем регистре, то в жизнелюбивом верхнем, и это, наверное, оттого, что чуток он к речи своих земляков, умеет слушать гортанные голоса вольных табунщиков, многодумных чабанов, влюбленных в землю дехкан. Эти голоса для художника – истинные самородки. И собранный материал отвечает благодарностью, становится напевным, приносящим радость и раздумье. Эта легкость и стройность приходит через муки.
О современном казахском ауле, о его людях, о том, как мучительно непрост бывает подчас путь к новому, говорится гортанным степным речитативом в рассказе «Кому нужен умный совет?..» А память о добрых народных традициях, мысль о непреходящей ценности и подлинной стоимости человеческого благородства стала темой рассказа «Кумыс», такого же серебряного, пенного и хмельного, как этот степной напиток. В рассказе «Братья» раскрыты противоположные, полярные, похожие несхожестью на суровые пески и гордые горы характеры двух братьев, своей жизнью отвечающих на вопрос о смысле человеческого бытия.
Как сохранить святую доброту земли, округлой и полной жизни, теплой, как материнская грудь, как поднять нежные зеленые ростки молодого поколения до мудрой зрелости, как сделать наших детей бережливыми хозяевами – над такими вопросами раздумывает писатель в рассказе «Урюк», ароматном, как оранжевые сочные плоды этого солнцелюбивого дерева. Люди приходят и уходят, а земля остается, и в трактовке автора эта извечная истина обретает еще одну светлую окраску – родная земля мудра и благодарна, она отдает свое тепло и ласку, если беречь ее и почитать, если любить ее, как родную мать, давшую и дающую жизнь.
Немаловажно при встрече с писателем расслышать его голос. У Дукенбая Досжанова он густой и теплый, пропитанный ароматом родной степи. Он четок, конкретен, гибок и звучен. Известный переводчик, тонкий знаток казахского литературного языка, Герольд Бельгер писал: «Среди лексических определений коня, казахских убранств, которые использует писатель Дукенбай Досжанов, питающий пристрастие к этнографическим деталям, встречаются и такие, которые мне в жизни не доводилось встречать». Еще, помню, немецкий литературовед и критик Леонард Кошут писал: «Я ощутил в повести «Полынь и цветы» желание прочно связать настоящее с минувшим и сделать его неотъемлемой частью нашего духовного мира: Дукенбай Досжанов умеет увлечь частностями и деталями, проникнутыми духом старинного быта и уважением к жизненному укладу отцов». Мне кажется, коллеги это верно подметили.
Казахская проза, как известно, уходит своими корнями к абаевской эпохе. Пути ее развития, традиции складывались непросто, в борьбе и поглощении знаний пересохшими сердцами, в преодолении застывшего, косного и малоподвижного. Могучий талант М. Ауэзова выдвинул казахскую прозу на передовые позиции, открыв богатства ее еще почти не разработанных недр. И сейчас природные залежи, извлекаемые на свет силой талантов, поражают самое богатое воображение. Ветвь казахской прозы налилась могучими живительными соками на древе мировой литературы, облагородилась и расцвела.
Сейчас именно прозаики «делают погоду», задают тон в казахской литературе. Без голоса Дукенбая Досжанова она бы значительно потускнела.
Мне кажется, что Досжанов не берется за перо без необходимости, ибо уважительно относится к своему оружию. Без нужды он не вынимает кинжала, и если делает это, то только затем, чтобы встать за справедливость, защитить слабого. Потому и нужно ему быть зорким и уметь слушать, чтобы распознавать, где боль, где лицемерие. Еще Абаем было замечено, что истинное творчества – как душевная боль, как неизлечимый недуг. И Дукенбай Досжанов болен всеми горестями и страданиями своих героев, на помощь которым ведет его недремлющее сердце.
Иногда у Досжанова прозаический слог становится многослойным, расцвеченным, порой целые абзацы в его произведениях написаны одним предложением, как на одном глубоком вздохе. Это делается сознательно, и кажется, что автор сам обучается звучному и трудному вокалу описательного слога и приучает к этому своего читателя.
Дукенбай Досжанов – истинный труженик своего искусства, верный и надежный. Об этом говорит прочная нить «Шелкового пути», твердость «Первого шага», полноводность «Реки жизни», уважительный поклон еще одного романа – «Поклонись своему порогу» и яркая индивидуальность десяти повестей и более сорока рассказов. Все это результат самоотверженного служения негасимому огню высокого, очищающего и воспитывающего искусства, прошедшей через сердце твердой убежденности в нужности твоего дела народу. Историчность произведений Досжанова – это не тоска по прошлому, это тревога за будущее, взгляд, устремленный в завтрашний день, ведь если не обращать свой взор туда, лицо писателя может стать затылком, слепым и ничего не выражающим. Увидеть связь времен и сделать близким ушедшее дано не каждому. Дукенбай Досжанов – мастер современной генерации, советский художник, наделенный почти болезненным чувством справедливости, боец переднего края сложного и широкого фронта идеологической борьбы, верный солдат советской казахской литературы. Он чувствует себя всегда обязанным стоять на посту, на богатырской заставе, петь раздольные степные песни, предаваться сложным раздумьям, пока тиха ковыльная даль, но копье его остро отточено и всегда направлено против зла, с которым он сражается активно, никогда не отрываясь от своей земли, которая дает силу художнику.