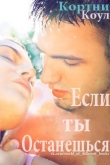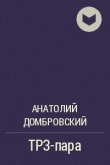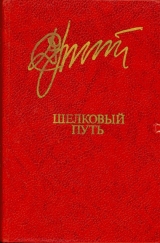
Текст книги "Шелковый путь"
Автор книги: Дукенбай Досжан
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 43 страниц)
Много достойных людей погибло в этот день. Раненный в бедро Огул-Барс, превозмогая боль, еле доковылял до походной юрты. Он потерял много крови и упал там, умирающий.
Однако и монголы понесли тяжелые потери. Погибли предводители туменов Тажибек и Кадан – отдали душу во славу ненасытного бога войны – Сульдэ. Султана Бауршика не нашли ни среди живых, ни среди мертвых. Направленный к жителям Отрара посол слезно просил: «Если султан у вас, верните в обмен на своего человека!» Кипчаки отдали им изрубленные тела Тажибека и Кадана. До глубокой ночи выли монголы, оплакивая погибших. В их честь они перерезали горло нескольким бесславным людям, дабы умилостивить бога войны щедрой жертвой. Волчий вой плыл над кипчакской степью.
Погруженный в неуемную печаль, Иланчик Кадырхан ночь напролет просидел у изголовья умирающего Огул-Барса. Он вызвал табиба-лекаря, заставил промыть рану, прижечь ее опаленной кошмой. Когда уже начали блекнуть звезды, повелитель города в сопровождении Хисамеддина и Исмаила поспешил в Гумбез Сарай. Здесь он приказал под покровом ночи спешно перенести все книги и рукописи из библиотеки в подземные кельи.
Книги связали в тюки, плотно обмотали шкурками, чтобы уберечь от сырости, потом затолкали в глиняные кувшины и крепко замазали горловину их глиной. Самые надежные джигиты повезли кувшины на верблюдах к мечети Кокмардан. Там их отнесли в подземелье. Иланчик Кадырхан сам помогал расставлять кувшины с бесценным богатством. К рассвету вся отрарская библиотека была надежно упрятана под землей, а вход в нее замурован.
Иланчик Кадырхан, притихший, задумчивый, постоял в душной келье, подняв над головой светильник. Рядом с ним стояли Хисамеддин и Исмаил. Всем остальным он приказал подняться наверх.
Повелитель Отрара был больше всего опечален предстоящей разлукой с книгами. Он думал: «Пусть все мы погибнем, лишь бы сохранились они, лишь бы их не тронул тлен и дошли бы эти книги до наших потомков, как дошли они до нас. И обратили на себя благосклонный взор потомков, безумно скачущих, вцепившись в гриву шального скакуна – Времени, и помянули они, потомки, добрым словом нас, своих далеких предков, погребенных и истлевших под обломками, – честолюбивых батыров, любивших родной край, беспредельную полынную и розоватую от щебня степь, как верного крылатого тулпара, безымянных девушек-красавиц, дороживших своей честью, как честью рода, бесшабашных наездников, намозоливших себе шенкеля, торговцев-купцов, высохших от забот, серебропалых музыкантов-кюйши, мудрецов-ученых, чьи мозги иссушили науки, ювелиров-кудесников и мастеров-строителей, своими творениями удивлявших мир, повелителя-наместника, проведшего жизнь в суете и беспокойстве, любимцев народа, рыцарей искусства – салов, серэ, сыпов, вечных тружеников-дехкан, чьи кости разбросаны по арыкам, некогда ими же, дехканами, вырытым… И если помянут нас потомки с благодарностью, если поклонятся священной земле под ногами – значит, не зря пролита кровь, не все заросло травой забвенья. И пусть не увидят они гибель своих городов!»
Иланчик Кадырхан обернулся к двум своим соратникам:
– Вы грамотны и молоды. Мало останется таких людей на кипчакской земле после этого нашествия. Подземной дорогой, показанной мною вам когда-то, немедля уходите из города. У выхода вас будет ждать паромщик Жаухар. Он вас перевезет через Инжу. Вражью дорогу вы знаете сами. В лохмотьях дервиша отправляйтесь в Бухару, оттуда – дальше, в Мерв. Идите туда, где не достанет вас монгольская конница. В городе Шам поклонитесь священной могиле славного предка нашего Абу-Насра аль-Фараби. Когда-нибудь уляжется этот дикий смерч, выдохнется, разобьют себе головы монголы. Тогда вернитесь, придите сюда…
Слова повелителя звучали спокойно и торжественно. Он не позволил даже возразить себе, так как знал, что они хотели сказать: «Как мы можем думать о своем спасении, когда гибнет родной город?! Разве не одна у нас была жизнь? Так разве не должны мы и умереть вместе?!» – читал повелитель в их глазах. И, как бы отметая все возражения, он решительно повел рукой:
– Если нам суждено умереть, то пусть хоть не погибнут отростки наши. Пусть исчезнут наши имена, но не сгинет наша слава! Пройдет время, и вырастет новое поколение кипчаков. Им пригодятся ваше слово, ваши ум и память. И да не оборвется нить рода кипчакского. Где бы ни были – свято помните об этом!
Не смея возразить суровому наказу повелителя, подавленные и потрясенные всем, что они видели и слышали, Исмаил и Хисамеддин спустились в подземелье. Просвещенные сыны народа, его плоть и кровь, в тяжкий час покидали родной край и уходили на чужбину. Уходили с болью и мукой в душе, со слезами на глазах оглядываясь назад…
Когда повелитель Отрара вышел из подземной кельи и поднялся наверх, дожидавшиеся его у входа люди ужаснулись. Послышался глухой ропот. «Он убил Исмаила и Хисамеддина!» – подумали все и невольно отшатнулись. Вместо могучего плечистого, грозного воина из подземелья вышло его жалкое подобие. Совершенно белой сделалась борода, согнулись плечи, потухли глаза. Никто из присутствовавших не осмелился проронить хотя бы слово. Иные не выдержали, закрыли лица ладонями. Некоторые стали уходить. Но повелитель
Отрара остановил их. Люди не посмели ослушаться его.
– Ломайте мечеть, люди! – приказал он глухим голосом.
– Как можно, великий господин?! – крикнул кто-то,
– Ломайте… Засыпем вход в подземелье!
– А вдруг, не дай аллах, враг ворвется в город, тогда нам пригодится подземная дорога…
– Нет! – твердо сказал Иланчик Кадырхан. – Нас судьба приговорила погибнуть вместе с Отраром.
Спорить с повелителем никто не стал. Все понимали, что решение его твердое. Тут же притащили ломы, кирки и молча принялись за работу. Первыми рухнули подпорки старой мечети; потом треснули, осели стены; к обеду обвалился центральный купол, упал, будто сорванный бурей потолочный круг юрты.
Над западной частью города стояла густая туча пыли. Негреющее зимнее солнце тускло отражалось в убого торчавших обломках облицовки. Маслился снежок под ногами. За крепостной стеной послышался грохот походного барабана, ему начал вторить другой. С развалин мечети, оглушительно каркая, поднялась огромная стая ворон. Черные птицы тяжело кружились, лениво хлопали крыльями, и было их так много, что на мгновение они затмили солнце. Люди зябко ежились на ветру….
Со стороны Гумбез Сарая, неуклюже болтаясь в седле, мчался верховой. В нем узнали хорезмского воеводу Карашу. Еще издали завопил он дурным голосом: «Огул-Барс умер!» Иланчик Кадырхан очнулся от этих слов, стон вырвался из его широкой груди. Но он стиснул зубы и выпрямился.
Истинно драгоценное не скоро тускнеет. Перед глазами Иланчика Кадырхана открылись безмятежные голубые горизонты прошлого. Вспомнились мирные тихие дни в Отраре всего лишь четыре года тому назад. Ой-хой, времена, времена! И сейчас еще он слышит глухой, ровный голос Хисамеддина, читающего ему сказ из древней книги. Голос этот точно слабеющий гул Инжу в половодье. Вспомнил повелитель послов, путешественников, измотанных дальней дорогой, с запада, из далекого Новгородского улуса, из Кыйева и Хазарии. Он с тоской подумал о помощи, которую могли бы они оказать в тяжелый, как теперь, час. Он жаждал услышать победный клич Ристалища Батыров на равнине Атрабата. Да-а… С того самого дня не знал он спокойного сна в постели. Вместе с загадочным тулпаром с двумя походными барабанами на передней луке пришла в кипчакскую степь беда с залитыми кровью глазами. Худые вести мчались по караванным дорогам, неодолимо надвигалось время Великой Скорби.
Это дикое племя, пришедшее с востока, сокрушило славных батыров – Ошакбая, Кипчакбая, Огул-Барса; рассыпалась, разорвалась кольчуга жизни. Великие провидцы навеки закрыли глаза. Закончился золотой век Отрара. Кто вернет его из небытия?..
ЭПИЛОГВместе с весенней теплынью и распутицей пришел – по кипчакскому летосчислению – год дракона, или шестьсот семнадцатый – по хиджре, или – по григорианскому календарю – одна тысяча двести двадцатый год, двадцать второе марта. По Малому Шелковому пути из Отрара в сторону Самарканда нестройно брел скорбный караван.
Таял снег, курилась земля; полынь источала густой терпкий дух. На караванной дороге тут и там темнели лужи, чавкала грязь под ногами верблюдов. А на обочине дороги проступил белый налет соли. Сероватые проплешины напоминали спину лошади, натертую седлом. Караван шел молча. Люди угрюмо вобрали головы в плечи, будто возвращались с похорон или с поминок. Впереди ехали на лошадях свирепые военачальники кагана – Алак-нойон и Шики-Хутуху-нойон. От их свирепости, правда, следа не осталось. Вид у них был такой страшный, будто они только что вылезли из могилы. Грязные, с головы до ног покрытые пылью, израненные, в коросте. Их оружие не блестело на солнце, как обычно, а потускнело не то от глины, не то от крови; в колчанах не было стрел, и они впустую болтались на луке седла.
За нойонами ехали не то воины, не то призраки. Глядя на них, можно было подумать, что их толкли в ступе, так они были истощены и изнурены. Бороды их свалялись, глаза запали и гноились.
У лошадей тоже выпирали ребра. Когда эти клячи переходили на трусцу, в животах у них екало, точно кто-то колотушкой выбивал пыль из кошмы. Одни лишь верблюды в этом караване, казалось, были в теле и вышагивали важно, с достоинством. От купцов, заездивших их, они давно избавились, всю зиму гуляли, паслись на воле и запасли горбы тугим жиром. Опустошительная война, потрясшая эту степь, казалось, ничуть не коснулась кичливых животных, наоборот, обернулась для них благом, ибо избавила от тяжких грузов мирного времени.
На последнем верблюде покачивается высокий паланкин. Из него через каждый шаг доносились стоны, которые нагоняли еще большую тоску на подавленное кочевье. Однако люди крепились и старались не обращать внимания на стоны мучительно умирающего человека. Но стоны все усиливались, и тогда Шики-Хутуху-нойон, попридержав коня, рявкнул кому-то из тех, кто волочился позади: «Да заткните ему наконец глотку!»
Слуги отделили последнего верблюда от каравана, заглянули в паланкин. В нем лежали двое: бывший наместник разрушенного Отрара Иланчик Кадырхан и один из монгольских предводителей султан Бауршик, Оба были тяжело ранены. Иланчика Кадырхана схватили вчера в последнем бою на самой вершине купола Гумбез Сарая, пожертвовав из-за него едва ли не сотней воинов, и теперь, пока душа еще не покинула его, спешили довезти до ставки кагана. Рядом корчился от боли и громко стонал Бауршик. Его ранило еще в прошлом месяце. На всем скаку вылетел он из седла и ударился оземь, сраженный кипчакской стрелой. И, видимо, отдал бы богу душу, не спаси его лекарь-китаец. Сутки напролет возился тот, пытаясь извлечь застрявший в груди обломок. Наконец, накалив нож на огне, лекарь сделал надрез под правой лопаткой, пальцами вытащил из-под ребра злосчастный наконечник и вновь зашил шелковой нитью рану. Почти месяц находился султан на грани жизни и смерти. Он терпел нечеловеческие муки, но смерть лишь кружилась над ним. Теперь он своими громкими стонами изводил и без того жалкое войско.
Один из сарбазов, сунувший голову в паланкин, угрожающе выхватил кинжал. Холодный блеск его испугал Бауршика. Сарбаз, однако, не решился перерезать глотку султану, хоть монголы не очень-то считались со своими союзниками. К тому же и Бауршик сразу перестал стонать. Сарбаз сунул кинжал за пояс, и караван потащился дальше.
Бауршик испугался не кинжала, оказавшегося на миг возле его горла, а недавнего видения. Смерть померещилась ему в облике черноголовой змеи, высунувшейся из-за спины рядом лежавшего Иланчика Кадырхана. Увидев вдруг эту мерзкую тварь, явившуюся за его душой, султан сразу онемел. Уж больно знакомой она ему показалась. Да, он уж видел ее, но не в облике черноголовой змеи. Она приходила к нему совсем в другом обличье…
Ровно четыре года назад это произошло – ойпырмо-о-о-ой, какое дивное было время! – жил он припеваючи, на вольном джайляу, среди своих восьми жен, наслаждаясь нежным мясом жеребят и хмельным кумысом. Не знал он тогда ни горестей, ни печалей. Поочередно ночуя в юртах своих жен, он блаженствовал на воле.
Развалясь удобно на пуховых подушках в одной из юрт, он заставлял наливать в чайник крепкий кумыс и подогревать на горячей золе. Пока он потягивал-цедил сквозь зубы слегка подогретый кумыс, слуги перед юртой резали и разделывали жирного барашка, непременно молодого, из раннего окота. На его глазах закладывали они мясо в казан, стараясь варить его больше на пару, а потом, когда оно бывало готово, выкладывали на плоский деревянный поднос – астау и ставили перед ним. Он брал в руки не нож, а остро наточенное тесло, ставил перед собой чурку и ловко отделял мясо от костей; мясо он тут же раздавал слугам, скотникам, а сам, сложив все кости в кучку, начинал их рубить и крошил мелко-мелко. Потом он приказывал все это крошево снова опустить в горячий жирный бульон и снова довести до кипения. Бульон получался густой, коричневый, запашистый, его перемешивали с кислым услом, и он пил его из большой деревянной чаши. Огненное хлебово растекалось по жилам, и не было для него более желанной еды. Когда же он запивал все это еще чуть теплым кумысом, то обретал такую силу, что жены млели в его крепких, ненасытных объятиях. В черном теле держал он их, не давая, однако, блекнуть румянцу на щеках. Пах, пах, что за жизнь была!
Но вот однажды Бауршику приснился страшный сон. Увидел он предка своего, убитого кипчаками. Размахивая саблей, предок говорил с укоризной: «Ты слоняешься по юртам, жирным бульоном наслаждаешься, а я, обесчещенный, опозоренный, тлею в могиле…» Вот и весь сон. Однако вскоре после этого сна Бауршик отправил к кипчакам своего порученца – подлого Билгиша Туюк-ока – Заколдованную стрелу. Было наказано послу: «Или добром уговори выплатить кун за предка, или вечную вражду объяви!» Поскакал с этим наказом Билгиш Туюк-ок и лишь через месяц – усталый, исхудавший – вернулся.
Бауршик выехал его встречать, и порученец тогда сказал: «Иланчик Кадырхан не желает платить мзду за убийство. Как водится, я заслал в его степь коня с кровью и двумя барабанами на передней луке. Пусть содрогнется, увидев предвестника беды!» Бауршик спросил: «А чей же это конь, которого ты заслал в кипчакскую степь?» Порученец ответил: «Одновременно со мной прибыл в Отрар посол из страны Сабр, из племени людей, что облачаются в медвежьи шкуры. Он хотел заключить мир с кипчаками. Я понял его намерение и отвратил его от мира с кипчаками. По дороге, когда мы ехали вместе, я отрубил ему голову, а коня его отпустил, привязав к седлу два барабана. Пусть кипчаков охватит страх, и еще одно соседнее племя потребует с них кун за убийство…»
Не из трусливых и сердобольных людей был Бауршик, но от этих слов коварного порученца он невольно поежился. Тогда-то и померещилась ему впервые собственная смерть в образе Билгиша Туюк-ока. Весело и простодушно скалила она зубы и протягивала ему руки.
Потом, вступив на кипчакскую землю, он столкнулся со смертью вторично. С помощью коварства сразив в поединке Ошакбая, он закатил большой пир. У подножия Каратау резали кобылиц, пили кумыс, жгли костры и забавлялись с пленницами. Помнится, ходил он тогда от одной юрты к другой. Вдруг он увидел во тьме скакуна, а потом и всадника, поджарого, плотного, точно прокопченного солнцем. Всадник осклабился, и он сразу узнал все того же Билгиша Туюк-ока. Порученец знаком отозвал султана в сторону. Бауршик испугался, однако виду не подал. Стараясь унять дрожь, он послушно следовал за своим бывшим порученцем. Вскоре Билгиш Туюк-ок остановился, спешился, привязав повод к поясу, опустился на корточки, поковырял черенком камчи землю.
– Что скажешь, Заколдованная стрела? – спросил он.
– Таксыр, я только что выполнил наказ кагана!
– Какой?
– Помните, я рассказывал про одинокого тулпара с двумя барабанами на луке? Недавно мы с послом кагана Уйсуном изловили его. Совсем одичал скакун, седло протерло спину, измучилось бедное животное. Привели мы его к кагану. Каган долго-долго смотрел на это страшилище, а потом позвал меня в свой шатер. Обмер я: думал, наказывать будет за какую-нибудь провинность. Однако каган сказал: «Твой спутник Уйсун приходится мне сородичем, но этот сородич встал мне поперек пути. Поступи с ним так же, как поступил с послом сабрцев».
Подвел наш владыка меня к Уйсуну и говорит: «Зачем вы привели изможденного, одичавшего коня – предвестника горя? Бог войны Сульдэ сердится. Отведите коня туда, где поймали, отпустите на волю!» Уйсун принял этот наказ всерьез, а я догадался, что слова кагана сказаны для отвода глаз…
Порученец, похожий на копченое мясо, опять жутко осклабился и продолжил свой рассказ. Но Бауршик будто оглох, кровь кинулась в голову. Все тело его колотила дрожь. Лишь через некоторое время до слуха его донеслись слова Билгиша Туюк-ока: «На этот раз я пустил в степь рыжего тулпара, а между двумя барабанами привязал голову Уйсуна».
Услышав про это, султан Бауршик вновь явственно увидел смерть. Не помня себя он вырвал из ножен саблю. Билгиш Туюк-ок отшатнулся. Бауршик с омерзением рубил его, пока от того ничего не осталось. Лишь к утру, бледный как труп, султан притащился в свой шатер. Потом на ратном поле возле Отрара нойон Шики-Хутуху увидел вконец одичавшего тулпара с черепом на луке и в ужасе принял голову посланника Уйсуна за бога войны Сульдэ.
В монгольском войске между тем поползли слухи об одиноком скакуне без седока. Чего только не говорили!
Бауршик сразу смекнул, откуда дует ветер. Лунной ночью он оседлал коня и поскакал в степь на поимку злополучного животного. Что-то тянуло его так поступить. Однако ему так и не удалось осуществить задуманного: конь с барабанами как сквозь землю провалился. И вот теперь он медленно умирает, не рассказав никому тайну тулпара – предвестника беды с двумя походными барабанами на передней луке седла. Когда вспоминается этот случай, он испытывает ужас, омерзение, у него туманится в голове, ноют кости и омрачается душа… Вот из угла паланкина вновь высунулась черноголовая смерть.
Бауршик повернул голову, посмотрел на окровавленного, израненного, скрученного волосяным арканом Иланчика Кадырхана. «Да-а… видно, он был истинной опорой кипчаков, – подумал про себя султан. – Не цеплялся, как я, за чей-то подол, не пресмыкался у чужих ног, не торговал душой ради собственной шкуры. Вместе со своими соплеменниками встретил он врага и умирает как воин, чья совесть чиста перед потомками…» А он, султан Бауршик? Что осталось от его племени? Что стало с ним самим? Восемь его жен наверняка служат чьим-то утешением, а несметные табуны его, должно быть, давно пожрали монгольские тумены. В тягость стала ему, глупцу, жизнь; мзду потребовал за давно сгнившего в земле предка, сам напрашивался на вражду с кипчаками. Ойхой, лживый, проклятый мир! Он-то, конечно, собака, но и жизнь блудлива! Теперь Иланчик Кадырхан в глазах сварливого кагана достойнее его, верного султана Бауршика. Ему даже стонать не позволено. Сами же монголы едва не пырнули сейчас его кинжалом, чтобы не мешал их думам. А этот кипчак может ругать монголов сколько ему вздумается, его в целости и сохранности доставят в шатер кагана.
Ой, как худо, когда тебя с почетного места волокут к порогу, когда ползаешь на коленях перед ровней; худо подыхать бродячей собакой в безлюдной степи, без славы, без чести, отлученным от родного очага, от своего племени! Не приведи аллах, чтобы потомки наши замышляли подлость или становились на путь бесчестия. Нет, пусть живут честно, не копают друг другу яму, пусть за елейной улыбкой не скрывают злобу и зависть и пусть не готовят исподтишка друзьям стрелы. Да, пусть не рыщут, как алчные звери, не грызутся, не хватают друг друга за горло и не рвут в клочья, как взбесившиеся собаки… одним словом, да не будут они такими, каким стал он, султан Бауршик!..
Караван вдруг резко остановился. Из паланкина на последнем верблюде донесся мучительный крик. Кони запрядали ушами. Шерсть вздыбилась на шее у верблюдов. Воины уставились в землю. Тот, кто умирал в паланкине, громко проклинал кагана, обзывая его выжившим из ума, кровавым стариком, возомнившим себя подлинным владыкой вселенной. Это вопил в предсмертном отчаянии султан Бауршик. Шики-Хутуху-нойон вытащил из ножен саблю и поехал назад, к паланкину.
О коварная судьба, о мир превратный! Блеснула кривая сабля нойона Шики-Хутуху, и косоротое Чудовище, сеющее смерть, истребляющее все живое и неживое на грешной земле, мерзко захохотало на всю привольную страну Дешт-и-Кипчак. Под его торжествующий хохот отлетела от тела бедная голова Бауршика, не стоившая теперь даже медного пятака. Сколько славных сынов народа проглотило за четыре года свирепое Чудовище! По всей этой земле раскиданы человеческие кости.
Богом войны Сульдэ, который оказался многоликим, точно оборотень, стало это Чудовище. Одним оно представлялось летящей стрелой, другим – одиноким тулпаром без седока, с двумя барабанами на луке седла, третьим – коварным и льстивым послом с двухаршинной чалмой на голове. Злой дух войны натравил погрязшие в дрязгах, копошащиеся на земле двуногие существа друг против друга, заставил их грызться, кусаться, как свору собак, и когда эти жалкие существа начинали друг друга разить, колоть, топтать копытами лошадей, о-о-о… тогда Тэнгри злорадствовал, хохотал, ликовал, сотрясая обезумевший мир. Бешеным наметом мчался по степям, городам и странам Сульдэ, чернея пустынными глазницами. А когда-то… когда-то и он пришел в этот мир невинным младенцем. Шалуном-мальчиком гонялся за жеребятами на прибрежных лугах голубого Керулена; порой ошалело выкрикивал боевой клич, пугая родителей, и никто не догадывался, что подрастает-зреет Чудовище. С годами окреп неугомонный баловень и теперь уже будил соседние аулы ночами, вселяя тревогу, предвещая беду. Его сторонились, от него в ужасе шарахался мирный люд. А юнец-забияка пристал к какому-то войску, отправился в поход. Странным, нелепым образом почему-то погибали его спутники. То их кони спотыкались, то звери на них нападали. «Несущий гибель» – так прозвали его после этого похода.
Юноша, прозванный «Несущий гибель», собрал шайку и разметал город Хара-Хото, превратив его в пустыню. Самого задушевного друга своего он утопил в колодце. На обратном пути, как рассказывают, встретился ему странник-провидец. И тот, взглянув на юношу-воина, сказал, что истинное его имя – Лик Смерти. Отныне он размахивал железом налево и направо, рубил всех, кто попадался на пути, не разбирая, друг это или недруг. Люди принимали его за Рок. А он искал повода для кровопролития. Ведь толпа – слепа, а люди – верблюжата, покорно следующие за верблюдом-бурой. Куда бы ни повернул теперь Лик Смерти, за ним бросалась слепая, безликая толпа.
Начались опустошительные набеги; точно огненный смерч, проносился Лик Смерти по степи, выжигая все дотла. Потекли по земле кровавые реки, с каждым походом все шире раскрывалась пасть Чудовища, все прожорливее оно становилось, все ненасытней делалась его утроба. Так всечеловеческой бедой обернулось маленькое Чудовище. Оно провозгласило себя каганом – «ханом ханов», «посланником неба», «потрясателем вселенной». Для устрашения врагов, для того чтобы послы на все четыре стороны света разносили легенды о его могуществе, каган приказал доставить ему щенка леопарда. Опытные, страха не ведающие охотники изловили для него в джунглях Индии двух крохотных леопардов, слепых и беспомощных, и спешно привезли их к берегам Керулена. Обычно у щенков леопарда лишь через две недели прорезаются глаза; неожиданно заблестят вдруг через узкие щелки желтые зрачки. Кого увидит первым такой щенок, к тому и привяжется на всю жизнь, сделавшись самым верным и преданным другом. Оба щенка первым увидели кагана. Из его рук они получали потом сахарные кости и дремали у его ног, уткнувшись в дорогой чапан. Когда щенки немного подросли, один захворал, перестал лизать глину и вскоре подох. Второй со временем вымахал с верблюжонка, превратившись в свирепого, сильного хищника. Пятнистая шкура его лоснилась, искрилась, точно огнем полыхала. И люди, и зверье шарахались от него.
Юрту кагана теперь сотрясал раскатистый рык. Немало удальцов, чьи сердца не ведали страха, не решались поднимать взор на огненноглазое громадное, пятнистое страшилище, лежащее у ног кагана. Испытывая трепет и унижение, стояли, бывало, там знаменитые батыры, будто парализованные. Каган, которого сопровождал отныне леопард, стал именоваться Чингисханом. Бесчисленные народы стонали под его пятой. Сам бог войны Сульдэ вдохновлял его на все новые кровавые деяния. Так говорили его нойоны, восхвалявшие властелина на все лады. Люди были для него ничтожней навозной мухи, и не ведал он сострадания. Сердце его обросло густой шерстью, и повсюду теперь виден на земле его лик – Лик Смерти…
Скорбела, слезами исходила Шелковая дорога.
О люди, люди, странники мои вечные! Вы сами, сами горе породили. Чудовище смерти вспоили и вскормили, хворь неизлечимую в душу себе впустили. Волочась за призраком повседневной суеты, за миражем низменного честолюбия, вы друг друга не щадили, презирали, унижали, не понимали; охотно поддаваясь обману и соблазну, перед сильным пресмыкались, над слабым, сирым измывались. Чего достигли? Чего добились? Что поняли? Чему научились?.. О люди, люди, странники мои вечные, горемыки вековечные…
Так скорбит, исходит слезами молодая вдова, потерявшая опору-мужа. Еще недавно по этой дороге валом неслись ратники. Они говорили: «Спешим на помощь Отрару». Столетние старцы, держа перед лицом сложенные ладони, благословляли их на подвиг. Матери в белых торжественных кимешеках шептали жаркие молитвы: «О боже всеблагий!.. Будь милостив к моему единственному…» Еще не остывшие от прощальной супружеской ласки женщины захлебывались от беззвучных рыданий. Не могли они еще представить, что по всей обширной степи уже скачет-носится Лик Смерти. Ни одна не думала в миг прощания, что грудь ее желанного может пронзить каленая стрела и разом погасить огонь сердца. Блестели слезы на ресницах, и долго смотрели печальные женщины на дорогу…
В тоске и думах проходили дни и ночи, ночи и дни. И вот однажды, вонзив острые морды в небо, завыли собаки. По Шелковому пути брели назад осиротевшие верблюдицы без поклажи, рысили боевые кони без седоков, с пятнами крови на крупе и боках. И нигде не видно было суженого, желанного, богом данного, без веселого смеха которого сразу онемели родные края.
А потом… да, что потом?.. Все то же, извечное. Сначала издалека, еще за перевалом взовьется к небу скорбный клич, бешено помчится к аулу одинокий всадник. И омрачатся души – то скачет вестник горя. Баурым-о-о-ой! Горе, горе-е! Как лист осиновый задрожит молодая жена. Вспомнится ей в одно мгновение, как желанный до хруста в костях обнимал ее стан, как долго целовал ее в губы, как ласкал, посадив к себе на колени, как больно мял грудь, охваченный любовным пылом, и воспаленное сознание пронзит жуткая догадка, что этого больше не будет, не будет, никогда не будет. Отцвело ее короткое счастье! Баурым-о-о-ой! Горе, горе-е! Что теперь ее ждет? Тоска неизбывная? Постель холодная? Дни унылые? Ночи постылые? Падает без чувств, цепляясь за решетки юрты. О, да не бьется в припадке отчаяния молодая любящая жена доблестного мужа, да не испепелит горе ее чистое сердце! Иначе померкнет свет, поблекнут краски, увянут чувства, притупится вкус, навсегда потускнеет вечно прекрасная Жизнь, превращаясь в обузу, в прозябание, в плен. Тусклое марево окутает горизонт, печаль подернет глаза, морщинами избороздит лицо. Баурым-о-о-ой!
– Как только жить будут люди Отрара?
– Что станет с кипчаками, с нашим родом-племенем?
– Пораскидает нас судьба, как птичий помет.
– Кто будет отныне владеть этой степью? Кто будет править кипчаками?
– Мало разве слоняется шушеры, телом искалеченной, душой униженной, с помыслами низменными? Начнет копошиться, со временем скотом обзаведется, брюхо себе набьет. А брюхо набьет – бога забудет, на соседа опять зариться начнет…
Так говорили люди. Аул Ошакбая, находившийся чуть в стороне от Шелкового пути, медленно двигался к западу. Было бы кощунством называть его аулом батыра. Какой батыр, какой аул?! Жалкий сброд, одни сироты да вдовы, разграбленное кочевье. Скорбно шли женщины, сбивая ноги. Не так-то просто умереть от тоски и горя, если в груди бьется молодое сердце и по жилам течет горячая кровь. Так или иначе, живой должен жить. Они как могли утешали скорбное кочевье, бежавшее бог весть куда от преследовавшей по пятам беды, латали детям прорехи, помогали вьючить тюки, готовили скудную пищу, исполняли поручения ворчливых, крикливых стариков с повадками старых шелудивых козлов. Все терпели, и лишь бледные, осунувшиеся лица прикрывали жаулыками. Подушки сырели от горячих вдовьих слез. Думали женщины: «Погиб мой батыр – солнце померкло, жизнь кончилась». И краса былая завяла, лишь тень одна осталась.
Тем не менее множество тайных закоулков оказалось у жизни. Тот слюнтяй и трус, который еще недавно прискакал в аул со скорбной вестью, стал теперь отираться вокруг женщин: на красоту вдовью позарился. К месту и не к месту шутить начал, хвост куцый распустил, про любовь нашептывал. О подлая судьба! При жизни мужа этот поганец не смел коня близко к ее юрте ставить, через порог ее ступить, а теперь ожил, хорохорится, камчой размахивает, над осиротевшим аулом куражится.
А хвалится-то как такой человек! Только и слышишь: «Когда я с батыром бок о бок, стремя в стремя ринулся в бой… Бывало, мы с батыром из одного турсука кумыс пили… Когда батыр умирал, я сидел у его изголовья…» Можно подумать, он один против тумена монголов сражался. И никто не решится сказать ему в глаза: «Оу, чего врешь-то, горе-храбрец?! Или забыл, как удирал с поля брани, оставив истекающих кровью батыров? Не помнишь, как, убегая, коня запалил?» Старики лишь посохами землю смущенно ковыряли.
Где же вы, удальцы-батыры в железных шлемах и кольчугах? Где храбрецы с львиными сердцами, с верблюжьими жилами – краса степей? Где купцы и ученые путешественники, едущие по Шелковому пути в поисках здравых, мудрых речей, истинной дружбы, надежного мира? Ведь не всегда пребывали люди в скорби, не с сотворения мира царило на земле горе…
Над безлюдной степью низко плыли лохматые тучи. Прогрохотал неистовый ливень. В иссохших буераках-балках заклокотала вода. Реки вышли из берегов, и пенящаяся полая вода смывала разный сор с земли, забирая в поток камни, кусты, пожухлые листья и травы, стремительно уносила куда-то далеко-далеко. Все вокруг ожило, наполнилось звуками жизни. Зелень бурно пошла в рост. Казалось, только трава и свидетельствовала о бессмертии жизни на земле. Она пробивалась настойчиво, неудержимо повсюду: на старых развалинах и пепелищах, на бывших стоянках кочевий, на обочине древних караванных дорог.