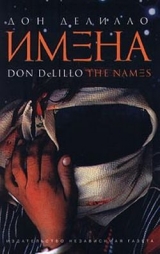
Текст книги "Имена"
Автор книги: Дон Делилло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Временами из темноты слышалось тарахтенье – это мотоциклы проносились по ночному городу. Линдзи уже спала.
– Чем подозрительней место, чем неспокойнее в политическом отношении, чем выше гам число барханов на квадратную милю, тем больше наши нью-йоркские начальники стараются подсластить пилюлю. В Безлюдном Крае [5]5
Безлюдный Край – пустыня Руб-эль-Хали в южной части Аравийского полуострова.
[Закрыть]барханы высотой по восемьсот, а то и по девятьсот футов. Я летал через него с одним парнем из «Арамко» [6]6
«Арамко» – Арабско-американская нефтяная компания.
[Закрыть]. Да что говорить.
В Джидде летучие мыши-крыланы пикировали из ночного мрака на его бассейн и пили воду на лету. Его жена – первая – как-то раз вышла из дому и увидела трех бабуинов, скачущих по капоту и крыше их автомобиля.
В Тегеране, между двумя браками, он придумал название «День цепей». Это был десятый день месяца мухаррама, пора скорби и самобичевания. В то время как сотни тысяч людей, некоторые из них в саванах, шли к центру города, бичуя себя стальными прутьями и цепями с прикрепленными к ним лезвиями ножей, Дэвид устроил вечеринку в честь Дня цепей – его дом в Северном Тегеране защищали от участников процессии военные отряды и танковое оцепление. Гости слышали монотонное пение толпы, но что они кричат – «Смерть шаху» или «Аллах велик» – и имеет ли это какое-нибудь значение, никто толком не знал. Чего Дэвид боялся в Тегеране, так это уличного движения. Четырехмильные пробки – и вся эта масса апокалипсически медленно, дюйм за дюймом, ползет, скрежеща, точно паковый лед. Люди водят как хотят. На него постоянно стремились наехать задним ходом. Стоило ему свернуть в узкий проулок, как он видел несущуюся на него задом машину. От него ждали, чтобы он убрался, или взлетел в воздух, или исчез. Со временем он понял, что в этом так пугает – вещь настолько простая, что он не мог отделить ее от большего чуда, коим являлся город, полный разъезжающих задом наперед автомобилей. Включая задний ход, они не снижали скорость.Дэвиду Келлеру в межбрачный период между женами это показалось весьма интересным. Тут была космология, какой-то богатый смысл, теорема из физики элементарных частиц. Понятия «вперед» и «назад» взаимозаменяемы. А почему бы и нет, в чем, собственно, разница? Двигающийся экипаж может с равным успехом двигаться и вперед, и назад, особенно когда шофер ведет себя точно так же, как если бы он шел пешком, – то есть считает нормальным делом коснуться другого, стукнуть, протиснуться между препятствиями на улице. Это было для Дэвида вторым тегеранским откровением. Люди водят так же, как ходят.Они крутили баранку как Бог на душу положит, эти ребята в армейских кителях и со своим оригинальным чувством пространства.
Раньше, в Стамбуле, он говорил, что хочет запросить в нью-йоркском «Мейнланде» разрешение на покупку джипа с пулеметом на крыше, чтобы ездить с работы и на работу. Более серьезно он собирался бронировать машину. «Бронирование, – объяснил он мне, – это чрезвычайно дорогостоящая операция. Сорок тысяч долларов. Если твой шофер получает разрешение носить оружие, это рассматривается как мелкая поставка вооружения Боевому отряду марксистско-ленинской пропаганды. Не потому, что шофер отдаст им пистолет. Они сами возьмут его, когда изрешетят вас обоих из „Калашниковых“ или разнесут противотанковыми фанатами».
Это лето, когда мы сидели на его просторном балконе, было после того, как шах покинул Иран, но до взятия заложников, до Великой мечети и Афганистана. Цена на нефть отражала уровень беспокойства западного мира. Эти цифры – допустим, 24 доллара за баррель – сравнивались с аналогичными цифрами прошлого месяца или прошлого года. Так было довольно удобно оценивать весь комплекс наших здешних проблем. Это был показатель того, насколько плохо мы себя чувствуем в данный момент.
– Как дела у Тэпа?
– Пишет романы и ест осьминогов.
– Хорошо. По-моему, здорово.
– А как твои? Где они живут?
– В Мичигане. У них все отлично. Они довольны. Что называется, на плаву.
– Как звали твою первую жену?
– Грейс, – сказал он. – Подходящее имечко для первой, да?
– Линдзи не хочет детей?
– Черт, Линдзи на все готова. Она чокнутая. Говорила она тебе, что нашла работу? Полный кайф, она же страдала от безделья с тех пор, как сюда приехала. Будет преподавать английский на спецкурсах. Повод, чтобы избавиться от банкирских жен и их посиделок.
– Я что-то не замечал, чтобы вы давали здесь ужины для мейнландских командировочных. Или для беглецов из тех мест, где начались возмущения. Ты же отвечаешь за кредиты, правильно?
– Возмущения. Точно, так мы их и называем. Как ливень или снежная буря у метеорологов. Званые ужины в таких местах знамениты рассказами очевидцев о толпах людей, штурмующих посольства и банки. И еще тем, какая на них царит неукоснительная вежливость. Знаешь, все эти религиозные группы и этнические подгруппы. Можно ли сажать друза рядом с маронитом? [7]7
Друзы – шиитская секта, марониты – сторонники христианства на Ближнем Востоке.
[Закрыть]Все они более или менее космополиты, но кто угадает, что прячется внутри? Приходит сикх, которого законы секты обязывают иметь при себе нож. Иногда я слежу за тем, что говорю, сам не зная почему. В Бейруте, Джидде и Стамбуле за подобными штуками следила Грейс. И надо сказать, у нее это лихо получалось. Линдзи вряд ли когда-нибудь так навострится. По-моему, она просто будет стоять и хохотать.
– А как насчет американцев?
– Жуткий народ. Генетически запрограммированы на игру в сквош и работу по выходным. Что-то я проголодался после купания.
Дэвид пил понемногу, но непрерывно где только можно. За долгим воскресным ленчем на восточном берегу или по вечерам где бы то ни было его голос постепенно становился гуще, раскатистей и добродушней, в нем начинали звучать отеческие нотки, а в его широком лице, едва различимый за дряблой плотью, появлялся загубленный белокурый ребенок, сторонний, кающийся наблюдатель.
– В нашем офисе в Монровии есть парень на ставке, который должен ловить змей. В этом состоит вся его работа. Он регулярно обходит дома служащих, проверяет двор, сад, живые изгороди и ловит змей.
– Как называется его должность?
– Змеелов.
– Не в бровь, а в глаз, – сказал я.
– Видать, не придумали умного словечка для этого дела.
Все это происходило до нападения толп на посольства США в Исламабаде и Триполи, до убийств американских специалистов в Турции, до Либерии, кровавых экзекуций на морском берегу, избиения камнями мертвых тел, эвакуации банком «Мейнланд» своего персонала.
– Кэтрин бывает в Афинах?
– Нет.
– Я встречаюсь со своими детьми в Нью-Йорке, – сказал он.
– Это проще, чем добираться до острова.
– Мы едим в номере отеля банановый сплит [8]8
Сплит – сладкое блюдо из разрезанных пополам фруктов с орехами и мороженым сверху.
[Закрыть]. Он стоит восемь долларов порция.
– Грейс когда-нибудь нападала на тебя физически?
– Это не в ее стиле.
– А ты ее ударил хоть раз? Я серьезно.
– Нет. А ты Кэтрин?
– Мы боролись. Ударов как таковых не было. Однажды она накинулась на меня с кухонным инструментом.
– За что?
– Узнала, что я переспал с ее подругой. Это выплыло наружу.
– Подруга постаралась?
– В общем, дала понять. В неявной форме.
– Значит, тебя чуть не проткнули пешней.
– Всего-навсего картофелечисткой. Подругу разозлило то, что она почувствовала во мне равнодушие. Просто так сложилась ситуация. Ты вдруг оказываешься в ситуации. Наедине с Антуанеттой. Раньше вас двоих тянуло друг к другу. Обычное скрытое вожделение на субатомном уровне. Такие штуки случаются, когда муж и жена живут отдельно. Вдруг подворачивается Антуанетта, в ее глазах ты видишь судьбу. Но тогда мы с Кэтрин еще не жили отдельно. И ничего особенного не происходило. Просто возникла ситуация. Стечение обстоятельств.
– Какая ситуация? Обрисуй.
– Чего там обрисовывать.
– У нее дома?
– Да. Недалеко от нашего, через парк по диагонали.
– Зима, лето?
– Зима.
– Гостиная с комнатными растениями. Бокал вина.
– Вроде того.
– Задушевный разговор, – сказал он.
– Да.
– Куда ж без него. Она разведенная, так?
– Да.
– Грусть, – сказал он.
– Грусть-то была. Но это не имело никакого отношения к ее разводу. Она как раз потеряла работу. В Си-би-си [9]9
Си-би-си – канадская радиовещательная корпорация.
[Закрыть]. Ее уволили.
– Грусть.
– Ну ладно, фусть.
– Тоска.
– Да, тоска была.
– Пофебность, – сказал Он.
– Ага.
– Звездной ночью, в гостиной, за бокалом сухого белого вина.
– У нее была хорошая работа. Она рассфоилась.
– Утешь меня, утешь меня.
– Во всяком случае, я выдал свои колебания. Может, сказал что-то уклончивое. Такое, естественно, не прощается. Я медлил, проявил неуверенность. В конце-то концов дело мы сделали. Мы не могли закруглить нашу дружбу, довершить преступление, не закончив того, что начали. Так что дело мы сделали. Вымучили оргазм. Какой же я был идиот. Антуанетта потом с удовольствием отыгралась.
– Заложила тебя.
– Заложила. И притом не забыла намекнуть на мою тогдашнюю нерешительность. Не знаю, как ей это удалось, – прямым текстом она вряд ли что-нибудь сказала. Скорее всего, притчами, аллегориями. Язык женщин и детей. Я думаю, это Кэфин и взбесило – не просто измена или что с подругой. А то, как я себя вел. Надругательство против воли. Вот почему она хотела меня искромсать.
– Это внесло ясность? В смысле, драка с ножом?
– С тех пор все быстро покатилось под откос.
– А мы поженились молодыми, – сказал он. – Ничего толком не знали. Известная история. Опыта мало или вовсе нет. Грейс говорила, что я был первый – более или менее, то есть первый, с кем у нее по-настоящему, остальные, мол, не считаются.
Мы посмеялись.
– Я понял, что нашему браку хана, когда мы стали смотреть телевизор в разных комнатах, – сказал он. – При достаточной громкости мне было слышно, как она переключает каналы. Если она выбирала тот, который смотрел я, то я переключал свой. Не мог смотреть то же, что смотрит она. Наверно, это и называется жить разными жизнями.
– Надеюсь, ты не скатишься к стереотипу?
– О чем ты?
– Новая молодая жена – это уже плохой знак. Ты не хочешь выглядеть в чужих глазах одним из тех, у кого в Штатах остались старая жена и старые дети. Это жены, которым не хватило динамизма на то, чтобы сопровождать мужчин вроде тебя в их стремительной интернациональной карьере. Старые жены и старые дети морщинистые и согбенные, они сидят у себя в пригороде, уткнувшись в телевизор. У жен вечный насморк. Во дворе дремлют апатичные старые псы.
– По крайней мере, моя новая молодая жена не из тех, кого видят в мечтах. Не стюардесса и не фотомодель. Знаешь Хардемана? Его вторая жена раньше была на подхвате в «Атланта брэйвз». Сидела у левой кромки и ждала шальных мячей. Оказалось, не зря: дождалась Хардемана.
Дэвид относился к своим банковским делам без излишнего трепета. Он рассказал, чем его банк занимается в Турции, и дал мне телексы и другие бумаги, где шла речь о займах. Эти документы произвели впечатление на Раусера – особенно те, на которых стоял черный гриф «секретно». Думаю, Дэвид понимал, что такая вольность в обращении со служебными материалами ничем или почти ничем ему не грозит. В конце концов, по большому счету мы действовали во имя одной цели.
– Иногда, где-нибудь у черта на куличках, я задумываюсь: а что я тут делаю? Безлюдный Край не идет у меня из головы. Мы летели прямо над барханами, понимаешь, а там ничего, кроме песка, четверть миллиона квадратных миль. Целая песчаная планета. Песчаные горы, песчаные поля и долины. Песчаная погода, сто тридцать – сто сорок градусов [10]10
130—140° по Фаренгейту соответствуют 55–60’ по Цельсию.
[Закрыть], а мне трудно представить, что это такое при сильном ветре. Я пытался убедить себя, что это прекрасно. Ну знаешь – пустыня. Простор. Но мне было страшно. Тот малый из «Арамко» сказал мне, что когда он стоял на их тамошнем аэродроме, он слышал, как у него по жилам течет кровь. Как по-твоему, это из-за тишины или из-за жары? Или из-за того и другого вместе? Слышал собственную кровь.
– А зачем ты туда летал?
– Ну как зачем – нефть. Что же еще? Крупное месторождение. Финансируем там кое-какое строительство.
– Знаешь, что говорит Мейтленд?
– Что он говорит?
– Уйма возможностей, приключения, закаты, пыльная смерть.
Дэвид сходил за первой банкой пива для меня и очередной для себя. Мне совсем не хотелось спать, зато хотелось есть. В небе забрезжил слабый свет, возник Парфенон – плоское, смутное, но обладающее внутренней структурой изображение. Я пошел за Дэвидом на кухню, и мы принялись есть все, что лежало на виду, – в основном это была выпечка и фрукты. К нам заглянула Линдзи, сказать, чтобы мы не шумели. На ней была ночная рубашка с оборкой по подолу, и ее появление вызвало у нас улыбку.
В эти ранние часы небо почти прижимается к улицам. Моя улица соединяет восточный край неба с западным. Это всегда удивительно – выходить на бульвар, когда только рассвело, машин еще нет и все вокруг как бы распадается на не связанные между собой объекты: здания посольств, каждое со своими архитектурными приметами, киоски и тутовые деревья, постепенно выступающие из темноты, – и понемногу различать контуры самой улицы как места, имеющего четкие границы, определенную форму и смысл, возникающего в тишине, на прозрачном морском свету, точно целое холмистое поле, широкий путь в горы. Уличное движение – это поток, который заставляет нас видеть вещи в иной, более плотной перспективе.
Бульвар недолго оставался пустынным. Проехал автобус, лица за стеклами будто в аквариуме, потом легковые машины. Они появились из бетонных дебрей, сразу четыре в ряд, и покатили на запад – первая волна беспокойного дня.
Дорога домой шла вверх по более узким улочкам, довольно круто поднимающимся к сосновым рощам и серой громаде Ликабетта. Я постоял около кровати в пижаме, чувствуя себя отрезанным ломтем: наши с нею режимы существования разошлись. Убаюкивающие качели привычек. Наша книга дней. На балконах запели канарейки, женщины уже выбивали коврики, а на блестящие булыжники мощеного двора падала звонкая капель с рядов только что политых растений.
Это был мой день.
4
Тело старика с проломленным черепом нашли на окраине поселка под названием Микро-Камини. Этот поселок лежит милях в трех от берега среди поднимающихся уступами полей, которые быстро переходят в пустынные холмы и скалистые нагромождения в глубине острова, в хаос каменных столбов и зубчатых бастионов. Близ Микро-Камини в ландшафте начинает ощущаться демонстративная мощь. Возникает впечатление намеренной удаленности от моря, намеренной изоляции; поля с рощами резко обрываются неподалеку. Здесь остров становится голой кикладской скалой, которую видят с палуб идущих мимо кораблей, царством заброшенных каменоломен, где бродят козы с колокольчиками и гуляют безумные ветры. Отсюда прибрежные селения уже мало похожи на пристанища моряков и рыбаков, на лабиринты, выстроенные с целью запутать нежданных агрессоров и превратить мародерство в трудоемкое занятие; с высоты они кажутся искусно вырезанными барельефами или камеями, не желающими привлекать внимание тех загадочных сил, что гнездятся в центральной скалистой части. Улочки, которые замыкаются сами на себя или исчезают, миниатюрные церковки и узкие тупички как бы выдают стремление стушеваться, они словно говорят: тут нет ничего заслуживающего интереса. Домики точно собрались вместе, сбились в кучи перед холмистыми возвышенностями и вулканическими скалами. Суеверие, вендетта, инцест – вот что осаждает душу в этих одиноких горах. Похоть и жажда убийства. Беленые прибрежные поселки – талисманы, защищающие от всего этого, сделанные по одному шаблону обереги.
Страх перед морем и тем, что приходит с моря, легко поддается выражению. Иное дело другой страх, который трудно назвать, – боязнь того, что прячется за спиной, ужас, вселяемый молчаливым присутствием острова.
Мы сидели в гостиной с косым потолком, на низких плетеных стульях. Кэтрин заварила чай.
– Я спрашивала у людей в ресторане. Они говорят, молотком.
– А я бы подумал, что застрелили. Драка фермеров за землю. Из дробовика или из винтовки.
– Он был не фермер, – сказала она, – и вообще не из этого поселка. Его дом на другом конце острова. Слабоумный старик. Жил со своей замужней племянницей и ее детьми.
– Мы с Тэпом были в тех краях в мой первый приезд. Я еще взял у Оуэна мотороллер, помнишь? Ты нам тогда всыпала.
– Бессмысленным убийствам положено совершаться в нью-йоркской подземке. У меня весь день душа не на месте.
– А где те пещерные обитатели?
– Я тоже о них подумала. Оуэн говорит, ушли.
– Где Оуэн?
– На раскопках.
– Плавает над затонувшими руинами. Таким он мне видится. Пожилой дельфин.
– Сегодня вернулся хранитель, – сказала она. – Он ездил с кем-то на Крит.
– Чем он занимается?
– Хранит находки. Собирает их по кусочкам.
– Какие еще находки? – спросил я.
– Слушай, у нас серьезная работа. Я знаю твое отношение. По-твоему, я фанатичка.
– Оуэн тоже считает ее серьезной?
– Оуэн в другом мире. Этот для него – пройденный этап. Тем не менее, мы работаем не зря. Что-то находим. Это нам о чем-то говорит. Ну ладно, у нас нехватка денег. Нет больше фотографов, геологов, зарисовщиков. Но мы находим вещи, делаем выводы. Эти раскопки планировались отчасти как полевая практика. Учебное мероприятие. И мы учимся – те, кто остался.
– И что дальше?
– Почему что-то должно быть дальше?
– Мои приятели, Мейтленды, замечательно спорят. Нам бы так. Никогда не повышают тона. Я только теперь заметил, что они не переставали спорить с самого момента нашего знакомства. Все убрано в подтекст. У них разработана филигранная техника этого дела.
– Просто так никто не роет, – сказала она.
Церковные колокола, закрытые ставни. Она посмотрела на меня в сумерках, изучая что-то, чего, возможно, не видела уже долгое время. Я хотел спровоцировать ее, заставить спросить саму. Вошел Тэп со своим другом Радживом, сыном замначальника раскопок, мы поздоровались. Ребята хотели показать мне что-то на улице; когда я обернулся на пороге, выходя из дому, она наливала себе вторую чашку, наклонившись к скамейке с чайными принадлежностями, и я с надеждой подумал, что минуту назад мы все-таки не превратились в себя прежних. Маленькие островные льготы и привилегии не могли истощиться так скоро. Помогая зарождаться чему-то новому. Когда минует первый шок после разъезда, наступает более глубокая эра, понемногу берет свое язык любви и признания – по крайней мере, в теории, в фольклоре. Греческий ритуал. Как удачно, что у нее ребенок мужского пола: есть кого беззаветно любить.
Колокольный звон стих. Тэп с Радживом повели меня по дорожке в верхнюю часть поселка. Слепящие, словно вырезанные из бумаги, цветы и двери. Занавески, колышущиеся на ветру. Дети показали мне собаку на трех ногах и замерли в ожидании моей реакции. Бесформенная женщина в черном, с лицом будто из красной глины, в черном платке, сидела на крылечке дома под нами и лущила горох. Воздух наэлектризовался их нетерпением. Я сказал им, что в каждом поселке есть своя собака на трех ногах.
Из темноты вынырнул Оуэн Брейдмас: он размашисто зашагал вверх к дому, нагибаясь вперед на крутой лесенке. У него была бутылка вина, и он отсалютовал ею, увидев меня в окне. Мы с Кэтрин вышли и стали смотреть, как он поднимается к нам, шагая через ступеньку.
Меня посетило прозрение. Перед нами человек, который всегда шагает через ступеньку. Что это объясняло – об этом я не имел ни малейшего понятия.
Пару минут они провели вдвоем в кухне, обсуждая раскопки. Я откупорил вино, поднес к свечам спичку, и вскоре мы уселись пить на колеблемом ветром свету.
– Они ушли. Определенно. Я был там. От них остался мусор, всякая мелочь.
– Когда убили этого старика? – спросил я.
– Не знаю, Джеймс. Я даже ни разу не был в том поселке. У меня нет никаких конфиденциальных сведений. Все только слухи.
– Когда его нашли, он был мертв уже двадцать четыре часа, – сказала Кэтрин. – Примерно. Кто-то приезжал с Сироса. Полицейский префект – так, по-моему, он называется, – ну и судмедэксперт, наверное. Он был не фермер и не пастух.
– Когда они ушли, Оуэн?
– Это мне неизвестно. Я пошел туда просто поговорить. Из любопытства. Не имею никакой особой информации.
– Бессмысленное убийство.
– Слабоумный старик, – произнес я. – Как он попал туда с другого конца острова?
– Пришел, – сказала она. – Так считают люди в ресторане. Это возможно, если знать тропинки. Хотя и трудно. Предполагают, что он заблудился. Побрел в горы. И прибрел в этот поселок. Он часто терялся.
– И уходил так далеко?
– Не знаю.
– А что думаете вы, Оуэн?
– Я встречался с ними только однажды, в тот раз. Вернулся, потому что их, по-моему, очень заинтриговало то, о чем я им рассказывал. Опасности в новом походе я не видел, и мне хотелось побольше из них вытянуть. Они явно были настроены говорить только по-гречески, что было минусом, но не слишком серьезным. Впрочем, они вряд ли имели намерение сообщать мне, кто они такие и что там делают, на каком бы то ни было языке.
Зато он хотел кое-что рассказать им. Любопытный факт, всплывший в памяти обрывок. Он подумал, что это заинтересует их как ревностных поклонников алфавита, или кто они там, а во время той первой встречи он как-то не сообразил об этом упомянуть.
Когда он ездил в Каср-Халлабат смотреть надписи, он отправился по дороге из Зарки в Азрак, уйдя на север от Аммана и свернув на восток в пустыню. Крепость, конечно, была разрушена, повсюду валялись высеченные из базальта глыбы. С латинскими, греческими, набатейскими надписями. Греческие камни были совершенно перепутаны. Даже те, что еще не свалились, стояли вверх ногами или были замазаны алебастром. Все это натворили Омейяды, которые использовали камни, не обращая внимания на то, что на них написано. Они перестраивали византийское укрепление, в свою очередь перестроенное после римского, и так далее, и им нужен был строительный материал, а не эдикты на греческом языке.
Ну ладно. Чудесное место, где можно с удовольствием побродить, полное сюрпризов, огромный кроссворд для специалиста по древнему миру. И все это – крепость, камни, надписи – расположено посередине между Заркой и Азраком. Оуэн, с его склонностью замечать такие вещи, сразу же сообразил, что эти названия являются взаимными анаграммами. Вот о чем он хотел сказать людям с холмов. Как странно, хотел он сказать, что место, которое он искал, эти красноречивые, латаные-перелатаные руины находятся между ориентирами-близнецами – населенными пунктами, чьи имена состоят из одного и того же набора букв, только в разном порядке. И ведь именно это – перестановка, реорганизация – происходило в Каср-Халлабате. Археологи и рабочие пытались собрать глыбы в нужном порядке.
Маленькая бесконечность сознания – вот как он это назвал.
Я пошел в дом за фруктами. С вазой в руке я остановился на пороге комнаты Тэпа и заглянул внутрь. Он лежал головой ко мне, пуская пузыри во сне – звук, похожий на торопливые поцелуи. Я глянул на бумаги, которыми был завален самодельный письменный стол, вогнанная в нишу доска, но было слишком темно, чтобы разобрать паутину его старательных каракулей.
На веранде мы немного поговорили о его опусе. Оказалось, несколько дней назад Оуэн обнаружил-таки, что стержнем романа стало его собственное детство. Он не знал, радоваться ему или огорчаться.
– Он мог бы найти сколько угодно тем получше. Но мне, конечно, приятно, что я пробудил интерес. Впрочем, не думаю, что я хотел бы увидеть результат.
– Почему? – спросил я.
Он помедлил, размышляя.
– Не забывайте, – сказала Кэтрин, – эта якобы документальная проза на самом деле вымысел. Люди настоящие, а их слова выдуманные. Мальчик пытается понять, как устроено современное сознание. Давайте уважать его за это.
– Вы сказали, он изменил мое имя.
– Это я ему велела.
– Будь я писателем, – сказал Оуэн, – до чего приятно было бы мне услышать, что роман мертв. Какая свобода – работать на полях, вне главной оси. Быть этаким литературным упырем. Чудесно.
– Вы когда-нибудь пробовали писать? – спросила она.
– Никогда. Одно время думал, как здорово было бы стать поэтом. Это было давным-давно, я был очень молод и считал, что поэты – изящные бледные юноши, которых постоянно слегка лихорадит.
– Вы были изящным бледным юношей?
– Неуклюжим – это пожалуй, но сильным, во всяком случае, не хиляком. В наших прериях было одно занятие – вкалывать. Кругом бесконечные равнины, поросшие высокой травой. По-моему, мы пахали, мотыжили и корчевали кусты только ради того, чтобы не быть поглощенными пространством. Это как жить на небе. Пока не уехал, я не понимал, насколько такая жизнь проникнута благоговением. И чем дальше, тем большее благоговение я испытываю, когда все это вспоминаю.
– Потом вы преподавали на Западе и Среднем Западе.
– В разных местах.
– Но не в Канзасе?
– Не в прериях. От них не так много осталось. Я не был на родине тридцать пять лет.
– И вы не написали ни одного стихотворения, Оуэн? Честно? – сказала она, точно слегка подначивая его.
– Я был трудяга, тугодум с виду, вроде тех деревенских парней, что стоят столбом и щурятся на солнце. Не отлынивал от грязной работы – послушный сын, в меру несчастный. Но не думаю, чтобы за всю жизнь написал хоть строчку стихов, Кэтрин. Нет, ни одной.
Язычки пламени расплющились, нырнули вниз на ветру. Этот дрожащий свет словно хотел поторопить нас. Я пил вино крупными, в полстакана, глотками, но оно меня только сушило. Кэтрин с Оуэном неспешно тянули беседу к полуночи.
– Одиночество.
– Какое-то время мы жили в городе. Потом за, в пустынном месте, и местом-то не назовешь.
– Я никогда не была одна, – сказала она. – Когда умерла мать, отец старался, чтобы в доме всегда было полно людей. Как в старой комедии, где главные действующие лица вот-вот отправятся в Европу. На сцене горы багажа. Друзья и знакомые идут чередой. Начинается путаница.
– Мы были посередине. Все было поодаль, как бы на равном расстоянии. Сплошное пространство, погодные катаклизмы.
– Мы все время переезжали. Отец покупал дома. Поживем немного в одном – и он покупает следующий. Иногда он с грехом пополам продавал старый, иногда нет. Так и не научился быть богатым. Это могло бы вызвать у людей презрение, но его все любили. То, что он так вот менял дома, было чем угодно, только не показухой. В нем была какая-то глубокая неприкаянность, тревога. Он походил на человека, который хочет улизнуть ночью. Казалось, он считает одиночество болезнью, упорно дожидающейся его впереди. Он всем нравился. По-моему, это его даже как-то беспокоило. Друзья нагоняли на него грусть. Должно быть, он был невысокого мнения о самом себе.
– Потом я повзрослел. Собственно, мне стукнуло сорок. Я понял, что смотрел на этот возраст с точки зрения ребенка.
– Это чувство мне знакомо, – сказал я. – Сорок было моему отцу. Всем отцам было по сорок. Мне до сих пор с трудом верится, что я быстро приближаюсь к этому возрасту. После того как я вырос, у меня было только два возраста: двадцать два и сорок. Мне было двадцать два и после двадцати, и далеко за тридцать. Теперь я уже чувствую себя сорокалетним, хотя по-настоящему до этого еще два года. Через десять лет мне по-прежнему будет сорок.
– В вашем возрасте я начал ощущать в себе присутствие своего отца. Бывали мистические моменты.
– Вы чувствовали его в своем теле. Знаю. Раз – и он тут. И ты чувствуешь, что даже выглядишь как он.
– Буквально на секунду-другую. Я становился своим отцом. Он подменял меня, наполнял.
– Ступаешь в лифт, и вдруг ты – это он. Дверь закрывается, и странное чувство исчезает. Но теперь ты знаешь, кто он был.
– Завтра обсудим матерей, – сказала Кэтрин. – Только без меня. Я своей почти не помню.
– Смерть твоей матери – вот что сделало его таким, – сказал я.
Она посмотрела на меня.
– Откуда ты знаешь? Он тебе рассказывал?
– Нет.
– Тогда откуда тебе знать?
Я выдержал долгую паузу, наполняя стаканы, и сменил тему, постаравшись, чтобы мой голос звучал ровно.
– Почему мы здесь так много говорим? В Афинах то же самое. В Америке такое количество разговоров немыслимо. Говоришь сам, слушаешь других. На днях Келлер выставил меня в полседьмого утра. Наверное, это свежий воздух. Что-то в атмосфере.
– Ты тут вечно вполпьяна. Вот тебе одно объяснение.
– Мы говорим больше, и пьяные и трезвые, – сказал я. – Слова точно роятся в воздухе.
Он замер, пристально глядя мимо нас, – живое воплощение лунной скорби. Что он там увидел? Его руки были сцеплены на груди – большие руки в шрамах и царапинах, руки, которые копали землю и долбили скалы, а когда-то и направляли плуг. Глаза Кэтрин встретились с моими. Возможно, ее сочувствие к этому человеку достаточно велико, чтобы и страждущему мужу перепала капелька по его просьбе. Женская щедрость и милосердие. Номер в конце гостиничного коридора, маленькая простая кровать, аккуратно застеленная. Это тоже могло быть островной льготой и преимуществом – временное возвращение прошлого.
– Думаю, они на материке, – сказал Оуэн.
Куда вам понять, словно говорил он. С вашей домашней драмой, с вашим эзоповым жаргончиком упреков и намеков. Ох уж эти невинные супруги со своими душевными ранами. Он по-прежнему смотрел мимо нас.
– Они говорили что-то насчет Пелопоннеса. Не очень определенно. Кажется, один из них знает там место, где можно устроиться.
– По-вашему, об этом не надо сообщать в полицию? – сказала Кэтрин.
– Не знаю. А по-вашему? – Движение его собственной руки к стакану с вином вывело Оуэна из оцепенения. – Недавно я вспоминал о Роулинсоне – англичанине, который хотел скопировать надпись на скале Бехистун [11]11
Скала с древней трехъязычной надписью в Иране.
[Закрыть]. На древнеперсидском, эламском и вавилонском. Перебираясь по лестницам от первой группы ко второй, он чуть не расшибся насмерть. После этого он решил нанять курдского мальчишку, чтобы тот срисовал наименее доступную часть надписи – вавилонскую. Мальчишка полез по скале, цепляясь за малейшие выбоины. Пальцами рук и ног. Может, он использовал сами буквы. Мне нравится эта мысль. Так он и полз, прижавшись к скале, под большим барельефом с изображением Дария и группы мятежников в цепях. По отвесной стене. Но он чудом, по словам Роулинсона, одолел ее и умудрился наконец сделать на бумаге копию текста, сидя в веревочной люльке вроде тех, что в ходу у моряков. Как вы считаете, почему эта история в последнее время не идет у меня из головы?
– Политическая аллегория, – сказала Кэтрин.
– Ой ли? По-моему, это история о том, как далеко люди способны зайти, чтобы завершить картину, или сложить картину, или подогнать друг к другу элементы общей картины. Роулинсон хотел расшифровать клинописную надпись. Ему нужны были эти три образца. Когда курдский мальчишка благополучно вернулся обратно, это стало началом попытки англичанина проникнуть в великую тайну. Вся птичья разноголосица трех древних языков была пленена и закодирована, сведена к вырубленным в камне значкам. Расшифровщик со своими рисунками и схемами отыскивает в них взаимные связи, параллельные структуры. Какова частотность этих значков, их фонетические корреляты? Он ищет способ, который заставил бы этот набор символов заговорить с ним. Вслед за Роулинсоном явился Норрис. Любопытная деталь, Кэтрин: оба когда-то служили в Ост-Индской компании. Тут просматривается новая связь, вновь одна эпоха говорит с другой. Мы можем сказать о персах, что они были просвещенными завоевателями – по крайней мере, если судить по этому примеру. Они сохранили язык побежденного народа. Между прочим, эламский язык расшифровали именно политические эмиссары и переводчики Ост-Индской компании. Не это ли империализм с человеческим лицом? С лицом ученого?








