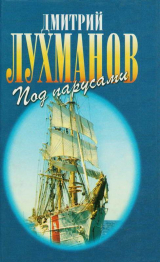
Текст книги "Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны"
Автор книги: Дмитрий Лухманов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
«Армида» оказалась полуклипером новой постройки. Она не была так остра, как типичные «чайные» и «шерстяные» клипера, но имела прекрасную конструкцию; что было особенно красиво – это открытая, не загроможденная тяжелыми надстройками палуба, обнесенная дубовой балюстрадой вместо фальшборта.
В отделке «Армиды» не было роскоши: ни дорогого лакированного дерева, ни громадного количества блестящих медных оковок, ни носовой статуи; ничто не било в глаза, но она была изящным и в то же время солидным судном, обещавшим и хорошую скорость, и прекрасные мореходные качества.
Утро 26 июня 1885 года застало меня за перетяжкой бизань-вант на «Армиде». Накануне я подписал договор «на год от вышепоименованного числа или до прихода в первый европейский порт, где в течение 48 часов с момента получения судном практики команда должна получить расчет и быть полностью удовлетворена заработанным по договору содержанием».
Я был принят матросом первого класса на жалованье пять фунтов стерлингов в месяц.
Экипаж «Армиды» состоят из капитана Петра Доминика Цара, старшего помощника капитана Николы Бубана, второго помощника Александра Птычича, плотника Игнация Ивечевича, кока Ивана Бойковича, двенадцати матросов первого класса и четырех второго, всего двадцать один человек.
Двадцать вторым живым и разумным существом была нью-фаундлендская собака Палермо, черная, с белой звездой на груди.
Палермо был умнейшим и добродушнейшим псом, но добродушным он был только к своим, с чужими он был суров, хотя и не злобен; он не кусал людей, но брал их зубами за платье, рычал и не отпускал от себя до тех пор, пока не получал соответствующего распоряжения от своих. Непослушных он начинал трепать и быстро освобождал от одежды. Затем он брал свою жертву осторожно зубами за ногу и при всякой попытке освободиться немного сжимал челюсти.
Своими он считал тех, кого видел за общим столом в кают-компании или в кубрике. Когда на судно поступал новый матрос, Палермо сажали на цепь, а затем во время обеда приводили в кубрик и спускали тогда, когда все сидели за столом. Новичок подзывал его, гладил, давал кусочек мяса или намоченную в супе галету. Палермо тщательно его обнюхивал и с этого момента признавал не только своим, но даже одним из хозяев, которых надо слушаться.
Палермо попал на судно год назад маленьким щенком на мысе Доброй Надежды в Кейптауне. Перед приходом в этот порт упал за борт и утонул один из матросов, и в Кейптауне наняли на его место только что выписавшегося из больницы чахоточного итальянца Луиджи из Палермо.
Он пришел на судно с черным мохнатым щенком, которого команда охотно приняла и полюбила. Щенка назвали Палермо, в честь родины матроса. Луиджи через несколько месяцев умер и был похоронен в море, а Палермо вырос и сделался корабельной собакой и общим любимцем.
Воспитанием его занимался преимущественно старый плотник Игнаций, и Палермо почитал его своим главным хозяином. Когда плотник работал на палубе, собака всегда вертелась около него; она прекрасно различала разные инструменты: пилу, топор, рубанок, молоток, ящики с гвоздями – и по требованию плотника приносила ему их из мастерской. Где бы и с кем бы ни был Палермо, но, если Игнаций свистел, он бросал все и стремглав летел к нему.
Палермо был нашим бессменным и вернейшим ночным вахтенным в портах. Он всегда лежал у трапа или у сходней, и ни один чужой человек не мог проникнуть на судно. Он был приучен также прыгать по приказанию за борт за брошенной с корабля вещью. Схватив ее в зубы, он плыл обратно; ему спускали за борт веревочную петлю, он просовывал в нее голову и передние лапы, и его поднимали на палубу.
Утром 27-го начали расправлять и мы свои крылья. И у нас нашелся запевала и, к моему удивлению, затянул старую американскую песню про Ранзо, но пел ее по-итальянски:
Запевала. Запоем про Ранзо мы.
Хор. Ранзо, гей, Ранзо!
Запевала. Запоем про Ранзо мы.
Хор. Гей, споем про Ранзо!
Запевала. Ранзо был, бедняжка, молоденький портняжка.
Хор. Ранзо, гей, Ранзо!
Запевала. С хозяином повздоря, решил пойти он в море.
Хор. Гей, споем про Ранзо!
Далее следовала вся эпопея Ранзо: как он поступил на китобоец, как не умел ничего делать и капитан велел отодрать его линьками, как в нем приняла участие капитанская дочь Китти и т. д., и т. д. Кончается песня словами:
Был Ранзо беспортошник, теперь он стал помощник,
Работает секстаном и будет капитаном!
«Армида» тоже тронулась сразу вперед и стала слушаться руля, но береговой бриз, с которым мы выходили из Сиднея, был все-таки немного свежее того, с которым выходил «Бирэйн»: наш пестрый флаг соединенных Австрии и Венгрии все-таки развевался, а не висел почти безжизненно, как у «Бирэйна».
Выйдя в море, мы получили попутный зюйд-вест балла на четыре и быстро двигались вдоль восточного берега Австралии; в тот же день вечером пришли в Ньюкасл и стали на якорь на рейде в ожидании очереди у пристани.
У пристани, или, вернее, вдоль длинной набережной, стояли гуськом в два и три ряда большие парусники. Их было здесь несколько десятков. Ближайшие к набережной грузились углем для различных портов Дальнего Востока.
Весь следующий день мы выгружали на шаланды песочный балласт, лежавший у нас в трюме, но на «Армиде» были маленький вспомогательный паровой котел и паровая лебедка, и вертеть «шарманку», как на «Озаме», не надо было: работа шла быстро, без переутомления и проклятий команды.
Воскрешение из мертвых
Ньюкаслский порт чуть не сделался последним портом моей жизни.
На другой день нашей стоянки, вечером после работ, я отпросился на берег и сел на одну из многочисленных перевозочных шлюпок, обходивших стоявшие на якорях суда и поддерживавших сообщение с берегом.
В шлюпке кроме меня уже сидели несколько моряков с других кораблей и какие-то женщины.
Солнце село, и темная южная ночь надвинулась черной папахой на многолюдный рейд, такой оживленный какой-нибудь час назад, а теперь совершенно замерший. Небо было обложено сплошными тучами, ревниво прятавшими южные звезды. Холодный зюйд-вест развел в бухте порядочное волнение, и соленые брызги то и дело обдавали нас с ног до головы.
Наконец мы подошли к какой-то пристани. Был отлив, и на пристань надо было вылезать по высокой лестнице.
Первым выскочил один из перевозчиков, чтобы собирать деньги от выходящей публики, за ним – я.
Когда я уже стоял наверху и копался в своем кошельке, отыскивая обычные «шесть пенсов», то увидел, что по крутой лестнице с большим трудом взбирается одна из наших дам. Перевозчик нагнулся, чтобы подать ей руку, а я, желая дать им обоим дорогу, сделал шаг назад и, не заметив в темноте, что и так стоял у самого края, стремглав полетел вниз и ключом пошел ко дну…
Оттолкнувшись от дна, я начал медленно подниматься вверх и тут с ужасом почувствовал, что моя правая рука, ушибленная или вывихнутая при падении, висит как плеть…
Сознание не покидало меня ни на секунду. Усиленно работая левой рукой, выплыл я на поверхность и, с трудом поддерживаясь, осмотрелся. Со всех сторон меня окружали сваи, на которые опиралась пристань. Подплыв к ближайшей, я обхватил ее здоровой рукой, но рука бессильно скользнула по обросшему морской травой бревну, а толчея от стиснутой между сваями зыби моментально оторвала меня прочь, и я снова начал барахтаться и медленно опускаться на дно. В это время до меня донеслись голоса.
– Где он? Давайте фонарь!.. Крюк, крюк!.. – кричал какой-то бас, и этот бас вдруг почему-то показался мне темно-зеленым.
Мне стало ужасно смешно: я открыл рот, и противная морская вода быстро наполнила его. Это отрезвило меня на мгновение. «Я тону!» – как молния прорезалась мысль в моем мозгу, и снова стал я изо всех сил работать левой рукой и выплывать на поверхность… Передохнув, я хотел крикнуть, но не успел: волна покрыла меня с головой…
Вдруг что-то зазвенело, закружилось; в глазах стали быстро вертеться какие-то красные круги, и я стремглав полетел в бездну. «Умер!» – смутно мелькнуло в голове… Но вот полет мой стал медленнее, тише, круги как-то побледнели, из красных сделались желтыми и синими, стали шире, и вдруг я почувствовал под левой рукой что-то теплое, мягкое, мохнатое. Я нагнулся посмотреть – это была кошка; встретившись со мной горящими ярко-зелеными глазами, она жалобно замяукала и впустила мне в левый бок острые длинные когти. Я схватил ее за шиворот, но она еще крепче впилась в мое тело и плотно прильнула отвратительным мохнатым мокрым туловищем. Я опять хотел закричать, но кошка оторвалась и тоже стремглав полетела куда-то… Все темно и тихо кругом…
Сколько прошло времени, я не знаю, но вот сначала смутно, а потом все яснее и громче какой-то голос твердит мне: «Проснись, открой глаза, ты не утонул, не умер, это было все во сне, это страшный сон, это кошмар». Я делаю нечеловеческое усилие и открываю глаза…
Долго глядел я, ничего не понимая; наконец мало-помалу стал соображать, что лежу в странном положении, лицом вниз, на чем-то твердом, под животом у меня подложен какой-то валик и что-то тяжелое, не мягкое, но и не твердое прикрыло меня с головой. Я попробовал ползти, отталкиваясь одними ногами, и почувствовал, что странная вещь, которой я был покрыт, остается позади… Еще минута – и луна, высоко стоящая в небе, очистившемся от туч, облила меня своим холодным зеленоватым светом…
Постепенно приходя в себя и вспоминая шаг за шагом все, что со мной было, я понял, что, спасенный каким-то чудом, я был привезен на «Армиду» и здесь положен ничком на палубу и покрыт брезентом. Но зачем же меня оставили в таком виде ночью на палубе? Неужели считали уже мертвым? Дрожь пробежала по телу.
Я попробовал встать, но, как только шевельнул правой рукой, она невыносимо заныла в локте. Однако, кое-как поднявшись с помощью левой руки и придерживая ею страшно болевшую голову, я побрел в кубрик. Тут я заметил, что был совершенно гол. Холодный ветер пронизывал до костей – я дрожал, а голова, точно налитая свинцом, бессильно качалась при каждом шаге.
Вдруг раздались нечеловеческий крик и топот: это вахтенный, считавший меня покойником, увидя меня направляющимся в кубрик, бросился со страху бежать.
В кубрике все спали. Боясь произвести и здесь такое же впечатление, я не стал никого будить и, добравшись до койки, лег, закутавшись в одеяло, и скоро забылся тяжелым, болезненным сном. Проснулся я уже в кормовой запасной каюте и со здоровой рукой. Оказывается, английский доктор вправил мне спящему вывихнутую в локте руку. Говорят, я только страшно крикнул и моментально снова заснул.
Спасение же мое произошло следующим образом. Один из бывших в шлюпке пассажиров-моряков увидел меня в тот момент, когда, показавшись на секунду на поверхности, я во второй раз пошел ко дну. Он нырнул за мной и, схватив сзади под мышку левой руки, выплыл на поверхность. Откачивание и оттирание в шлюпке не привели ни к чему, и перевозчик привез меня на «Армиду» как утопленника. Здесь были снова перепробованы все известные средства, а затем, видя их безуспешность, капитан велел положить меня ничком на палубу, подложить под живот мое же свернутое платье и, накрыв брезентом, оставить до утра. Так пролежал я с девяти часов вечера до двух часов ночи, когда благодаря какому-то чуду жизнь вернулась ко мне сама собой. Через день я снова принимал уже участие в судовых работах.
В Ньюкасле на берегу я не нашел ничего интересного: город очень напоминал провинциальные английские города. Такие же гладко мощенные улицы, двух– и трехэтажные дома, крытые черепицей, магазины, освещенные газовыми рожками, фундаментальные и важные полицейские, «бобби», как их называют матросы.
Интересно, откуда происходит это слово: от собственного ли шутливо сокращенного имени (например, матросов зовут «джек», солдат – «томми») или от жаргонного слова «боб», обозначающего шиллинг? Английские полисмены, когда их о чем-нибудь просят, часто притворяются, что ничего не слышат, и поворачиваются к вам спиной, заложив назад руки и сложив одну из ладоней лодочкой. Если в эту лодочку положить шиллинг, то «бобби» мгновенно повертывается к вам лицом и делается необыкновенно любезным.
Целую неделю, если не больше, простояли мы на якоре в ожидании своей очереди; затем нас поставили к пристани рядом с американским барком «Делавар», на котором оказалось двое моих приятелей с «Карлтона».
В Батавию
Нагрузившись углем, «Армида» весело натянула белые хлопчатобумажные паруса и тронулась в Батавию.
Быстро уменьшали мы широту и на восемнадцатый день плавания вошли в Торресов пролив. В то время редко кому приходилось проходить этим опасным и тогда еще мало исследованным местом. Коралловые рифы и банки так часто служили могилой кораблям, что между моряками не много находилось охотников полюбоваться на покрытые тропической зеленью острова, опрокинувшиеся, как в зеркале, в ярко-голубой и прозрачной воде Торресова пролива.
Осмотрительно вошли мы в этот прекрасный, но коварный пролив. Все верхние паруса были убраны, фок и грот взяты на гитовы, а на фор-салинге бессменно сидел матрос, зорко всматриваясь вперед и в глубь прозрачной воды.
На другой день плавания проливом, с рассветом, мы увидели на горизонте, позади нас, паруса шедшего вслед корабля; он нес все, что только можно было поставить, но тем не менее догнать нашу быстрокрылую «Армиду» было нелегко, и к заходу солнца он был позади еще милях в четырех.
Наконец, на другой день часов в восемь утра, ему удалось нас догнать. Это было судно с фрегатским вооружением, но с очень полным образованием[27]27
Полное образование – полные, округлые, а не заостренные формы судна. – Прим. авт.
[Закрыть]. Корабль поднял американский флаг и затем по обычаю обменялся с нами сигналами, из которых мы узнали, что он идет в Калькутту, имея только балласт и на обеих палубах около трехсот лошадей. Имя его было «Джон ди Коста». Лихо наклонившись на правый борт, под поставленными до последнего лиселя парусами, и подымая целую гору воды и пены своим тупым носом, он прошуршал у нас по наветренному борту всего в полукабельтове и обдал едким запахом конского навоза.
– Ох, не к добру он такого шика задает, – сказал наш капитан, покачав головой.
И действительно, через какой-нибудь час мы увидели, что «Джон ди Коста» как-то неестественно повернулся к ветру и сильно наклонился на левый бок, причем все паруса его заполоскали и захлопали о мачты.
– Готово! – сказал наш капитан.
В самом деле было «готово»: янки сидел на коралловом рифе.
«Не нужна ли помощь?» – взвился сигнал на нашей фор-брам-стеньге.
«Надеюсь справиться сам!» – получился ответ.
Наш «старик» только плечами передернул и пошел в каюту, чтобы точно отметить на карте широту и долготу места, где наскочил на риф злополучный «американец»…
В Батавию пришли благополучно.
Собственно говоря, мы пришли не в самую Батавию, а в новый строившийся порт, находившийся от нее в тридцати – сорока километрах. Порт этот должен был служить для нее морской базой.
Утром, чуть свет, явились к нам полуголые толпы малайцев, и началась выгрузка. Жалко и жутко было смотреть на этих забитых детей природы, энергично поощряемых ударами бамбуковых палок и получающих от своих подрядчиков такую пищу, от которой буквально «сыт не будешь и с голоду не умрешь».
Работа шла с рассвета и до одиннадцати часов дня; потом наступал обед, состоявший из чашки вареного риса, насыпанного прямо в шляпы голодных рабочих, и маленькой соленой, высушенной на солнце рыбки, могущей служить только приправой, но никак не пищей голодному человеку.
Находились смельчаки, просившие вторую порцию, но вместо риса они получали хороший удар бамбуковым шестом по спине.
В три часа, когда жара немного спадала, работа начиналась снова и шла до восьми часов вечера, когда рабочие получали ужин, точь-в-точь такой же, как обед, и разводили костры, располагаясь тут же вблизи корабля на ночлег, с тем чтобы утром снова начать свою каторжную работу.
Кроме «Армады» здесь стояли еще два английских парусника, тоже с углем из Австралии. Место вокруг новой гавани было пустынное; до Батавии больше тридцати километров по железной дороге; буфет на вокзале был не по нашему матросскому карману, и потому нет ничего удивительного, что время после работ проходило весьма однообразно: ходили друг к другу в гости. Но это не особенно нас развлекало.
В это время как раз поспевали кокосовые орехи в лесу, окружавшем со всех сторон нашу гавань. Лес этот принадлежал голландским плантаторам, которые ни за какие деньги не хотели продать нам немного кокосов. Результатом этого явились ночные экскурсии в лес и целые войны со сторожами-малайцами. Не говоря о том, что эти экскурсии приносили всегда блестящие результаты, они вносили разнообразие и веселье в нашу монотонную стоянку.
Я до сих пор прекрасно помню эти мародерские лесные походы. Картина получалась весьма своеобразная.
Вечер… Красный мяч солнца упал в соседнем лесу, и тропическая ночь моментально распустила свой черный плащ, сплошь затканный блестящими звездами. Кругом по берегу пылают костры, бросая желтые блики на громады стоящих у берега кораблей и голые фигуры малайцев, тянущихся вереницей со шляпами в руках к огромным шипящим котлам. Около котлов такие же голые фигуры, держа в руках весла, годные для хорошей четверки, сосредоточенно мешают клокочущий рис.

Картина была до того фантастична и до того напоминала наши лубочные картины страшного суда и наказания грешников, что я невольно подолгу засматривался на это зрелище.
Кончался ужин – вокруг костров начинались дикие пляски и пение под звуки бамбуковых дудок, цимбал и барабанов, довершавшие сходство этой демонической, картины с пляской чертей в аду. Как могли после каторжной работы полуголые малайцы еще танцевать, не понимаю.
В это время на палубе «Армиды» идут сборы «в поход». Тут дружно сошлись и суровый, сосредоточенный норвежец с соседнего английского корабля, и пылкий итальянец, и черный сын Африки, получивший американскую шлифовку и напяливший по этому случаю, несмотря на тропическую жару, бумажный воротничок…
Выбирается начальник отряда, разбираются толстые палки для защиты от многочисленных собак малайских сторожей, мешки, каболочные стропы, при помощи которых мы влезали на голые стволы кокосовых пальм, и ватага человек в двадцать, с веселыми шутками и смехом, отправляется в опасную экскурсию. «Опасную», – говорю я потому, что, с одной стороны, легко можно было попасть в зубы аллигатору, которыми кишит эта местность, а с другой – озлобленные сторожа, окружив нас плотным кольцом, дружно бомбардировали камнями и палками, а иногда и стреляли, но, должно быть, вверх или холостыми зарядами, потому что за время нашего двухнедельного мародерства ни в кого не попало ни одной дробинки. Малайцы, вероятно, твердо знали и помнили, что более или менее серьезное поранение европейца не обошлось бы им даром.
Наконец приготовления окончены, и отряд выступает «в поход». Пройдя костры с танцующими вокруг них малайцами, он направляется прямо в чащу густого тропического леса… Шутки и разговоры смолкли; все тихо, и только мерные шаги глухо раздаются под сводами пальм. Вдруг где-то залаяла собака… Через минуту к ней присоединилась другая, третья, и наконец дюжины две высоких остромордых собак с диким визгом и лаем выскакивают из чащи и бросаются на невозмутимо шагающих матросов. За собаками бегут их хозяева и, окружив отряд, с не менее диким воем и визгом идут следом за ним…
– Стой! – раздается тихая команда начальника.
Отряд останавливается. Двое смельчаков сейчас же при помощи каболочных стропов влезают на верхушки пальм, четверо с мешками остаются внизу – подбирать сброшенные орехи, а остальные выстраиваются кольцом вокруг оперируемых деревьев, спинами к ним и лицом к остервеневшим сторожам и их собакам, моментально составляющим другое кольцо вокруг первого.
Малайцы бесятся, прыгают, извиваются как черти, бросают камни и палки, но большей частью мимо. Собаки воют. Невозмутимо стоят матросы с палками в руках и только иногда ловко отбрасывают чересчур назойливую собаку…
Через десять минут мешки полны. Их кладут на носилки и торжественно, без ругани, без малейшего шума, в полном и строгом порядке несут на судно.
Сторожа и их собаки сначала провожают отряд в надежде, что он не выдержит града палок и камней и бросит добычу, но их надежды тщетны: не прибавляя шагу, доходят матросы до опушки леса; преследователи отстают один за другим; раздается хоровое пение какого-нибудь торжественного марша; отряд вступает на палубу корабля и производит дележ добычи.
Так проходили дни за днями. Выгрузка быстро подходила к концу. Соседи наши один за другим ушли в море, и кокосовые атаки прекратились сами собой.
Скоро и «Армида» тронулась в путь. На этот раз мы шли в Тагал, маленькую голландскую факторию на том же острове Ява, грузить сахар для одного из европейских портов.
Стоянка на Тагальском рейде ничего интересного не представляла, исключая ежедневные поездки на шлюпке с открытого рейда, где стоят далеко в море суда, в факторию.
Фактория расположена по обе стороны маленькой речки, и в этом устье даже в сравнительно тихую погоду ходит огромный океанский прибой. Идет с ревом и каким-то хрипящим свистом высокая голубая гора, без гребня, без пены, без всплесков, и вдруг догоняет вельбот.
– Навались!
Пять гребцов изо всей силы наваливаются на гибкие ясеневые весла; напряженно следит за грозным валом рулевой, вооруженный длиннейшим кормовым веслом… Момент – и вельбот взлетел на страшную высоту, стремглав нырнул вниз и с размаха вскочил в покойную узкую речку.
Погрузка сахара вследствие плохого сообщения с берегом и страшной жары затянулась на целых два месяца. Измучились мы за это время страшно. Я думаю, никогда с таким удовольствием никто из нас не тянул брасы, как в тот день, когда окрыленная всеми парусами «Армида» снова понеслась в океан.
Зайдя на три дня опять в Батавию, чтобы запастись провизией, которой не было в Тагале, мы пошли Зондским проливом, известным в истории мореплавания еще не так давно как страшное гнездо малайских пиратов. Но пираты отошли в область преданий. Теперь это были мирные торговцы, догонявшие тихо подвигающийся под едва надутыми парусами клипер на своих быстрых пирогах, с тем чтобы поторговать фруктами, попугаями, мартышками и явайскими серенькими красноклювыми канарейками.
Когда мы вышли из Зондского пролива, наш клипер представлял собой целый зоологический сад: везде висели клетки с различными диковинными птицами; попугаи, блестя на солнце всеми цветами радуги, оглашали воздух резкими криками, а обезьяны разной величины и породы стремительно бегали вверх и вниз по вантам или висели на выбленках, покачиваясь на длинных и цепких хвостах.
Матросские вахты
Опять океан, опять однообразные вахты, разделяющие всю жизнь матроса на четырех– и двухчасовые отрезки времени, опять традиционные галеты, солонина, горох…
Две вахты: четыре часа на службе и четыре – отдыха. Будят на вахту за четверть часа. Таким образом, больше трех с половиной часов подряд матрос в море спать не может, и сначала это кажется очень тяжелым, а потом привыкаешь.
Матросские сутки протекали приблизительно следующим образом.
Начнем для примера с «собачки», с самой трудной в смысле борьбы со сном вахты – с полуночи до четырех часов.
Когда сменишься с «собачки», то валишься на койку и спишь как убитый с четырех до семи с половиной часов. После побудки вскакиваешь, наскоро моешься, завтракаешь и в восемь выходишь на вахту. Если не стоишь на руле или на баке впередсмотрящим, то делаешь какую-нибудь судовую работу: штопаешь паруса, чинишь такелаж, скоблишь, красишь что-нибудь, конечно, при условии, что во время вахты не происходит маневров с парусами, не надо их убавлять или прибавлять, брать рифы, тянуть снасти. В полдень – смена и обед. После обеда – часок отдыха, а затем до шестнадцати часов делаешь что-нибудь для себя: стираешь белье, штопаешь платье, чинишь обувь. От шестнадцати до восемнадцати часов – полувахта, посвященная обыкновенно вечерней уборке судна, подтягиванию ослабших снастей, приведению в порядок всего, что может потребоваться ночью. В восемнадцать часов – смена и ужин. С двадцати часов до полуночи стоишь вахту. Эта вахта в хорошую погоду самая спокойная и неутомительная; сон еще не одолевает, и если нет работ с парусами, то все, кроме рулевого и бакового, устраиваются на грот-люке и ведут беседы на всевозможные темы или слушают, как кто-нибудь рассказывает о своих былых плаваниях, а то и просто сказку какую-нибудь. После полуночи – смена и крепкий сон до без четверти четыре. Побудчик из другой вахты должен к этому времени сварить кофе и поставить его на стол в кубрике вместе с галетами. Пьешь наскоро кофе и с последним ударом восьмой склянки выходишь на палубу. Вахта от четырех до восьми утра самая беспокойная. Она начинается с приготовления к утренней мойке и уборке судна. Одновременно перекачивают пресную воду из трюмной цистерны в расходную на палубе, приносят из трюма в камбуз порцию угля на день, растапливают плиту и будят кока. Затем моют палубу, чистят медь. В восемь – смена, завтрак и сон до одиннадцати с половиной; в одиннадцать с половиной – обед, а с двенадцати до шестнадцати – опять вахта. С шестнадцати до восемнадцати – отдых, с восемнадцати до двадцати – полувахта, а затем сон до без четверти двадцать четыре.
Так текла тогда матросская жизнь на парусном корабле в океане.
Эта жизнь сама по себе нелегка, но когда она обставлена так, как на «Озаме» и на «Карлтоне», то она почти невыносима, и неудивительно, что старые матросы-парусники, дорвавшись до берега и получив расчет за несколько месяцев каторжной работы, в несколько дней пропивали все до копейки, должали содержателям бордингхаузов, опять «подписывали» и шли в новую кабалу на долгие и тяжелые месяцы. Жизнь такого старого матроса, профессионала-парусника, была бесконечной и трагической сказкой про белого бычка. Так она тянулась до тех пор, пока он не погибал вместе с разбитым кораблем, или не срывался в шторм с рея, или не умирал от какой-нибудь экзотической лихорадки и его, зашитого в старую парусину, с чугунной балластиной в ногах, не спускали в глубину океана, или, по матросскому выражению, в «сундук чертушки Джонса» («Devil John’s chest»).
Да, хороший, разумный и гуманный капитан, даже при полукаторжных условиях труда и быта, в которых протекала моя юность, мог сильно скрасить жизнь своей команды, но как мало их было! А наш капитан Цар был прямо каким-то исключением из капитанской породы, «социалистом» вроде Вайрила на «Бирэйн».
Проведу маленькую параллель. Цар никогда не заставлял команду работать без надобности только потому, что она получала жалованье и должна была по договору работать двенадцать часов в сутки. Теплые лунные ночи в пассатах, когда паруса покойно стояли, ровно выпячивая грудь, и на небе не было ни одной тучки, были отдыхом и наслаждением для вахтенных на «Армиде». На «Карлтоне» в такие ночи нас заставляли плести сезни, ткать маты или делать кранцы.
На «Армиде» ни от капитана, ни от помощников никто из нас не слыхал ни одного грубого слова. Всех нас всегда называли по именам. В самые горячие минуты авралов, при тропических шквалах, при штормах у Доброй Надежды, только и слышишь, бывало: «Молодцы, молодцы, ребята! Старайтесь, приналягте как следует!» И мы старались и налегали. На «Карлтоне» не было другого обращения, кроме: «Эй вы, джентльменские (или еще какие-нибудь) дети (понимай – сукины), тяните, будьте вы прокляты!»; когда нужно было окликнуть какого-нибудь матроса, к нему обращались: «Эй ты, рыжий!», или «лопоухий», или «плешивый».
Удивительно ли после этого, что вся команда «Армиды» уважала своего капитана и охотно работала, а команда «Карлтона» ненавидела Нормана и готова была сделать ему любую неприятность?

Но бывали капитаны и похуже Нормана. Вот что рассказал нам в одну из тихих ночных вахт наш самый старый матрос – югослав Петро Вучетич:
«Мне было лет восемнадцать, когда я отправился искать счастья в Америку. Много наших земляков туда ехало. Это было начало пятидесятых годов, самый разгар калифорнийской золотой горячки. Однако, для того чтобы попасть в Калифорнию, на берега золотоносной реки Сакраменто, надо было сперва эмигрировать в Нью-Йорк. Так я и сделал. Эмигрантские конторы работали тогда вовсю. Помимо разработки найденного в Калифорнии золота, шло громадное строительство; заселялся Дальний Запад, строились железные дороги, новые города росли как грибы, рос не по дням, а по часам американский торговый флот, росла промышленность. Не хватало рабочих рук. Американские агенты шныряли по всем рабочим центрам Европы, сманивали рабочих всех специальностей и просто здоровых молодых парней, суля им золотые горы по ту сторону Атлантики. Вот так-то и я, молодой здоровый матрос, попал из Триеста в Бордо, а из Бордо на французском пакетботе в Нью-Йорк.
Нас в твиндеке было напихано человек восемьсот, эмигрантов «всех национальностей и всех специальностей», как мы острили. Только что судно отдало якорь в Нью-Йоркской гавани, как со всех сторон налетели вербовщики и начали тянуть кого куда.
Я не успел и опомниться, как меня притащили в контору и дали подписать какую-то бумагу. Оказалось, что я подписал договор на отправляющийся в Сан-Франциско новый клипер «Challenge», а по-нашему «Вызов», к капитану Вотерману, легенды о зверствах которого ходили тогда по всему свету.
Говорили, что он во время штормов у мыса Горн, когда команда брала рифы или крепила паруса, нарочно отдавал иногда подветренный грота-брас, чтобы «стряхнуть с рея» ненужных ему слабосильных людей. Рассказывали, что он застрелил собственного малолетнего сына… Но это рассказывали, а вот что видел я собственными глазами…
Подняли якорь. Знаменитый нью-йоркский буксир «Р. Б. Форбс» натянул канат и, развернув наш клипер вниз по течению, повел мимо города. Как только взяли якорь на кат и фиш и закрепили по-походному, раздалась команда: «Повахтенно, на шканцы, во фронт!»
Мы выстроились двумя шеренгами вдоль бортов, у передней переборки юта. Нас было пятьдесят шесть матросов и восемь юнг, два плотника, два матроса-парусника, два кока и два стюарда. За вычетом двух рулевых, стоявших у штурвала, на каждом борту оказалось по тридцать шесть человек – по восемнадцать человек в шеренге. Я посмотрел на своих товарищей – неважная была компания. По одежде, по манере держать себя, по выражению лиц и беганию испуганных глаз видно было, что большинство из них первый раз в жизни находятся на палубе судна. Многие имели болезненный и истощенный вид, некоторые едва держались на ногах, и по опухшим лицам, бессмысленным, оловянным глазам и трясущимся рукам можно было безошибочно признать в них неисправимых алкоголиков. Это была настоящая вотермановская команда, лучшее, что могли найти для него вербовщики, так как настоящих, знающих дело матросов, «матросов летучей рыбы»[28]28
Так называли моряков дальнего плавания, в отличие от каботажников. – Прим. авт.
[Закрыть], можно было залучить на судно, которым командовал Вотерман, или случайно, или обманом, предварительно напоив до бесчувствия.








