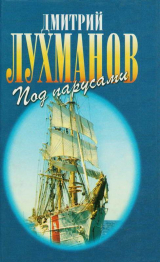
Текст книги "Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны"
Автор книги: Дмитрий Лухманов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
Дмитрий Афанасьевич Лухманов
Под парусами

Иллюстрации художника Г. Филипповского
Рисунки к энциклопедии и словарю П. Рябова
Капитан и его книги
Капитана Лухманова я заново «открыл» для себя в конце 1998 года, когда мне в руки попала книга «Под парусами (Воспоминания капитана)», увидевшая свет ровно за полвека до этого. Читатель, который принес ее в редакцию, настойчиво рекомендовал переиздать произведение в серии «Вокруг света». Никакой информации об авторе в книге не было, а имя на обложке скрывалось за инициалом «Д.». Текст захватил с первых же страниц. Конечно же надо переиздать! Но для серии «Вокруг света» требовался больший объем. И мы начали искать материал, способный дополнить книгу.
Так состоялось мое повторное открытие автора. А первое случилось более тридцати лет назад. У нас в доме когда-то была маленькая книжечка, изданная еще до войны. Имя автора я, конечно, забыл, но название в памяти сохранилось – «20 000 миль под парусами». Помню, какое впечатление произвели на меня фотографии парусника (детское восприятие!), и название его я тоже запомнил – «Товарищ». И вот теперь я почему-то сразу подумал: автор тот же.
То издание найти не удалось, но очень скоро выяснилось, что Дмитрий Афанасьевич Лухманов (1867–1946) активно печатался в предвоенные годы. Не был он обойден вниманием издателей и позже: в 1985 году в «Лениздате» вышла книга «Жизнь моряка», включившая в себя три автобиографические повести. Структурно она соответствовала изданию 1948 года – те же три части, рассказ о тех же событиях. Но объем – в два с лишним раза больше. Значит, «Под парусами» – своего рода дайджест ранее вышедших книг, которые в 1985 году объединились под одной обложкой. Все, поиск закончен. Переиздаем «Жизнь моряка»! Но я ошибся – работа только начиналась.
Для оформления потребовался портрет капитана Лухманова, и нашелся он в книге «Под парусами через океаны. Первое советское заокеанское плавание на парусном судне „Товарищ“» (Л., Изд-во П. П. Сойкина, 1928). Именно эту фотографию вы можете увидеть на последней сторонке обложки.
Еще читая «Жизнь моряка», я обратил внимание на то, как по-разному Лухманов пишет о событиях своей юности и о жизни в советское время. Создавалось впечатление, что у книги два автора. Первый – остроумный человек, отличный рассказчик, умеющий заинтересовать читателя. Второй – «сухарь», администратор, проводящий в жизнь политику партии и правительства. Но, открыв сойкинское издание, я понял, что автор всегда писал одинаково: рассказывал ли он о том, как плавал матросом на парусниках в конце прошлого века, или о капитанстве на «Товарище» в 1927 году. «Засушили» его многочисленные редактуры и, главное, цензура, которая вымарывала из повестей все, что не соответствовало «текущему моменту». Цензорский карандаш прошелся буквально по всему – от политики до быта. Приведу яркий пример, из которого видно, с какой проблемой я столкнулся при подготовке текста.
Из издания 1985 года:
«Нельзя было отказаться посмотреть контору и собственный склад любезного хозяина. Описывать их нечего. Контора как контора и склад как склад, но старая мадера, которой нас угостил сеньор Таварес, была действительно хороша».
Из издания 1928 года:
«…но бутылка старой мадеры, которой нас угостил сеньор Таварес, была действительно хороша, и не знаю, кто виноват в этом, мадерские ли виноделы или наш Винторг, но фуншальская мадера была совершенно не похожа на московскую…»
Пароход «Троцкий», который упоминается в издании 1928 года, в издании 1985 года назван просто «советским» пароходом…
И так далее.
Стало ясно, что за основу необходимо брать первые, наиболее близкие к авторскому тексту, издания повестей. Но ведь в дальнейшем над ними «потрудились» не только редакторы и цензоры. Сам автор дорабатывал и дописывал книги, в поздние издания были включены дополнительные главы. Пришлось сравнивать тексты, чтобы создать полный вариант книги, объединяющий все достоинства предыдущих изданий и лишенный привнесенных в них недостатков. Памятуя, что редактор может «убить» автора, я старался максимально сохранить язык изданий конца двадцатых – начала тридцатых годов, оставляя авторские шероховатости текста и редактируя лишь места, на которых спотыкался даже мой весьма предвзятый взгляд. К современному написанию приведены географические названия, термины («радиотелеграф» вместо «радио-телеграф» и т. п.) и некоторые другие слова. Итог работы – перед вами. Рискуя навлечь на себя гнев любителей «изящной» словесности, мы предлагаем читателю «неотредактированного» Лухманова, зачастую пишущего, «как слышится». Автор этой книги – удивительный человек, а не «мастер художественного слова» и тем более не символ советской эпохи. Название сборнику я решил дать по книге, заставившей меня проделать всю эту работу, – «Под парусами».
Пока что речь шла о книгах. А о капитане лучше всего прочитать в предисловии к уже упоминавшемуся сойкинскому изданию. Я привожу его дословно, не меняя ни стиля, ни орфографии.
«ОТ РЕДАКЦИИ.
Автор настоящей книги, капитан Дальнего плавания Дмитрий Афанасьевич Лухманов родился в Петербурге в 1867 году. Мать Д. А. Лухманова, впоследствии довольно известная русская писательница, Надежда Александровна Лухманова, разошлась со своим мужем вскоре после рождения сына, и таким образом, детство его до пятнадцати лет прошло без отца в доме матери, которая переехала в Москву, где жила уроками и мелким литературным трудом.
Десяти лет Дмитрий Афанасьевич поступил приходящим в третью Московскую военную гимназию.
Случайное посещение петербургского морского музея, а затем Кронштадта, произвело на мальчика очень глубокое впечатление, и с тех пор он начал интересоваться всем, что касалось моря и его жизни. Однако военная сторона морской жизни его не увлекала, и он решил сделаться моряком торгового флота.
Пятнадцати лет он вышел из шестого класса гимназии и в августе 1882 года отправился на Черное море, где поступил в Керченские мореходные классы. В том же году он совершил и свое первое морское плавание на пароходе „Л. Ф. Гадд“.
Весной 1883 года, перейдя с первого во второй класс, он поступил матросом на пароход „Астрахань“, плававший между портами Азовского моря и Константинополем. По окончании мореходных классов, он решил поплавать несколько лет за границей в дальних водах на иностранных кораблях, чтобы усовершенствоваться в морском деле и знании иностранных языков.
Проплавав два года на иностранных парусных кораблях и побывав за это время в Вест и Ост Индиях, в Америке и Австралии, Д. А. вернулся в Петербург и, поступив в петербургские мореходные классы, сдал при них выпускной экзамен на звание штурмана.
Дальнейшая жизнь Д. А. Лухманова так сложна и разнообразна, так тесно связана с географией и этнографией чуть ли не всех стран мира, что для того, чтобы дать о ней хотя бы приблизительное понятие, пришлось бы написать целую книгу. Д. А. плавает по разным морям, командует судами, занимает различные административные должности, связанные с морским делом, подолгу живет в Китае, в Японии, в Восточной Сибири, усердно занимается самообразованием, литературой, изучает иностранные языки и принимает активное участие в революционной борьбе.
С 1924 года он занимает должность Начальника Ленинградского Морского Техникума Водных Путей Сообщения и посвящает себя почти исключительно работе по воспитанию нашей морской молодежи.
Летом 1927 года, по совместной просьбе Цумора, Цутранпроса и Совторгфлота, он принимает под команду рабоче-учебный парусный корабль „Товарищ“ и делает на нем рейс в Аргентину.
Перу Д. А. Лухманова принадлежит целый ряд научных статей по разным морским вопросам. Кроме того, он пишет рассказы из жизни торговых моряков и стихи.
Торжественный пленум Губпрофсовета, посвященный десятилетию ВЦСПС, представил Д. А. Лухманова в числе четырнадцати выдающихся работников Ленинграда к званию Героя Труда».
Осталось добавить, что в 1933 году Дмитрий Афанасьевич Лухманов стал директором Потийского морского техникума, затем был сотрудником Наркомата морского флота СССР.
Несколько слов об иллюстративном материале, использованном при подготовке настоящего издания. Рисунки Григория Филипповского взяты из книги «Под парусами» (М., «Молодая гвардия», 1948), а чертеж корабля «Товарищ», сделанный автором, и рисунки П. Рябова к «Маленькой морской энциклопедии» и «Краткому словарю морских терминов» – из книги «Соленый ветер» (М., «Молодая гвардия», 1933).
Приложения – энциклопедия и словарь – авторские. Дмитрий Афанасьевич включал их во все свои книги, пополняя от издания к изданию.
Надеюсь, что вы, читатель, испытаете радость от общения с капитаном и писателем Дмитрием Лухмановым.
И. Новиков
Соленый ветер

В этой книге нет ни одного слова неправды. Нет выдуманных приключений, нет приукрашенных или подтасованных фактов. Эта книга – кусок действительной жизни.
ДМИТРИЙ ЛУХМАНОВ

Я буду моряком!
Мой отчим хотел сделать из меня офицера, а моя мать – образованного человека.
Желание матери более или менее исполнилось, хотя и не совсем обычным для русского интеллигента способом.
Из желания отчима ничего не вышло, но меры к его исполнению принимались довольно радикальные.
Началось с того, что меня десятилетним мальчиком отдали в 3-ю московскую военную гимназию. Это было удивительное учебное заведение, характерное для своего времени.
В период увлечения «великими реформами» Александр II задумал демократизировать офицерский состав русской армии. Для этого в дополнение к уже имевшимся в столицах двум военным гимназиям, бывшим кадетским корпусам, куда принимались дети только потомственных дворян, были основаны в Петербурге и Москве добавочные «третьи» гимназии, куда повелено было принимать детей всех сословий.
Само собой разумеется, что равенство всех сословий было понято высшим военным начальством очень своеобразно. В эти «демократические» гимназии охотно принимали незаконных детей высшей аристократии, менее охотно – детей богатых купцов и столичного духовенства и, наконец, в самом ограниченном количестве, только, так сказать, «для запаха», – детей «благонадежных» ремесленников, рабочих и крестьян.
Но и принятую с таким разбором детвору жестоко фильтровали во время прохождения курса и выпускали только «благонравных и вполне воспитанных молодых людей».
Дисциплина была железная. Наказания жесточайшие. За невинные детские шалости, которые наказывались в других военных гимназиях оставлением без пирожного или, много-много, без воскресного отпуска, в «третьих» гимназиях держали ребят по нескольку суток в карцерах размером аршин на аршин, где можно было только смирно сидеть на узеньких скамеечках, и даже спарывали погоны, что считалось тогда самым позорным и унизительным наказанием.
Я как сейчас помню нашего директора, генерала Берталоти, барабанящего пальцем по погону стоящего «у стенки» перепуганного первоклассника, пойманного на игре в перышки. «Я вам погоны спорю!» – шипит генерал, а от начищенного мелом погона несутся из-под жесткого пальца клубы белой пыли.
За три единицы, полученные в течение одной недели, беспощадно выгоняли из гимназии.
А единицы эти наши добрые преподаватели, имевшие на сей счет особые инструкции начальства, сыпали «нежелательным» субъектам без стеснения.
При такой системе из сотни мальчиков, поступавших ежегодно в два параллельных отделения первого класса, доходило до выпуска не больше пятнадцати – семнадцати человек.
Директора и инспектора классов этих «милых» учебных заведений были народ твердый, верный и испытанный, и потоки слез наших матерей, почти ежедневно проливавшиеся в приемных, действовали на них ничуть не больше, чем на мраморные бюсты императоров, которыми были украшены эти обители скорби.
Вот в таком-то учебном заведении очутился и я и героически продержался в нем до шестого класса.
Вылетел я из него, что называется, с помпой.
Дело в том, что, начитавшись всяких морских приключений, я с четвертого класса платонически полюбил никогда не виданное мною море и решил во что бы то ни стало сделаться моряком.
Желание это, сначала детское и чисто фантастическое, окончательно созрело и укрепилось после того, как я однажды в каникулы побывал с экскурсией в Кронштадте и увидал воочию море и корабли. Затем мне случилось побывать в знаменитом петербургском Морском музее.
После этого я сделал официальную декларацию отчиму, в которой заявил ему, что ни военный мундир, ни офицерская карьера меня нисколько не соблазняют, что к кадетской муштре, вытягиванию носков и лихому козырянию я чувствую органическое отвращение, а свое училище и всех, «ведущих нас к познанию блага», глубоко ненавижу. В заключение я просил его взять меня из военной гимназии и позволить поступить в мореходные классы.
Результатом этого заявления была довольно основательная порка.
Тогда я решил действовать по-своему.
Прежде всего я купил у букиниста «Морскую практику» Федоровича, «Теорию судостроения» Штенгауза и стал их усердно изучать. В гимназии я особенно налег на математику и языки.
И вот, когда, по моему мнению, я был уже достаточно подготовлен к морской деятельности, я бросил гимназическому начальству вызов, который должен был освободить меня от дальнейшего пребывания в этой казарме.
Первой моей жертвой был законоучитель, почтенный протоиерей Смирнов.
Я спросил его за уроком, скорчив самую наивную физиономию, желал ли Бог сотворить Адама и Еву для того, чтобы от них размножились люди на земле.
– Без воли Божьей и волос человека не упадет с головы, – уклончиво ответил отец Смирнов, чувствуя готовящуюся ему каверзу, но не предвидя формы, в которую она выльется.
– Значит, Бог знал, что потомство от Адама и Евы может произойти только путем браков между их детьми. Отчего же Церковь не допускает теперь браков между сестрами и братьями, если они начались с соизволения Божия?
– Потому что впоследствии, когда род человеческий достаточно приумножился, Бог запретил браки между близкими родственниками.
– И хорошо сделал, батюшка, а то вот еще Николай Васильевич (Н. В. Сорокин, учитель естественной истории) говорил, что птицы произошли от земноводных, а в Ветхом Завете сказано, что Бог сотворил рыб и птиц на четвертый день. Кто же говорит неправду: Священная история или Николай Васильевич?
– Стань к стенке, не задавай глупых вопросов и не мешай заниматься. Вот я на тебя господину инспектору пожалуюсь. Скажи пожалуйста, какой шустрый! Лучше бы уроки заданные учил как следует… Вот ты мне скажи, каких форм строятся храмы и что каждая форма должна напоминать христианину?
– Я не знаю, батюшка. Я сегодня урока не выучил.
– Не выучил? Так вот я тебе бублик в журнал поставлю и господину инспектору доложу о твоем поведении обязательно.
Я ликовал. Зная порядки гимназии, только что переименованной указом нового императора Александра III в кадетский корпус, усилившиеся в связи с этим чисто военные строгости и взгляды начальства на необходимость внедрения религиозности, я был уверен, что меня если официально и не вышибут, то, во всяком случае, попросят отчима взять домой «по прошению» как вредный элемент. Так бы, наверное, и случилось, если бы меня не отстояли учителя математики и языков. Я отделался за «неуместные и не вовремя заданные вопросы законоучителю» всего двумя днями карцера.
Приходилось принимать более решительные меры.
Отсидев в карцере, я избрал жертвой своего нового трюка ненавидимого всеми нами воспитателя Блюменталя. Он был страшный трус и ябеда. Почти никогда не наказывая никого лично, он все время шпионил за нами и доносил обо всем инспектору Языкову, который, уже не стесняясь, сыпал суровые наказания щедрой рукой.
Я придумал такой трюк, благодаря которому нас неминуемо выгнали бы обоих – меня за то, что «сделал», а его за то, что «распустил» и «допустил».
Трюк мой был очень глупый и очень детский.
Забравшись на большой перемене в уборную, я привязал бечевками к своей стриженной по-кадетски голове сделанные из жеваной бумаги рожки, расписал физиономию красной и зеленой акварельной краской и, вбежав в рекреационный зал, под громовой хохот товарищей прыгнул с разбегу на спину шагавшего, как журавль, немца, плотно обхватив его талию ногами.
Ошарашенный неслыханной по своей дерзости выходкой, Блюменталь до того растерялся, что не придумал ничего умнее, как, крепко охватив мои ноги руками, понести меня, так сказать, с поличным прямо в квартиру Берталоти, благо она была из двери в дверь с залом.
На этот раз я достиг своей цели.
И Блюменталь и я в тот же день кончили свою карьеру в 3-й московской военной гимназии, или иначе в 3-м кадетском императора Александра III корпусе.
Это произошло 10 сентября 1882 года.
Не знаю, какова была дальнейшая судьба Блюменталя, но я 15 сентября уже ехал по Московско-Курской дороге в Севастополь, причем, несмотря на вчетверо сложенное подо мной ватное одеяло, мне после полученного дома напутствия было невыносимо больно сидеть на скамейке тряского третьеклассного вагона.
От отчима, кроме жесточайшей порки, я получил приказание не являться домой, пока не сделаюсь «человеком», и двадцать пять рублей на дорогу до Керчи, куда после телеграфных сношений с начальником местных мореходных классов О. П. Крестьяновым были высланы почтой мои документы.
Керчь была избрана потому, что мой отчим когда-то и где-то случайно познакомился с Крестьяновым, очень уважал его как старого николаевского служаку и был уверен, что он возьмет меня в ежовые рукавицы.
Таким образом сбылась моя заветная мечта: я стал моряком.
Первые рейсы
Орест Платонович Крестьянов, отставной штурманский капитан из кантонистов, оказался добрейшим и милейшим человеком.
В ежовые рукавицы меня он не взял, очень посочувствовал моей страсти к морю и очень смеялся, когда я откровенно рассказал ему, каким образом я освободился от ненавистной мне военной гимназии.
Благодаря хорошей теоретической подготовке я был принят сразу во второй класс и жадно принялся за милую моему сердцу науку.
Поселился я вместе с несколькими иногородними учениками в небольшом флигеле при доме Крестьянова. Жило нас там семь человек: Шепель, Лавров, Зеленский, Соляник-Краса, Снежницкий, Подлевский и я.
Кроме Шепеля, Лаврова и Зеленского, с которыми судьба вновь сталкивала меня после многочисленных шатаний по свету, я ярче всего помню рыжего кудлатого певуна и «социалиста», как тогда говорили, Снежницкого.
Это был здоровенный, веселый, жизнерадостный парень лет восемнадцати, бывший семинарист, обожавший книги. За две зимы совместной жизни мы все благодаря ему прочли, большей частью вслух по вечерам, «Происхождение видов» и «Естественный отбор» Дарвина, «Историю цивилизации в Англии» Бокля, «Самодеятельность» Смайльса и целый ряд подпольных литографированных брошюр.
Все свободное время я проводил на набережной и скоро составил себе обширный круг знакомств среди матросов, кочегаров, рыбаков, лодочников и грузчиков. Через две-три недели я сделался на набережной уже совсем своим человеком и отлично знал пристанскую терминологию.
«Эх, скорее бы зима прошла с ее хотя и интересной, но все же суховатой учебой, а там – пойти на целых восемь месяцев в плавание, да подальше куда-нибудь…»
Судьба сжалилась надо мной, и совершенно неожиданно мне скоро пришлось пойти в плавание, хотя и не в дальнее.
У Крестьянова был зять, Марк Павлович Вальяно, молодой капитан небольшого колесного парохода «Лев Федорович Гадд». Этот пароход плавал обычно между Керчью и Ростовом-на-Дону и только что стал в Керчи на зимний ремонт.
Но как только «Гадд» ошвартовался цепями к набережной, стравил пары и распустил команду, разъехавшуюся немедленно по домам, из правления Волго-Донского общества, которому принадлежал пароход, пришла телеграмма с приказанием сделать еще один рейс в Ростов и обратно.
Марк Павлович, не зная, где набрать команду на один рейс, обратился с просьбой к Крестьянову кликнуть клич в мореходных классах и вызвать двадцать человек охотников за вознаграждение в двадцать рублей на брата за сходку.
Охотников нашлось, конечно, больше, чем нужно, но преимущество получило наше общежитие, и мы все семеро переселились из нашей чистой комнаты в тесный, грязный и темный кубрик «Гадда».
Тринадцатого октября старого стиля[1]1
27 октября. – Прим. ред.
[Закрыть], в прекрасный солнечный день, мы отошли от пристани на Ростов через Бердянск, Мариуполь и Таганрог.
Босиком, в засученных штанах, я мыл палубу вместе с другими товарищами. Вода была холодная, и наши ноги стали скоро красными, как гусиные лапы, но делать было нечего: морских сапог у нас не было, а портить штиблеты в соленой воде не входило в наши расчеты.
Пароход слегка покачивало, и я чувствовал, что в глазах у меня начинает мутнеть, а в груди под самое горло подпирает какой-то ком.
«Так вот оно, море! – думал я, глядя на зеленые азовские волны, подбрасывающие пароход. – А ведь скверно… Привыкну или нет?» Однако боязнь быть поднятым на смех товарищами заставила употребить нечеловеческие усилия, чтобы не поддаться окончательно укачиванию, и я продолжал работу.
Но это были цветочки. Ягодки я попробовал вечером, за ужином, когда пришлось сидеть за подвесным столом в душном кубрике и насильно есть из общей чашки сильно наперченный украинский борщ.
И все-таки я досидел до конца ужина, но, лишь только встали из-за стола, опрометью бросился на палубу, протискался, пользуясь наступившей темнотой, за принайтовленные к палубе бочки с вином и тут же над ближайшим шпигатом отдал рыбам весь свой насильно съеденный ужин.
К полуночи стихло, и мне стало значительно лучше. А на другой день меня уже больше не укачивало.
Этот день ознаменовался происшествием. Мы везли на палубе чью-то корову, и она ночью отелилась. Бросили жребий, кому убирать за роженицей. Выпало мне.
Товарищи поздравили меня с первой серьезной работой, и долго потом за мной оставалась кличка «Коровий акушер».
В тот же вечер, после работы, мы устроили теленку торжественные крестины. За отсутствием подходящей купели крестины пришлось совершить по католическому обряду, поливая теленка из ковшика. Я был единогласно избран в награду за свои труды крестным отцом, маленький Павлуша Лавров был моей кумой, Снежницкий – патером; Зеленский изображал органиста и играл на гармонике какой-то тягучий вальс, который, по общему мнению, очень подходил под католические церковные мотивы. Крестины закончились балом на палубе под ту же гармонику, причем один из товарищей танцевал с новорожденным теленком на руках.
В Бердянске и Мариуполе стояли всего по нескольку часов, и на берег никто не сходил. В Таганроге ночевали и тоже ничего не видели, да и порт там далеко от города.
Зато в Ростове стояли три дня и успели побывать на берегу, разумеется только вечером. Днем все были заняты.
В те блаженные для судохозяев времена судовые команды были обязаны сами грузить и выгружать пароходы. Береговые рабочие принимали груз только «с борта» и подавали его только «на борт».
Хорошо, что привезенный нами груз состоял главным образом из маленьких бочонков с сельдями, а грузили мы бакалею, крупу и макароны. Больших тюков и ящиков не было, но с непривычки и от пятипудовых мешков с крупой здорово болела спина.
Назад вернулись через Ейск и Темрюк.
Началась зима.
Занятия в классах шли усердно, и преподаватели были недурные.
Очень хорош был преподаватель судостроения Языков. Он сумел наглядно и просто подвести нас к сложной науке теории корабля и умел популяризировать даже такие понятия, как сопротивление трущейся поверхности и метацентрическая высота[2]2
Величина, характеризующая остойчивость судна, т. е. его способность плавать не опрокидываясь. При малой метацентрической высоте качка судна на волнении будет плавной, а при большой – стремительной (резкой). – Прим. ред.
[Закрыть]. Иногда он водил нас на местные верфи, где строили и ремонтировали небольшие деревянные парусники.
Слабее других был, пожалуй, сам старик Крестьянов. Он читал тригонометрию и навигацию. Объяснял плохо и путано и заставлял нас учить формулы наизусть, не мудрствуя лукаво над их выводами. Да едва ли он сам сумел бы вывести сколько-нибудь сложную математическую формулу. Он учился в николаевские времена в черноморской штурманской роте и целиком перенес к нам основной принцип старой школы: «Больше затверживай и меньше рассуждай».
Морскую практику преподавал нам лейтенант Ясинский с военно-посыльного парохода «Прут».
Коснувшись сего предмета, не могу не вспомнить анекдот, основанный на одном свойстве моей памяти. Я как-то особенно прочно запоминаю редко встречающиеся, необычные слова или имена. Я легко забуду имя и отчество старого знакомого, которого зовут Иван Петрович или Николай Александрович, но если мне придется встретиться с каким-нибудь Елпидифором Анемподистовичем, то его имя и отчество останутся у меня в памяти на всю жизнь.
Так, меня поразила набором морских терминов страничка в учебнике Федоровича, трактующая о порядке накладывания такелажа на мачты и реи. Она сфотографировалась у меня в памяти целиком.
Однажды, дня за два или за три до Рождества, к нам в класс неожиданно приехал керченский градоначальник адмирал Вейс. Зайдя в наш класс во время урока морской практики, он остался послушать. Ясинский вызвал меня и, так как мы как раз в это время проходили вооружение парусных судов, спросил, в каком порядке накладывается на только что поставленные мачты стоячий такелаж.
Не долго думая, я начал «жарить» наизусть по Федоровичу:
– «Когда поставят мачты и укрепят их в надлежащем положении спирансами или сей-талями, тогда приступают к накладыванию стоячего такелажа. Сначала накладывают сей-шкентеля, туго наколачивая мушкелями их огоны на топы и плотно осаживая драйками до подушек, затем ванты попарно на каждую сторону, начиная с первой пары, и, наконец, штаги. Если число вант нечетное…» – и т. д. и т. д.
Эффект получился чрезвычайный.
Растроганный старый адмирал похлопал меня по плечу, погладил по голове, заявил, что из меня будет толк, и пригласил к себе на елку – честь неслыханная для пролетария-морехода. Ясинскому пожал руку и сказал, что ему приятно видеть так прекрасно поставленное преподавание основного предмета морского дела. Крестьянову тоже сказал какой-то комплимент.

Я сделался героем дня.
С тех пор, кто бы ни приезжал в класс из высоких посетителей, если он только попадал на урок морской практики, Ясинский неизменно вызывал меня и после паузы, долженствовавшей изображать его раздумье, неизменно говорил:
– А ну-ка расскажите нам, что вы знаете о порядке накладывания стоячего такелажа на только что поставленные мачты.
Напрасно я уверял Ясинского, что я вообще хорошо знаю морскую практику и что мне можно задавать любые вопросы по этому предмету, Ясинский был непоколебим.
– Э, батюшка, – отвечал он, – по другим каким вопросам при начальстве-то еще, может, и собьетесь, а уж это-то твердо знаете, за это я спокоен, – никогда не забуду, как вы меня тогда при Вейсе разодолжили. Вот уже действительно подарок к Рождеству сделали!
1 марта начались переводные экзамены.
Я перешел в третий, выпускной, класс, и надо было пристраиваться на летнюю практику.
В те времена ни о каких учебных судах для моряков торгового флота не было и помину, и все мы обыкновенно нанимались на лето матросами или на местные пароходы, или на мелкие парусники, которыми тогда кишели Черное и Азовское моря.
Только дети богатых родителей, а их было в старых мореходных классах немного, поступали на пароходы РОПИТа[3]3
Русское общество пароходства и торговли. – Прим. авт.
[Закрыть] волонтерами, или, как мы их называли, «вольнолодырями». Волонтеры не только не получали жалованья, но еще платили от себя двадцать пять рублей в месяц за стол. Положение их на судне было довольно двусмысленное. Матросы над ними издевались, помощники капитана считали их балластом, не знали, что с ними делать, и цукали вовсю.
Я поступил матросом второго класса на пароход Волго-Донского общества «Астрахань», совершавший рейсы между Таганрогским рейдом и Константинополем[4]4
Стамбул. – Прим. ред.
[Закрыть].
«Астрахань» был небольшой плоскодонный двухвинтовый товаро-пассажирский пароход типа трехмачтовых шхун. По обычаю того времени он имел и парусное вооружение с реями на фок-мачте.
Жалованье мне было положено двадцать один рубль на своих харчах. Столовались артелью, и это обходилось нам по восемь рублей в месяц на человека, чай и сахар каждый должен был иметь свои.
Из Керчи, где пароход зимовал, пошли в Севастополь на эллинг РОПИТа для очистки и окраски подводной части. Из Севастополя – в Таганрог.
Жил я с товарищами по кубрику хорошо. Сначала старые матросы пробовали «травить», советовали мне поесть морского ила, чтобы не укачивало, посылали точить напильником лапы у якоря, осаживать деревянным мушкелем чугунные кнехты, якобы слегка отставшие от палубы. Но я знал все эти традиционные морские шутки и всегда ловко и без злобы их парировал.
Работу я знал, а если чего не знал, то наблюдал и догадывался.
Помню, раз послали меня подмести палубу на юте.
Дул свежий попутный ветер, и я, конечно, начал мести по направлению от кормы к носу.
Боцман увидел это и притворно сердитым голосом окрикнул меня:
– Кто же это научил тебя сзади наперед палубу мести, ежова голова?
– Ветер научил, Семен Прокофьевич, – спокойно ответил я, продолжая работу.
– Ишь, черт, догадался, – улыбнулся в бороду Семен Прокофьевич.
Другой раз мне пришлось красить рубку. Я никогда до этого не держал кисти в руке и стал тщательно наблюдать за товарищами, копируя все их движения.
– Вникаешь? – спросил проходивший мимо боцман.
– Вникаю.
– А в чем суть дела?
– А в том, чтобы густо не ляпать да хорошенько растирать, а когда разотрешь одно место, заштриховать его легонько сверху вниз. Краски на кисть брать поменьше, глубоко не макать.
– Ну, валяй, валяй, суслик! Правильно понял.
Скоро все это сделало меня среди команды «своим». А когда я взял на себя еще дополнительную литературную работу – писать малограмотным товарищам письма на родину, – то начал пользоваться даже уважением в кубрике.

Кто не знает этих знаменитых писем, для которых еще так недавно существовал чуть не веками освященный шаблон!
«Дражайшие мои родители, Иван Сидорович и Марья Семеновна, во первых строках моего письма испрашиваю вашего родительского благословения, навеки нерушимого, кое может существовать по гроб жизни. Еще кланяюсь дяденьке нашему Карпу Сидоровичу с супругою ихнею Анной Степановной, еще кланяюсь…» Дальше шли бесконечные поклоны всем родным и знакомым, причем вежливость требовала даже грудных детей называть по имени и отчеству. После поклонов сообщались новости. Здесь иногда допускалось разнообразие и даже фантазия.
– А ну-ка, Митрий, отпиши им чего-нибудь позабористей из нашей жисти.
И я отписывал:
«А еще поймали мы морскую рыбу – кита, огромную, саженей в десять будет. Злющую-презлющую. Как ударила хвостом по пароходу, то пароход наш подпрыгнул на сажень кверху и пробился насквозь. Начали мы тонуть. Думали, пришел всем конец; стали Богу молиться, и Бог нас помиловал. Затянуло в дыру мимо плывшего тюленя, он заткнул пароход, и течь остановилась. Тем и спаслись. А ловили мы этого кита-рыбу на удочку из каната, с якорем заместо крючка, насаживали на якорь живую корову. Хотели мы этого кита есть, – думали, надолго хватит, большую экономию на продовольствии загоним; однако когда ему пузо топорами разрубили, то нашли в нем морскую лодку-шлюпку с четырьмя мертвыми гребцами, и стало нам до того противно, что отрубили мы канат, и чудовище утонуло в морских пучинах…»










