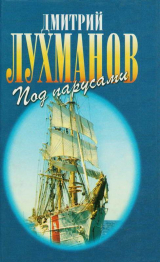
Текст книги "Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны"
Автор книги: Дмитрий Лухманов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
Трогательно писал я. Матросы только кряхтели и удивлялись: «Откуда это у Митрия берется? Ловок писать, суслик».
Воображаю, какой эффект производили мои литературные упражнения где-нибудь в Тамбовской или Черниговской губернии.
Отхожие промыслы в России обычно группировались по уездам. Почему, благодаря каким историческим обстоятельствам одни уезды поставляли на всю Россию огородников, другие – плотников, а третьи – половых, отгадать трудно. Но факт остается фактом. В те годы, которые я описываю, черноморский торговый флот почти целиком комплектовался уроженцами Чигиринского уезда Чигиринской губернии – «гайдамаками» и «галушкоедами», как их звали на пароходах, и «тамбачами» или «кацапами» – уроженцами Елатимского уезда Тамбовской губернии.
Гайдамаки и кацапы плохо уживались на одном судне, и во избежание ссор и драк капитаны старались подбирать весь экипаж или целиком из чигиринцев или из елатимцев. Но это не всегда удавалось.
Наш пароход был преимущественно елатимский.
С лошадьми на борту
В Таганроге «Астрахань» нагрузили пшеницей насыпью, а на палубу мы приняли двадцать четыре лошади.
Лошади эти были куплены какими-то важными турками на воронежской ярмарке и назначались для султанской конюшни. Они шли с проводниками из русских татар под начальством турецкого офицера.
Для лошадей были устроены на палубе особые стойла с кормушками. Лошади стояли мордами к борту, а хвостами – к середине парохода, причем хвосты – краса и гордость русских рысаков – были забинтованы парусиной, чтобы не вытирались в качку о задние брусья стойл.
Погода была отличная.
Штилями, без малейшей качки, прошли мы весь путь и на рассвете четвертого дня плавания подходили к Константинопольскому проливу[5]5
Босфор. – Прим. ред.
[Закрыть].
До входа в пролив оставалось по судовому счислению не больше двадцати миль, когда над теплым сонным морем стали подниматься пушистые белые клочки утренних испарений. Скоро эти клочки начали слипаться друг с другом и превратились в сплошной молочно-белый туман, плотно окутавший судно со всех сторон.
Вахтенный помощник вызвал на мостик капитана.
Убавили ход и начали давать свистки.
Через час бросили лот, но на сорока саженях дна не достали.
Пошли ощупью дальше.
Вдруг баковый закричал не своим голосом:
– Берег под носом!..
И в ту же минуту и люди и лошади попадали от страшного толчка. Нос парохода поднялся и вылез из воды.
Впереди сквозь гряду тумана чернела высокая стена гористого берега.
Обмерили воду.
Под носом оказалось всего четыре фута. Под кормой – двадцать пять.
В трюмах воды не обнаружили.
Пароход выскочил с малого хода на круто спускавшиеся в море широкие плоские плиты, вероятно базальтового происхождения, и не получил пробоины.
Дали «полный назад», поработали машиной минут двадцать, но «Астрахань» даже не дрогнула. Плотно уселась.
Завезли с кормы на проволочном тросе сначала стоп-анкер, а затем и становой якорь и попробовали стягиваться брашпилем, опять дав машине «полный назад», но якоря не забирали в каменном дне и приползали обратно к судну.
Положение было критическое. Задуй ветер с моря, и пароход мог разбиться вдребезги, да и мы все погибли бы: на отвесные скалы во время прибоя не вылезешь.
Часам к девяти утра туман разошелся, и мы увидели прямо перед собой, на вершине почти отвесной черной стены береговых скал, странную башню с грибовидной крышей, окрашенную красными и белыми поперечными полосами. По этой башне узнали, что нас в тумане отнесло течением на три мили к западу от пролива. От башни в глубь берега тянулись, насколько хватал глаз, телеграфные столбы.

Это уже значительное облегчение: можно было снестись с Константинополем и вызвать на помощь буксир.
Немедленно на шлюпке был откомандирован один из помощников с телеграммой послу в Константинополь.
Шлюпка пристала к утесам. Гребцы долго искали места, где можно было бы высадиться.
Наконец помощник и один из гребцов начали карабкаться по уступам скал к маяку.
Мы глядели на них с тяжелым чувством. Да, действительно, задуй ветер с моря, начнись прибой, буруны – и ни одна живая душа не спаслась бы у этих скал…
Капитан подробно описал в телеграмме критическое положение парохода, просил посла доложить о происшедшем министру султанского двора и настаивать на немедленной присылке нам на помощь турецкого военного судна. Он сильно надеялся, что султанские лошади, смирно стоявшие в своих стойлах и жевавшие сено, спасут пароход и оградят Волго-Донское общество от расходов по найму частных буксиров.
Но расчет нашего капитана не оправдался.
Ответ его величества, переданный нам послом по телеграфу, был краток и прост: «Старайтесь спасти лошадей». В заключение посол добавлял, что пошлет нам на помощь русский стационер «Тамань», но что «Тамань» стоит без паров и сможет выйти из Константинополя только к вечеру.
Барометр падал. Ждать вечера было рискованно…
Тем временем весть о русском пароходе, выскочившем на камни неподалеку от входа в пролив, облетела Константинополь, и к нам направились три частных буксира. Все три были под командой греков, которые отлично учитывали и наше положение, и падающий барометр.
Началась отчаянная торговля, сопровождавшаяся клятвами, биением в грудь и руганью на всех европейских языках.
Наконец за одиннадцать тысяч рублей греки стянули нас с мели, и мы в тот же вечер благополучно пришли в Константинополь.
Подходя уже к Золотому Рогу, встретили только что вышедшую к нам на помощь «Тамань». Выругав ее в душе как только могли, вежливо извинились в рупор за беспокойство и прошли к своему якорному месту.
Султан был очень доволен и наградил нашего капитана «за спасение лошадей» каким-то орденом.
С утра началась выгрузка.
Моя вахта была отпущена на берег.
На берегу мы проделали все, что полагалось проделать матросам старого русского флота в Константинополе: были на базаре и накупили всякой ненужной дряни, вроде коробочек, оклеенных раковинами, рамочек из кипарисового дерева и пестрых шелковых носовых платков. Впрочем, купили еще по фунту турецкого табаку и по коробке рахат-лукума. Посетили Св. Софию, напились отвратительной сладкой греческой мастики и вонючей ракии. Подрались с английскими матросами и часов в одиннадцать вечера вернулись на судно. На другой день наша вахта осталась работать на судне, а другая съехала на берег и проделала то же самое.
Обратного груза из Константинополя для нас не нашлось, и мы пошли в Таганрог порожняком. Капитан, по поручению ростовской конторы, закупил большие запасы материалов для наших азовско-донских пароходов. Тут были банки с масляной краской, резиновые клапаны и прокладки, асбестовая набивка, слесарные инструменты и пр.
Нужно было доставить все это в Ростов, не заплатив таможенных пошлин, – дело, казалось, нелегкое, но наш капитан был большой спец по части провоза контрабанды.
Краска и резиновые изделия, не боявшиеся подмочки, были уложены в междудонном пространстве, заполненном затем балластной водой. Туда же пошли и хорошо смазанные салом с белилами крупные металлические вещи. Асбестовая набивка была уложена в подшкиперной, внутри бухт с запасными тросами, мелочь искусно запрятана в потайных уголках парохода. Команде за молчание обещана награда.
Пришли в Таганрог и стали на рейд.
Судно осмотрела таможня и ничего не нашла, но на время стоянки к нам по обыкновению был посажен таможенный досмотрщик, по-черноморски – «гвардион», а по-морскому – «скорпион».
Вечером того же дня этот доблестный охранитель интересов казны был напоен до бесчувствия дешевым константинопольским ромом, заперт в каюте и храпел во все носовые завертки. А мы выкачали балласт, тихонько снялись с якоря и пошли без огней к донским гирлам. Там, по условию, ждала нас баржа с известным только нам расположением фонарей. Выгрузив контрабанду, так же тихо вернулись на Таганрогский рейд и стали на место.
Гвардион проспался, хватил с похмелья хороший стакан рома и важно разгуливал по палубе с капитанской сигарой в зубах.
Вероятно, я проплавал бы на «Астрахани» до начала зимних занятий, если бы не маленький инцидент, повлекший за собой крупную размолвку с капитаном.
У нас среди команды завелся ухарь из херсонских красавцев, о которых поют одесские «мешочницы»:
Он хорош своим патретом,
Не страшны ему враги.
Его волос под шантретом,
И на рипах сапоги.
Звали его Никита Савельич Шученко. Это был балагур, остряк, гармонист, лодырь и необыкновенный нахал. В кубрике прозвали его Никита Пустосвят.
Так как я был самым младшим в команде, то Никита решил сделать меня мишенью своих выходок и плоских острот. Я огрызался довольно удачно. Но однажды, когда я писал письма домой, а Никита вертелся вокруг меня, как муха вокруг блюдца с вареньем, и приставал со своими дурацкими остротами, я вспылил и запустил в него тяжелой свинцовой чернильницей.
Никита с подбитым глазом и физиономией, вымазанной кровью и чернилами, полетел жаловаться к капитану.
Меня вызвали для объяснений.
Султанов с неизменной сигарой в зубах сидел в мягком кресле и читал газету. На нем был чистенький белый китель с блестящими погонами корпуса флотских штурманов.
Старший помощник Лахматов, лейтенант, зачисленный по флоту, сидел тут же и тоже был в форме.
Капитан, выслушав лживую повесть о том, как я ни за что ни про что чуть не убил бедного Никиту, грозно обратился ко мне:
– Что ты наделал, звереныш!
Я молчал, уставясь глазами на палубу.
– Да знаешь ли ты, что я велю тебя, как мальчишку, за это выпороть хорошенько, а?
Я ответил, что никому не позволю подымать на меня руку.
– Убрать его сию же минуту с парохода! – закричал капитан.
И меня убрали…
Через час с маленьким парусиновым чемоданчиком я отъезжал на шлюпке от борта «Астрахани», а Никита стоял на баке, кривлялся и посылал мне вдогонку вычурные ругательства.
Черноморская каторга
Остаться без места матросу в старой России во время навигации было делом не из приятных.
Судов дальнего плавания, меняющих команду порейсно, у нас почти не было.
Матросских домов или морских контор для найма, как за границей, тоже не было. Не было тогда и никаких профессиональных организаций.
Съехал я на берег с девятью рублями.
Хорошо, что все это случилось не в Таганроге, а в Севастополе, куда «Астрахань» зашла в док РОПИТа после константинопольской посадки.
Через Севастополь проходили крымско-кавказские линии нескольких пароходств, и много судов заходило на ремонт.
Прежде всего я решил не тратить ни копейки на гостиницы. Май в Крыму гарантировал удобства ночлега на бульваре. Чемоданчик можно было оставить на хранение у докового сторожа. На еде я экономил как только мог, питаясь щами, хлебом и чаем.
С утра до ночи ходил я по пристани Южной бухты или околачивался у эллинга РОПИТа.
Но напрасно предлагал я свои услуги «дяденькам боцманам». Ответ был всегда один и тот же: «Не требуется».
Наконец на пятый день моих поисков мне удалось поступить на «Веру» пароходства Родоканаки, плававшую по крымско-кавказской линии.
В старых условиях плавания это была каторга, которую безропотно могли сносить или первогодки, вроде меня, или старики и пьяницы.
Восемнадцать рублей при своих харчах, служба на две вахты при заходах в порты через каждые несколько часов, бессонные ночи, беспокойные открытые рейды и бесконечная трюмная работа, от которой трещала и ныла молодая, неокрепшая спина.
И это летом, когда на Черном море стоит тихая погода. А каково на этой линии поздней осенью или зимой! Снежные метели у Одессы, новороссийская бора и страшные штормы кавказского побережья делали линию необыкновенно тяжелой.
Но эта линия наглядно знакомила молодого моряка с номенклатурой и упаковкой самых разнообразных товаров, учила быстро разбирать товарные марки и литеры, принимать и быстро распределять по трюмам грузы, назначенные в два десятка портов, знакомила с плаванием в виду берегов, учила лоции, входам и выходам из портов и самым разнообразным постановкам на якоря, бочки и у пристаней всех видов.
Баковая компания на «Вере» подобралась преимущественно Чигиринская.
Я получил прозвище «кацапёнка».
Ухарей с сапогами «на рипах» среди новых товарищей не было. Были все больше люди солидные, старослужилые черноморцы, коммерсанты и мрачные пьяницы, хотя и не без присущего украинцам юмора.
Скучно было плавать с этой публикой.
Из Севастополя пошли по портам до Батума, из Батума – в Одессу, из Одессы – снова в Батум.
В этот рейс как раз на Керченском рейде со мной произошло несчастье.
Выгружали тяжелые снаряды для керченской крепости. Я работал на лебедке.
Вдруг вырвало паром дно у лебедочного цилиндра. Осколки чугуна и оторванные гайки полетели во все стороны.
Осколком меня сильно ударило по колену. От острой, нестерпимой боли я свалился на палубу. Раненая нога попала как раз под валивший из цилиндра пар и была моментально обварена.
Подбежавшие на помощь товарищи оттащили меня от лебедки и снесли на руках в кубрик.

Послали за доктором, а пока что обмотали обваренную ногу пропитанными олифой тряпками.
Доктор нашел кроме ожогов сильный ушиб и опухоль левой чашечки, но ни трещин, ни сдвига не обнаружил.
Свезли в больницу.
А «Вера» ушла своим рейсом.
В больнице я пролежал неделю.
Дней через десять, по матросскому выражению, «все присохло, как на собаке». Остались только шрамы и пятна, да сгибать ногу было больно.
В конторе больницы я получил оставленное для меня жалованье с «Веры» – пять рублей двадцать копеек – по следующему расчету: причитается за девятнадцать дней июля, из расчета восемнадцать рублей в месяц, одиннадцать рублей сорок копеек; удержано в артель шесть рублей двадцать копеек; причитается к выдаче на руки и сдано в контору керченской городской больницы пять рублей двадцать копеек.
Счет был подписан старшим помощником капитана.
Итак, я был рассчитан по день увечья, полученного при исполнении служебных обязанностей вследствие плохого состояния судовых механизмов.
Хорошо еще, что доктора и больницу мне не поставили в счет.
Конечно, я мог судиться, требовать жалованья по день выздоровления, но кто из обсчитанных моряков делал это? Почти никто. Большинство ограничивалось крепкой руганью по адресу своих эксплуататоров, потому что суд был всегда на стороне судовладельцев.
К Крестьянову я не пошел, отложив визит к нему только на самый крайний случай. Крестьянов стал бы посылать телеграммы отчиму, просить перевода денег, начал бы уговаривать меня отдохнуть и окончательно поправиться, а я хотел плавать и зарабатывать деньги, чтобы не висеть камнем на шее у отчима.
Шхуна «Святой Николай»
Я знал в Керчи на набережной трактирчик, любимое пристанище местных каботажников, и отправился прямо туда. Там я разыскал знакомого полового, рассказал ему про свои беды и просил рекомендовать кому-либо из завсегдатаев заведения.
Спать в Керчи на бульваре мне было неудобно: могли опознать и отправить к Крестьянову. С деньгами тоже надо было быть экономным до крайности, тем более что у меня очень обострился вопрос со штанами: имевшаяся на мне пара едва держалась и была вся заплатана, а новые молескиновые или камлотовые стоили на базаре около трех рублей. Поэтому я предпочел, при помощи того же знакомого полового, пристроиться временно в трактирной кухне.
Я мыл посуду, чистил ножи и вилки, щипал кур, скоблил чешую с рыбы и за это получал обед, чай в неограниченном количестве и право спать на одной из кухонных лавок.
Это меня устраивало, так как давало возможность быть всегда под рукой и не прозевать место.
На третий или четвертый день пребывания на кухне мой приятель вызвал меня неожиданно в зал и представил почтенному бородатому человеку, одетому в вышитую украинскую сорочку, люстриновый черный пиджак и полосатые брюки.

Бородатый человек внимательно осмотрел меня с ног до головы.
Затем между нами произошел следующий диалог:
– Как тебя зовут?
– Дмитрий.
– Паспорт есть?
– Есть.
– Борщ могишь сварить?
– Могу.
– А кашу?
– Тоже могу.
– Эге! Може, и бишкет зажарить могишь?
– Могу.
– А на бабафигу[6]6
По черноморской терминологии – брамсель. – Прим. авт.
[Закрыть] лазил когда?
– Лазил.
– И закрепить сумеешь?
– Сумею.
– Ну, иди ко мне кухарем. Жалованье десять рублей положу.
– Харчи, стало быть, ваши?
– Харчи у кацапов, а у меня продовольствие.
– Будь по-вашему, я согласен. А как ваше судно зовут?
– «Святой Миколай». Стоит на якори недалече от волго-донской пристани. Як приедешь, спытай капитана Борзенку.
– А задаток дадите?
– А сколько тебе?
– По положению, за полмесяца.
– Ни. Давай документ – дам три карбованца, больше не дам.
– Давайте!
– А когда на шхуне будешь? Завтра раненько снимаемся.
– К вечеру буду.
– Добре! Давай документ.
Я передал выданное мне из мореходных классов свидетельство.
Борзенко внимательно его прочитал и сунул в карман. Затем вручил мне засаленную трешницу.
Договор был заключен.
На полтинник мы вместе с приятелем-половым выпили пива. Затем я сделал запас табаку, мыла, спичек, иголок и ниток и, зная порядки на парусных судах, купил для собственного употребления два фунта сахару и бутылку водки для угощения новых товарищей.
С этими расходами от моего основного капитала, подкрепленного полученным задатком, осталось около полутора рублей, с которыми я и пустился в новое, на этот раз парусное, плавание.
«Св. Николай» было старое, невзрачное суденышко тонн на сотню, вооруженное двухмачтовой шхуной с прямыми парусами на фок-мачте.
Капитанская каюта, по черноморской терминологии – «камора», помещалась в корме, а кубрик – на носу. Мое царство – камбуз – было устроено в маленькой переносной рубке метра полтора величиной, установленной на палубе за грот-мачтой.
Команда состояла из боцмана – «старого», двух «хлопцев» и меня – «малого».
«Повдничали», «обидали» и «вечеряли» все вместе, из общей чашки, не исключая и капитана. В хорошую погоду ели на палубе, на светлом лючке над каморой, а в дурную – за столом в самой каморе.
Отношения капитана со своим экипажем были патриархальные. Мы его звали Григорий Мосеич и говорили «вы», кроме «старого», который всем говорил «ты». Капитан говорил нам «ты» и звал по именам, а «старого» звал «диду».
Терминология, по обычаю черноморских парусников, была принята у нас итало-греческая. Общепринятая в России морская терминология называлась «хлотской» и подвергалась злой критике.
По нашей терминологии, нос судна назывался «прова», корма – «пупа», якорь – «сидеро», цепь – «кадина», фок – «тринкет», фор-марсель – «парункет», брамсель – «бабафига» и т. д. в этом роде.
Даже румбы компаса назывались по-итальянски: север – «трамонтане», восток – «леванте», юг – «острия», запад – «поненте».
Я уже забыл теперь эту странную смесь исковерканных украинским выговором итальянских и греческих слов, но когда-то знал ее хорошо.
Итак, ранним августовским утром мы снялись с якоря и с тихим, еле чувствительным, но попутным ветерком двинулись к выходу из Керченского пролива в Азовское море.

Мы шли порожняком в Геническ за солью для Ростова.
«Старой» дал мне несколько уроков кулинарного искусства, и я оказался недурным «кухарем».
Утром, в семь часов, мы пили чай и ели хлеб или галеты – это называлось «повдник». В одиннадцать я подавал неизменный борщ с затиркой из помидоров и пшенную кашу. Мясо из борща не резалось на пайки, а мелко крошилось на деревянной тарелке и подавалось после борща. Ели сосредоточенно, молча и истово, следя, чтобы кто-нибудь не стащил не в очередь лишнего куска мяса. Часов в пять «вечеряли». На «вечерю» шли остатки разогретого борща. Затем пили чай, разумеется вприкуску, причем в чай для большей крепости прибавляли немного цикория.
После «вечери» устраивались обыкновенно литературные вечера.
Все, кроме рулевого, садились на палубе вокруг светлого лючка, а я читал вслух Гоголя или Шевченко, которые вместе с вахтенным журналом хранились у Григория Мосеича в каюте на маленькой самодельной полочке.
Читали до темноты. Эти чтения в наивной и горячо реагировавшей на все маленькой аудитории доставляли мне большое удовольствие.
Самым шумным успехом пользовались «Тарас Бульба» и шевченковские «Гайдамаки». Лирика, вроде «Катерины», производила сравнительно слабое впечатление. «Старосветских помещиков» я даже не читал. Борзенко, перелистывая как-то том Гоголя и дойдя до них, прямо сказал:
– О це ерунда, не стоит и читать.
Зато юмор, рассыпанный вперемешку с красочным элементом сказочности в «Майской ночи» или в «Ночи перед Рождеством», очень нравился. Огромное впечатление произвел также «Вий».
Когда наступала темнота, все укладывались спать тут же на палубе, причем Борзенко и «диду» ложились подле рулевого, чтобы он в случае надобности мог немедленно их разбудить. Спали они чутко и раз по десять за ночь вскакивали, осматривали горизонт, небо, паруса и снова сейчас же засыпали, укутавшись, несмотря на теплую ночь, тулупами. Часов, видимых рулевому, не было. Старинные серебряные часы в виде луковицы были только у капитана и висели над изголовьем его койки. Рулевой судил о времени по движению звезд, а если было облачно, то просто по впечатлению, а когда уставал, то будил «дида» и просил сменить, а «дид» расталкивал другого хлопца или меня и посылал на руль.
Правили румпель-талями. Штурвала не было.
Компас был самый первобытный и маленький, сантиметров двенадцать в диаметре.
Навигационных инструментов, кроме вьюшки с лагом, десятифутового лота, засаленной генеральной карты Азовского моря и хромого циркуля, не было никаких. Впрочем, у капитана был еще довольно недурной полевой бинокль, купленный за три целковых у какого-то подозрительного портового бродяги. Борзенко очень гордился этим биноклем, но держал его у себя в комоде и выносил на палубу редко. Да он и не нужен был: зрение у него было, как у индейца американских прерий, а берега Азовского моря он знал не хуже переборок своей двухметровой каморы.
В тумане он изумительно определялся по глубинам и по грунту. Образчик грунта, прилипший к салу, вмазанному в донышко лота, он всегда не только долго и тщательно рассматривал, но и нюхал. Затем срезал острым ножичком и клал на люк. Полудюжины систематически измеренных глубин вместе с полудюжиной образцов грунта было совершенно достаточно для Борзенко, чтобы отлично определить место судна и с уверенностью идти дальше.
Но с этими способностями нашего капитана я ознакомился позже, а до Геническа стояла все время удивительно ясная и тихая погода, чересчур тихая, затянувшая этот коротенький переход в сотню морских миль на две недели.
Борзенко нервничал и даже иногда зажигал восковую свечку перед иконой патрона нашего судна – св. Николая. Но ничто не помогало: штили нас преследовали. Паруса лениво хлопали о мачты, море безмятежно спало под ласковым солнцем, и на небе не показывалось ни одного облачка.
Раз как-то утром я наводил порядок в каморе. Борзенко резким движением подошел к образу, потушил нагоревшую восковую свечку и сказал, обращаясь не то к Николаю, не то ко мне:
– Вот итальянцы в такие бунации[7]7
Штили. – Прим. авт.
[Закрыть] молятся-молятся своему Антонию, потом возьмут его, привяжут на бечевку да покупают хорошенько в море – так небось задует тогда… А то, скажите пожалуйста, вторую неделю хоть пешком по морю ходи…
В этих словах нашего почтенного капитана мне почудилась довольно прозрачная угроза по адресу бедного Николая, и если бы Мосеич родился не в Чигирине, а где-нибудь в Генуе или в Палермо, болтаться бы бедному мирликийскому чудотворцу на бечевке за бортом.
Но Никола остался благополучно висеть на своем месте, а мы на четырнадцатый день доплелись-таки до Геническа и стали на якорь на рейде.
На следующий день приступили к погрузке соли насыпью.

Никогда не забуду этого ужаса. Стояла тропическая жара. Чтобы не платить грузчикам, мы не только сами штивали[8]8
Штивать – перекидывать лопатами, уравнивать сыпучий груз. – Прим. ред.
[Закрыть] соль в трюме, но и пересыпали ее вручную корзинками из лихтеров в судно. Для этого разбирался против люка фальшборт и мы становились цепью: один человек на подвеске за бортом, другой – у борта на палубе, третий – у люка, а «старой» становился на два шага впереди нас, между люком и бортом шхуны.
Команда лихтера насыпала соль в пудовые корзины и перебрасывала их одну за другой нашему хлопцу на подвеске, тот перебрасывал их второму, стоявшему у борта на палубе, этот – стоявшему у люка. Стоявший у люка, поймав корзину, опрокидывал ее в трюм и, пустую, перебрасывал «диду», а «дид» бросал обратно в лихтер. Таким образом получалась редкая, но непрерывная цепь, движение которой нельзя было остановить ни на минуту.
Когда десятитонный лихтер опорожнялся и другой начинал подтягиваться на его место, мы спускались в трюм разгребать лопатами наваленную горой под люком соль. Работали, конечно, босиком, и соль разъедала потные ноги. Но не портить же солью сапоги! Сапоги надо наживать да наживать, а ногам-то что? Не пропадут, облезут да опять обрастут новой кожей.
Впрочем, страдали не одни только ноги – мелкая соль, засыпаясь за вороты расстегнутых пропотелых рубах, вызывала невыносимый зуд во всем теле.
Даже наши дюжие хлопцы так изнемогали от этой работы, что вечером, когда садились за стол, никто не мог есть. А руки дрожали так, что борщ расплескивался и ложки выстукивали дробь на зубах.
«Старой» едва держался на ногах. А я, если бы не те минуты, когда, вырвавшись из трюма, бегал на кухню присмотреть за кипящим борщом или преющей кашей, не вынес бы, пожалуй, этой пытки, да еще с болевшей после ожога ногой.
При таком способе работы и нашей малочисленности погрузка шла медленно. Мы успевали обычно выгрузить один лихтер до обеда и один после обеда.
Капитан ежедневно ездил сам на базар за провизией. Ездил он на очередном лихтере, так как нашу шлюпку не с кем было гонять на берег.
На четвертый день нашей стоянки погода начала портиться, и не успели мы кончить как следует погрузку, как испортилась окончательно.
Небо затянуло тяжелыми, свинцовыми тучами, и с моря задул порывистый ветер.
По рейду побежали белые барашки, переходившие у мелей в буруны.
Последний выгруженный нами лихтер долетел под парусом до берега в несколько минут и далеко выкинулся на отлогий песчаный берег.
Мы не могли уйти в море без провизии. Наши керченские запасы давно уже кончились, а то, что капитан привозил ежедневно с базара, съедалось в тот же день.
Надо было посылать шлюпку за провизией, да и пресной воды в бочке, стоявшей на палубе, оставалось немного.
И вот Борзенко с двумя хлопцами на веслах съехал на берег.
Внимательно следили мы с «дидом» в заветный капитанский бинокль за нырявшей среди волн шлюпкой, и когда громадный белоголовый бурун подхватил ее на свой гребень и, бешено помчав к берегу, далеко выкинул на песчаную отмель, мы невольно вздохнули, а «дид» даже истово перекрестился.
– Ну, Митро, молысь теперь Богови, щоб витер стих тай помог им скорей назад вернутыся. А то и наголодаемось мы с тобой!..
Я и сам видел, что при этом ветре и прибое нашей шлюпке ни за что не пробиться обратно через буруны.
Пришла ночь. Ветер перешел уже в настоящий шторм и густым басом ревел в снастях.
Захотелось есть. Но остатки борща мы благоразумно оставили на другой день. Заварили чайку, собрали кой-какие корочки хлеба и улеглись спать, поджидая, что будет.
Наступило утро. А ветер все крепче и крепче.
Шхуну так и дергает на якорях. Того и гляди, или цепные канаты лопнут, или битенги выворотит. Скрипит наша бедная шхуна и болтается во все стороны, как язык у колокола…
Вот уже и на палубу начало поддавать.
Попробовали мы с «дидом» покачать помпу – в трюме оказалась вода.
Качали часа три подряд, пока не откачали досуха.
С полудня начало стихать, и мы с «дидом» приободрились. Съели остатки вчерашнего борща и хлеба, нашли немного пшена и сварили кашу…
Часам к шести вечера совсем было стихло, зыбь спала, и только мрачные, тяжелые тучи клубились, лезли одна на другую и низко-низко летели над головой.
Мы не спускали глаз с берега.
Буруны все еще ходили, и наша шлюпка лежала, далеко вытянутая на песок. Никто к ней не подходил…
Вдруг воздух как-то неожиданно вздрогнул, загудел, и страшный шквал положил нашу шхуну набок.
Не успела она повернуться на якорях и выпрямиться, как большая волна вкатилась на палубу, ударила в кухонную рубку и разбила ее в щепы.
Мы бросились спасать доски и кухонную посуду. Но вторая волна выбила часть фальшборта и смыла все с палубы дочиста. Мы сами едва уцелели, ухватившись за ванты.
Шквал прошел. Но ветер, отойдя румба на три к востоку, засвежел снова и задул с прежней яростью.
Положение становилось критическим. А когда мы обнаружили, что шквалом сорвало крышку с водяной бочки и бывшие в ней остатки пресной воды перемешались с морской, оно показалось нам безнадежным. Отвратительная смесь в нашей бочке получила вкус и все свойства так называемой английской соли.
Вода в трюме снова начала прибывать…
«Дид» совсем упал духом и заговорил о смерти.
Я старался утешить его, но он только отмахивался рукой.
– Не сдужаем, Митро, – говорил он слабым, старческим голосом. – Я знаю оцю погоду: волна, може, с месяц продуе. Не сдужаем…
Но я не терял надежды и тщательно собирал по всем ящикам каморы крошки сухарей и хлеба.
Утром и вечером я варил на самодельном таганчике чай и, несмотря на его противный, до тошноты, вкус, пил сам и заставлял пить «дида».
На пятый день мы кончили последнюю крошку хлеба и выпили последнюю каплю нашей полусоленой воды.
С этого момента мы начали жевать сухой чай и восковые свечи, найденные за иконой. Свечи вызывали слюну и немного облегчали невыносимую изжогу во рту. Пустой желудок ныл и как-то особенно судорожно сжимался во время движений. А двигаться нужно было, чтобы не запустить воду в трюме.
Последние два дня мы уже не могли качать помпу по очереди, а качали вдвоем. Полчаса качали и два часа отдыхали.
А впрочем, может быть, это нам так только казалось: часов-то ведь у нас не было…
На шестой день «дид» заявил, что умирает и что ему все равно.
Он лег на палубу около руля и накрылся тулупом с головой.
Я попробовал покачать помпу один, но через несколько минут бросил и тоже лег недалеко от «дида». По временам я забывался тяжелым, тревожным сном, полным всяких кошмаров…
Вдруг, уже под утро, я как-то сразу пришел в себя. Меня разбудила луна, светившая прямо в лицо.
Я с трудом поднялся на ноги и осмотрелся. Шхуну не дергало больше на якорях. Ветер стих.
Сначала я подумал, что это сон. Но резкая боль сжавшегося желудка заставила меня поверить в действительность.
Я стащил с «дида» тулуп и начал трясти его за плечи.
– Вставайте, диду. Погода прошла; скоро шлюпка придет, вставайте, мы спасены.
Но «дид» бредил и не открывал глаз. Долго будил я его, но он не верил и, думая, что все это ему снится, не хотел открывать глаз.








