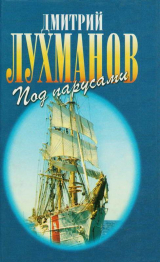
Текст книги "Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны"
Автор книги: Дмитрий Лухманов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
К вечеру погода стала портиться. На небе появились рваные клочки облаков, воздух перестал быть кристально прозрачным и начал как бы насыщаться парами. Наступающий вечер вместо освещения и прохлады нес духоту.
Я спустился в каюту посмотреть на барометр. Он падал. Солнце зашло в каком-то буро-красном тумане. К полуночи небо совсем заволокло тучами, и начал моросить дождь. Барометр продолжал падать. Все признаки приближающегося тайфуна налицо, но было еще совершенно тихо. Я решил попытаться проскочить до начала тайфуна на рейд Модзи.
Целую ночь я не отходил от маленькой рубочки, в которой посменно стояли на руле боцман и один из рулевых, прекрасно знавшие фарватер. Все было привязано и задраено. Две маленькие шлюпки „Сатанелы“ зачалены внутрь и крепко притянуты к шлюпбалкам и к борту. Тенты отвязаны и убраны вниз.
Часов в восемь утра начали налегать первые шквалы от зюйд-веста, но они не разводили зыби в этом море-озере.
По моим расчетам, центр тайфуна находился южнее и западнее нас и проходить он должен был, двигаясь на норд-ост, милях в пятидесяти от японских берегов. В десять часов, при участившихся шквалах и проливном дожде, мы подошли к Модзи.
Выбрав на берегу впадину, которая могла бы нас защитить, если тайфун будет дуть вдоль пролива, мы уткнулись носом в самый берег, отдали один за другим оба наших маленьких якоря и, отработав задним ходом, вытравили все цепи; тридцать саженей левого и сорок пять правого якоря. В полдень ветер уже ревел как бешеный, и весь пролив побелел от сплошной пены. Но ветер дул с берега, и мы стояли довольно спокойно: цепи не дергало, они напряглись и дрожали, как струны. Машина была все время наготове, и скоро пришлось дать малый ход вперед, чтобы ослабить напряжение цепей. В два часа пополудни ветер зюйд силой не меньше одиннадцати баллов, машина работает уже „полный вперед“, но якоря медленно ползут в грунте, и наше суденышко дрейфует, постепенно удаляясь от берега, прикрывающего его.
Через час ветер сразу перескочил на зюйд-ост, и нас несколько укрыл утесистый выступ берега. Цепи ослабли, дрейф остановился. Меняя свое направление против движения часовой стрелки, то есть через ост, норд-ост, норд и т. д., ураганный ветер грозил нам тем, что модзийский, или южный, берег пролива, под которым мы укрывались, должен был со временем очутиться под ветром и стать для нас гибельным. Я решил попробовать поднять якоря и, перескочив через пролив, стать под симоносекским берегом.
Стоять на палубе было нельзя. Мы ползали по ней на четвереньках. Со страшными усилиями наша маленькая команда, состоявшая из шести человек, подняла один за другим якоря. Мы развернулись правым бортом против урагана, дувшего теперь уже от оста. Яхту положило набок так, что левый борт весь ушел в воду по комингсы рубок, но волны не было, и мы двигались вперед.
Почти час борьбы между жизнью и смертью, и мы – у противоположного берега. Опять уткнулись носом в самый берег, опять положили оба якоря. „Сатанела“ блестяще выдержала экзамен и почти выпрямилась.
Ветер свирепел еще больше. Вероятно, центр тайфуна поравнялся со входом в пролив. Мы были хорошо укрыты за одним из мысов. В полночь дуло уже от норда, и пришлось снова работать машиной. С двух часов ночи ветер стал стихать. Дождь кончился.
Вместе с рассветом кончился и тайфун. Мы были в так называемой опасной половине тайфуна и отделались чрезвычайно дешево.
Думая, что Хюз, получивший за свою яхту пока что две тысячи, не совсем хорошо себя чувствовал, я послал ему из Симоносеки телеграмму:
„Сатанела“ блестяще выдержала тайфун. Пополнив уголь, следую в Нагасаки».
Взяв десять тонн угля и свежей провизии, я в тот же день перед заходом солнца приказал сниматься с якорей.
Боцман-японец доложил мне, что он и вся команда боятся выходить в море, так как после тайфуна осталась еще очень крупная зыбь. Но что значила хотя бы и огромная мертвая зыбь для «Сатанелы», которая пересекла Симоносекский пролив в самый разгар тайфуна?
Я решил идти. Наш маленький брашпиль «зацокал», наворачивая на себя одну за другой якорные цепи.
Ветра не было совершенно, но зыбь валила громадная, хотя без гребней. Что делать с «Сатанелой» в открытом море? Наш кораблик взлетал к небесам, падал в глубокие ямы, стремительно переваливался с боку на бок, становился на дыбы, падал носом вниз, но не зарывался в волны и почти не сбавлял хода. «Чертовка»[55]55
«Сатанела» – в переводе на русский язык означает «чертовка», «дьяволица». – Прим. авт.
[Закрыть] танцевала дьявольский танец. На ногах невозможно было устоять, и вылететь от толчка за борт ничего не стоило. Этот танец продолжался до самого мыса Номо у входа в Нагасакский залив, и только у Папенберга нас окончательно перестало качать. «Сатанела» под русским флагом вошла полным ходом на внутренний рейд Нагасаки.
После таможенного и санитарного осмотра я отправился с судовыми документами к консулу Костылеву.
Он уже знал о моей покупке из телеграммы своего коллеги и очень беспокоился за судно во время тайфуна. Этот тайфун наделал много бед: утопил два больших парохода, сорвал с якорей и выкинул на берег десятки судов, погубил сотни рыбацких лодок, посрывал с домов крыши, повырывал с корнем деревья.
Костылев удивлялся нашему благополучию и восторгался моими судоводительскими способностями. Все это было очень приятно и льстило моему самолюбию, но ответа из Благовещенска все еще не было.
Тем не менее приходилось, не теряя времени, приступать к ремонту и готовиться к большому морскому переходу в Николаевск. Хюзовская команда была рассчитана и отправлена в Кобе. Вместо нее был нанят ночной сторож. Я из «Бель вю» переселился в маленький, но очень уютный салончик «Сатанелы».
Переустройство яхты началось с перемены ее названия. Мне очень нравилось название «Сатанела», и оно очень шло к маленькому мореходному судну, не боящемуся никакой погоды. Но в то недоброй памяти царско-поповское время, когда каждое новое судно начинало свою службу церковным молебном и окроплением всех помещений «святой» водой, нечего было и думать об оставлении такого вольнодумного названия. Как же назвать мою покупку и как использовать литые бронзовые золоченые буквы «SATANELA», привинченные на ее кормовом подзоре?
Перебрав всякие комбинации, я наткнулся на имя, при котором все восемь букв «Сатанелы» шли в дело. Только у одного из трех «А» надо было выпилить перекладину и перевернуть его вверх «ногами», чтобы получилась буква «V». Это имя было «SVETLANA».
Название было неплохое и хорошо известное жителям дальневосточного Приморья.
Так и стала моя милая «Чертовка», которую я уже успел полюбить, «Светланой».
«Светлану» не надо было ставить в док для перемены медной обшивки. Нанятый через Федосеева подрядчик-японец приехал с рабочими, поднял якоря и во время прилива отбуксировал мой «корабль» на мелкое место, а когда начался отлив, подпер его со всех сторон толстыми бамбучинами. После спада воды «Светлана» очутилась на сухом месте, и рабочие бросились сдирать с нее старую медную обшивку. К началу прилива вся медь была снята, и обнажилась хорошо просмоленная тиковая обшивка корпуса. Я тщательно осмотрел ее и опробовал ножом. Ни одного не только гнилого, но сколько-нибудь слабого места, в которое можно было бы вогнать от руки нож глубже чем на полсантиметра, не оказалось.
В следующий отлив подводная часть была вновь тщательно просмолена, и мы приступили к наложению новой медной обшивки.
Подсчет Хюза оказался безошибочным. Пошло ровно 339 листов.
Через пару дней «Светлана» стояла на якоре на старом месте, поблескивая на солнце новой медью, поднимавшейся на несколько сантиметров выше ватерлинии.
Я не стал обезображивать «Светлану» снятием грот-мачты для устройства буксирного приспособления, тем более что мачта нужна была мне в предстоящем большом переходе для вспомогательных парусов. Я провел от нее две надежные железные тяги к комингсам машинного люка и устроил на ней буксирный гак.
Кроме устройства буксирного приспособления ремонт «Светланы» заключался в промывке и очистке парового котла, в развальцовке на нем двух ослабевших дымогарных труб, проверке и притирке подшипников и перемене обивки на двух диванах в салоне. Все это было выполнено в течение десяти дней.
«Светлана» стояла на якоре, готовая принять экипаж, запасы, поднять пары и сняться в дальний поход.
Одновременно мною был разработан стандартный чертеж судовой шлюпки. Надо было спроектировать шлюпку мелкосидящую, остойчивую, могущую поднимать не меньше двух кубических саженей дров и в то же время способную без особого труда выгребать против сильного амурского течения. Выбирая форму корпуса, я остановился на американских кат-ботах, только, конечно, без выдвижного киля. После нескольких ночей работы проект был готов, и первые двадцать шлюпок, по расценке в сто пятьдесят иен каждая, были заказаны опытному шлюпочному мастеру.
Коммерческие ловушки
Шел сентябрь, а ответа от Мокеева все еще не было.
С проходившим через Нагасаки пароходом Добровольного флота «Ярославль» я отправил Мокееву через Владивосток подробное донесение и телеграмму в двести с лишним слов.
В конце концов и Хюз и банк, в котором я занял деньги, могли терпеливо ждать еще пять месяцев, но все-таки должен же был Мокеев отозваться… Что же это, шутки, что ли: командировать человека в чужую страну, надавать ему кучу всяких срочных поручений, наобещать черта в ступе, а потом молчать как стена!
Порой я прямо свирепел. А шлюпки? Как я буду за них расплачиваться, если Мокеев будет продолжать играть в молчанку? Наконец, на что буду жить сам: ведь с оплатой комиссии Федосееву, стоимости перегона из Кобе в Нагасаки и ремонта «Светланы» от взятых из Благовещенска двух тысяч осталось уже очень немного. Ну, с месяц я еще проживу, а что дальше?
Наступила середина сентября. Ответа не было. Я окончательно извелся и не знал, что думать. Я знал теперь одно, что Мокеев – подлец, которому нельзя верить. Его молчание было совершенно необъяснимо. Я потерял сон, аппетит, изнервничался.
Перед людьми, окружавшими меня, приходилось, как говорят, держать фасон: я жил на «собственной яхте», бывал время от времени в нагасакском клубе, где поддерживал знакомство с местными коммерсантами, директорами английского и французского банков и с консулами. Я чувствовал, что это был единственный выход из положения. Сдайся, опустись, перестань гордо держать голову – и моментально превратишься в нищего, зарвавшегося авантюриста. Отнимут яхту, опишут за долги последние штаны и выкинут на улицу в чужом иностранном городе.
Со следующим пароходом Добровольного флота – «Саратовом» я опять послал длинную телеграмму и довольно резкое личное письмо Мокееву.
«Саратовом» командовал очень важный с виду, но, по словам помощников, очень добрый и отзывчивый старик Стронский.
В тот момент, когда я передавал ревизору парохода телеграмму и письмо для отправки Мокееву, он вошел в каюту.
Я поклонился и назвал себя.
– А, слышал, слышал от Костылева, – сказал Стронский, – он мне рассказывал и о вашем блестящем переходе из Кобе в Нагасаки во время тайфуна, и… еще кое о чем. Не зайдете ли вы ко мне в каюту, я, кажется, смогу дать один недурной совет.
Не знаю, что, собственно говоря, заставило меня разоткровенничаться со Стронским, но я рассказал ему всю историю со своей командировкой в Японию, все подробности покупки «Светланы», о ее ремонте и поделился с ним всеми своими переживаниями.
Старик задумался.
– Знаете что, – заговорил он, – я, кажется, нашел выход. Виноват Мокеев или нет в своем непонятном молчании, это все равно, в конце концов. Вы попали в ловушку, из которой надо выбираться, и считаться вам с Мокеевым нечего. Во Владивостоке военное ведомство нуждается в небольшом пароходе для буксировки артиллерийских щитов. Я предложу им вашу «Светлану», с них, не задумываясь, можно взять за нее тысяч пятнадцать. Это покрыло бы все ваши расходы… Вы взялись бы в случае покупки доставить ее во Владивосток за отдельную плату?
– Мне остается только поблагодарить вас, капитан.
В этот момент над нашими головами заревел мощный бас первого пароходного гудка. Я простился со Стронским и уехал с «Саратова» с облегченной душой, хотя комбинация Стронского мне и не очень нравилась в одном отношении: я никогда не был что называется коммерсантом, а тем более спекулянтом, и продавать за пятнадцать тысяч судно, которое я купил за десять, мне было неприятно. Но что было делать?..
Дней через шесть я получил от Стронского телеграмму:
«Дело налаживается, ждите прихода „Саратова“ начале октября».
Я вздохнул облегченно. Но шлюпки, проклятые шлюпки должны быть готовы, приняты мной и оплачены до первого октября!..
Перепродажа «Светланы» военному ведомству не могла состояться без участия русского консула. Мои финансовые затруднения были ему известны, и я решил поговорить с ним и попросить его совета. Костылев нашел выход: шлюпки можно было заложить в банке и заставить капитана «Стрелка» их выкупить. В ноябре, после закрытия навигации в устье Амура, «Стрелок» должен был перейти на свои осенние рейсы Владивосток – Нагасаки – Шанхай, а после того как замерзнет владивостокская бухта, стать в Нагасаки на обычную зимовку.
Итак, со шлюпками я развязался. Они были оплачены и до поры до времени оставались во дворе строителя, под контролем банка.
То, что мне удалось заложить шлюпки совершенно особенного, мною изобретенного фасона, которые никому нельзя было здесь продать за свою цену, было исключительным счастьем. Удалось это только потому, что я «держал фасон», не порывал связи с нагасакским клубом, был лично знаком с директором нагасакского отделения Гонконг-Шанхайского банка и в разное время выпил с ним несколько коктейлей в баре клуба. «Вот они, деловые-то связи», – подумал я, когда сделка совершилась.
Пришел «Саратов». На нем приехал из Владивостока для осмотра и испытания «Светланы» специально командированный комендантом крепости инженерный штабс-капитан. Была назначена комиссия под председательством Костылева, с участием Стронского и старшего механика «Саратова». Стронский дал мне для испытания «Светланы» на ходу одного кочегара и двух матросов. Федосеев был вновь привлечен в качестве судового механика.
И освидетельствование, и трехчасовое испытание «Светланы» на ходу, с буксиром и без буксира, показали ее безукоризненное состояние. Яхта вызвала восхищение всей комиссии, не исключая инженерного штабс-капитана. Комиссия составила протокол, который сделал бы честь любому судну. Все подписали его без оговорок.
«Саратов» уходил в тот же день в Одессу, и Стронский, поздравив меня с блестящим успехом, крепко пожал на прощание руку.
Владивостокский эксперт возвращался назад на другой день с ожидавшимся пароходом Добровольного флота «Тамбов». Вечером он явился ко мне пьяный. Долго и нудно, прерывая речь икотой, он рассказывал о владивостокской дороговизне и о том, как трудно живется рядовому офицерству, завидовал морякам, которые «гребут деньги лопатой», и кончил тем, что заснул у меня на диване. Проснувшись, эксперт стал тащить меня в город кататься на рикшах и показать ему японские чайные домики. Я отказался наотрез. Очень обиженный, он окликнул проходившую мимо фунэ и уехал на берег.
Прошло две недели. И вот как-то утром, читая в салончике «Светланы» какую-то книгу, я услышал в открытый иллюминатор:
– Демпо, демпо[56]56
По-японски – телеграмма. – Прим. авт.
[Закрыть]!
Я выскочил на палубу. К борту подходила фунэ с почтовым флажком на носу.
Японец-рассыльный протягивал мне два голубых пакетика.
Я разорвал первый:
«Нагасаки рейд пароход „Светлана“ Лухманову точка Ввиду того что корпус „Светланы“ деревянный крепость покупки отказывается точка Комендант генерал-майор Строжевский».
– Идиоты! – вырвалось у меня. – Да ведь нансеновский «Фрам», специально построенный для экспедиции к Северному полюсу, тоже был деревянный, ведь дерево дереву рознь!
Я схватился за вторую телеграмму.
«Ввиду превышения Вами полномочий покупке буксира без окончательной санкции правления предлагаю разделаться покупкой своему усмотрению точка Три тысячи пятьсот для оплаты шлюпок также на Ваше содержание получите заимообразно Гинцбурга которому я телеграфирую точка Остальные поручения аннулируются точка Прибытии „Стрелка“ вступите распоряжение Бредихина до открытия навигаций на Амуре точка Мокеев».
Я не помню, как сошел в каюту и опустился на диван.
Обрывки мыслей носились в голове. Если телеграмма Строжевского была продиктована глупостью и полным непониманием морского дела, то телеграмма Мокеева – величайшая подлость. Он стоял передо мной как живой – с седой эспаньолкой, золотыми очками – и визжал своим фальцетом: «Помните, прежде всего – буксир. Ищите, покупайте и телеграфируйте мне, я вполне полагаюсь на вашу опытность. Буксир в Николаевске нужен как хлеб и должен быть доставлен туда до закрытия навигации…»
А теперь что? Теперь я превысил мои полномочия! Почему же я не превысил моих полномочий с заказом шлюпок? Потому, что шлюпки нужны, а в буксире почему-то отпала надобность… «Бредихин глуп, а Гинцбург – жулик…» И теперь я должен вступить в распоряжение дурака и кредитоваться у жулика?
Мои бурные размышления прервал такой гром пушечной пальбы, какого я еще не слыхал в Нагасаки. В рубочке «Светланы» звенели толстые зеркальные стекла окошек.
Я поднялся на палубу. На рейд входила русская Тихоокеанская эскадра в количестве по крайней мере пятнадцати вымпелов. Головным шел неизвестный мне броненосец, большой и неуклюжий, на грот-мачте которого развевался вице-адмиральский флаг. На крейсере «Память Азова», который я сейчас же узнал, виднелся флаг контр-адмирала.
Старинный «Устав Торговый», еще полностью действовавший в то время, гласил: «Буде на рейд, или в гавань, или в пристань, где торговое судно обретается, взойдет эскадра, отряд или отдельный корабль российского императорского флота, шхипер торгового судна, не мешкая, должен прибыть к начальнику оной эскадры, отряда или корабля и осведомиться, не будет ли оный начальник иметь какую-либо нужду в его судне или в подчиненных ему корабельных служителях».
Говоря современным языком, я должен был немедленно ехать с визитом к начальнику русской эскадры. Надев форменную тужурку, я на наемном фунэ отправился к кораблю под адмиральским флагом. Он оказался эскадренным броненосцем «Николай I», флаг на нем держал вице-адмирал Тыртов.
Тыртову, конечно, было не до меня, как и мне не до него. Трапы броненосца осаждали паровые и гребные катера, гички и вельботы под военными флагами разных наций, с офицерами в эполетах, прибывшими в качестве представителей от своих кораблей поздравить его превосходительство с благополучным приходом. Передав адмиральскому вестовому свою визитную карточку с приписанными внизу словами: «Капитан буксирного парохода АОПИТ „Светлана“», я вернулся на свое судно.
Проезжая по рейду, я смотрел на суда нашей эскадры, и мне, торговому, а не военному моряку, невольно бросилась в глаза разношерстность ее состава. На память пришли слова поэта: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» Это была не обдуманно объединенная военная сила, а плавучее стадо. Крупные единицы этого стада были все разнотипны и разномощны. Каждая из них представляла собой известную боевую силу, но в случае эскадренного боя эти суда только мешали бы друг другу.
Через девять лет урок Цусимы наглядно показал отрицательные стороны пестрых по составу эскадр.
Но в 1895 году русская эскадра доминировала на Нагасакском рейде и пользовалась почетом.
Ночью в городе был отчаянный шум и гвалт. Пьяные голоса и песни доносились до «Светланы». Русские рестораны – притоны предприимчивых японок и несомненных шпионок Ойя-сан и Амацу-сан – сияли огнями и гремели музыкой.
Чтобы ярче обрисовать эти характерные учреждения, приведу здесь сценку, на которую я случайно нарвался. Разыскивая лейтенанта, только что прибывшего из Петербурга в Тихоокеанскую эскадру и привезшего мне письмо от матери, я узнал, что товарищи увезли его к Ойя-сан. Пришлось поехать туда. Я застал его совершенно пьяным. Он сидел в большом зале, спиной к залитому вином столу и лицом к стене, на которой в дорогой раме висел большой фотографический портрет Николая II с собственноручной надписью: «Милой Ойя-сан на добрую память. Николай». Вокруг стола сидели морские офицеры в расстегнутых кителях, с потными красными лицами и осоловелыми глазами. У некоторых на коленях были растрепанные подвыпившие японки. Стоял разноязычный галдеж и пьяный хохот. Мой лейтенант бил себя кулаком в грудь и истерически кричал:
– Где я, скажите мне, где я?.. Если я в порядочном месте, то зачем здесь пьяные японки сидят на коленях у пьяных офицеров?.. А если я в публичном доме, то почему здесь висит портрет моего государя-императора?.. Зачем?.. – И пьяные слезы катились у него по лицу.
Несколько офицеров потрезвее старались его успокоить и упрашивали выпить холодного танзана[57]57
Японская минеральная вода. – Прим. авт.
[Закрыть]. Но он отталкивал их локтями и продолжал свои пьяные выкрики.
Заговорив о нагасакских ресторанах Ойя-сан и Амацу-сан, нельзя обойти молчанием и знаменитого «черепаховых дел мастера» Езаки. Его мастерская действительно артистически выделывала из черепаховой кости самые разнообразные вещи: и модели, и силуэты кораблей, и всевозможные предметы роскоши. Модели кораблей выполнялись в точном масштабе и с изумительной тщательностью. От мастера не ускользала ни одна мелочь, даже снасти делались из тончайших черепаховых нитей. Это стоило дорого. Модели кораблей заказывались для подношений высокопоставленным лицам, и они являлись, бесспорно, музейными вещами. Но черепаховые портсигары с миниатюрными силуэтами кораблей продавались по вполне доступным ценам. Было в большой моде у моряков иметь портсигар с силуэтом своего корабля, и Езаки на них специализировался. Однако для выполнения заказанной модели или силуэта было необходимо или получить чертеж корабля, или его замерить и зарисовать различные детали. Для последней цели «подмастерья» Езаки постоянно околачивались на кораблях русской Тихоокеанской эскадры с рулетками, масштабными линеечками и рисовальными принадлежностями. Езаки почти исключительно работал на русских моряков и широко их кредитовал.
Невольно думается теперь, что Ойя, и Амацу, и Езаки немало способствовали осведомленности японцев о царском флоте.
На следующее утро ровно в девять часов, когда в Нагасаки начинается деловая жизнь, я был уже в консульстве.
– Ну, что же вы думаете делать, Дмитрий Афанасьевич? – участливо спросил меня Костылев.
– Не знаю… Ведь в Японии, я думаю, продать «Светлану» нельзя. Владивосток от покупки отказался. Остается одно: честно вернуть яхту Хюзу. Но как быть с банком, ведь две-то тысячи надо будет отдать, а Хюз их не вернет ни за что!
– Ну, с банком дело не такое страшное, впереди еще четыре месяца, я подумаю, что можно сделать в этом направлении. Полагаю, что через приамурского генерал-губернатора можно будет заставить Амурское общество уплатить эти деньги. Кроме того, надо будет действовать через моего коллегу в Кобе, он, кажется, в приятельских отношениях с Хюзом. Сегодня же я приготовлю письма в Кобе и Хабаровск, а вы отправляйтесь не теряя времени к Гинцбургу, а то теперь, с приходом эскадры, он целые дни мечется как угорелый.
Гинцбург в те времена был еще далеко не тем важным Гинцбургом, владельцем банкирского дома, крупным коммерсантом и барином, каким он сделался после озолотившей его русско-японской войны. Но главные его «качества»: нечистота на руку, пронырливость, нахальство и подхалимство перед лицами, власть предержащими, – уже распустились пышным цветом.
Гинцбург встретил меня с сияющим лицом и наглой улыбкой.
– Ну что же, ваше пароходство все-таки не смогло обойтись без Гинцбурга?
Этот спекулянт любил говорить о себе в третьем лице, даже когда разговаривал с царскими адмиралами, которых путем взяток и ссуд крепко держал в своем поросшем рыжими волосами кулаке. Векселя, которые выдавали ему флотские офицеры, всегда вовремя протестовались и хотя обычно не шли дальше портфеля Гинцбурга, но в любое время могли выбить из-под ног подписавшего их лица ступеньку служебной карьеры.
– Я охотно ссужу вас пятьюстами иен, потому что даю их не вам, а пароходству. Вам лично я не ссудил бы и пяти.
Я промолчал.
– Почему Владивостокская крепость не купила у вас «Светлану»?
– По глупости, я полагаю.
– По чьей?
– По генеральской.
– Нет, по вашей. У вас был вечером штабс-капитан с красным носом?
– Ну, был. Откуда вы это знаете?
– Я все знаю, моя обязанность знать все, что делают русские в Японии. Сколько вы ему дали?
– Ничего не дал.
– Так что же вы удивляетесь, что у вас не купили «Сатанелу»? Эх вы, коммерсант, захотели конкурировать с Гинцбургом! Уж если вас этот негодяй Мокеев послал в Японию, так первое лицо, с которым вы должны были завязать дружбу, – это Гинцбург. А вы чурались меня, как черт поповского ладана… Мокеев небось сказал вам, что Гинцбург жулик, а сам-то он кто? Вот если бы вы обратились ко мне, а не к такому наивному типу, как Стронский, то мы наверное продали бы «Сатанелу» Владивостокской крепости, и не за пятнадцать, а за тридцать тысяч, ну рублей пятьсот кинули бы штабс-капитану, а остальной барыш поделили… Идите в кассу, получите ваши деньги и подпишите доверенность на оплату мною трех тысяч иен за шлюпки и передачу их в мое распоряжение… Да, коммерсант вы никуда… Ну, извините, мне некогда, я сегодня должен завтракать у адмирала, я и так задержался… – С этими словами он схватил свой котелок, надвинул его на затылок и исчез в дверях.
Я простоял с минуту почти в столбняке. Потом прошел в кассу, получил пятьсот иен и подписал нужные документы.
Письмо Костылева к его коллеге в Кобе и доклад приамурскому генерал-губернатору Духовскому были отправлены. Хюз согласился принять обратно свою яхту, но, конечно, отказался не только вернуть задаток, но и заплатить за перемену медной обшивки. «Пусть эта обшивка послужит арендной платой за пользование яхтой», – писал он. Он выслал своего доверенного и команду для принятия от меня яхты и для обратного перевода ее в Кобе.
Накануне приезда приемщиков я переехал опять в «Бель вю» и на другое утро не поднял на «Светлане» флага. Мне было неприятно спускать русский и поднимать английский флаг.
Формальности по передаче заняли не больше часа.
Отход «Светланы» (новая надпись так и осталась у нее на корме) из Нагасаки был назначен в шесть пополудни. Мне больно было смотреть на ее отплытие… Я терял с ней что-то родное, близкое и, кроме того, терял веру в людей, с которыми мне предстояло еще не один год жить и работать.
Шестого декабря, в Николин день, когда праздновались именины царя, или, выражаясь тогдашним официальным языком, «в высокоторжественный день тезоименитства его императорского величества», на эскадре и во всей нагасакской русской колонии был большой праздник. Четыре старших капитана первого ранга были произведены в контр-адмиралы. Адмиральских флагов вместе с утренним пушечным салютом взвилось столько, что один из них развевался даже на канонерской лодке. Масса офицеров передвинулась в чинах.
После салюта и церковных молебнов на кораблях эскадра пригласила всю мужскую часть русской колонии на завтрак, а вечером и мужскую и женскую – на бал. Корабли были иллюминованы. Пускали фейерверк.
Кончилось все это тем, чем кончались всегда такие праздники в царское время: господа офицеры перепились шампанским и ликерами, а матросы, получив по две казенные чарки водки и прикупив к ним недостающее, тоже были здорово «под градусом».
На всей эскадре к полуночи оставалось не больше сотни вполне трезвых людей.
Поставщик Гинцбург хорошо поторговал в этот день…
Пароход «Стрелок» пришел в Нагасаки только в середине декабря. Он вышел из Николаевска-на-Амуре с осенним ледоходом, груженный кетой и кетовой икрой, долго выгружался во Владивостоке и из-за неисправности в котлах прошел прямо на ремонт в Нагасаки.
Бредихин привез мне письмо Мокеева. Оно было так же подло, как и его телеграмма. Верхом подлости было то, что в заключение он мне же, а не Бредихину, в распоряжение которого я должен был временно поступить, поручал заказать в Нагасаки для Общества пятьдесят конторок американского типа и столько же вертящихся, поднимающихся и опускающихся на винтах табуреток.
И «Стрелок» и Бредихин производили странное впечатление. Пароход имел необыкновенно яркую окраску: коричневый корпус с двумя полосками телесного и голубого цвета во всю длину судна, надстройки, шлюпки и мачты были странного желто-розового цвета, а труба – ярко-желтая с черным верхом.
Капитан, в противоположность бросающемуся в глаза яркой окраской пароходу, был бесцветен, безличен и безволен. Он сильно пил и, напившись, запирался у себя в каюте, так что, собственно, мы его мало и видели.
Вторую половину декабря, январь, февраль и март я прожил на «Стрелке» в Нагасаки, а в последних числах марта наш пароход, нагрузившись смешанным, так называемым генеральным, грузом, снялся во Владивосток.
В море нас встретил жестокий норд-ост. Вскоре он перешел в шторм. «Стрелок» тяжело зарывался носом в волнах и принимал на себя массу воды. Ход уменьшался с каждым часом и, когда мы подходили к острову Цусима, упал до двух узлов. Бредихин решил укрыться в одной из бухт Цусимы.
У нас не было планов отдельных бухт этого острова, имелась только общая его карта. Бухта, глубоко врезавшаяся в берег в виде буквы «Г», хорошо защищенная горами, имела одну грозную неприятность: приблизительно на середине длинной палочки буквы «Г» на карте стояли два маленьких полукрестика, обозначавшие подводные камни. Недалеко от них были нарисованы якоря со штоками, означавшие якорную стоянку для больших судов.
Рассуждать было некогда, тем более что другие бухточки, меньше размером и расположенные дальше, были годны для стоянки только малых судов.
И вот мы вошли. Убавили ход до самого малого и стали рассуждать: отдать якорь не доходя камней или пройдя их? Камни были намечены ближе к левому от нас берегу. Бредихин взял вправо. Но бухта в общем была очень невелика, и мы потеряли время на рассуждения. Не успел рулевой переложить право руля, как мы почувствовали легкий толчок в днище, и пароход стал.
– Стоп машина! Полный назад! – завопил Бредихин.
Машина послушно заработала задним ходом, но пароход не сошел с камня.
– Стоп!.. Опять полный назад. Работайте рывками! – командовал Бредихин, но пароход только дрожал и не трогался с места.
Тогда Бредихин со словами: «Пропал. Не снять нам „Стрелка“» – спустился к себе в каюту.
Вокруг судна, у носа и у кормы было от двадцати пяти до тридцати футов глубины, под серединой – шестнадцать. «Стрелок» сидел в воде около семнадцати футов кормой и около пятнадцати – носом. В трюмах воды не было. Очевидно, он влез на большой плоский камень и не продавился.








