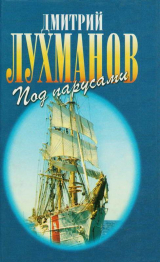
Текст книги "Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны"
Автор книги: Дмитрий Лухманов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
Некоторые из наших пассажиров и судовой врач ездили в Кэнди, столицу последних сингалезских королей, расположенную в гористой местности в семидесяти англо-милях (112 километров) от Коломбо. Они рассказывали чудеса про необыкновенно красивую дорогу и самый город, расположенный вокруг стиснутого со всех сторон горами озера, про храм Зуба Будды, про священных слонов, про ботанический сад Пирадения, полный диковинных зверей, вроде летающих лисиц или меняющих цвет ящериц, птиц с необыкновенно ярким оперением и тех громадных бабочек, которых я видел в музее…
Перед съемкой с якоря вся администрация парохода, и я в том числе, получила в память посещения Коломбо от представителей русских чайных фирм по лакированной шкатулке с цейлонским чаем высшего качества.
Теперь нам не предстояло больше остановок до самого Порт-Саида.
На тридцать четвертый день плавания мы подошли к Суэцу и, взяв лоцмана, стали медленно продвигаться по знаменитому каналу, тогда еще настолько узкому, что, для того чтобы пропустить встречный пароход, надо было швартоваться к специально устроенным в стенках канала впадинам.
Слева, вдоль канала, тянулось железнодорожное полотно, соединяющее Суэц с Порт-Саидом. Весь берег покрыт растительностью, кое-где виднелись группы финиковых пальм. За пальмами лежала желтая раскаленная пустыня, виднелись силуэты пирамид, а на горизонте – пепельно-лиловые африканские горы. Иногда проходили вдоль берега караваны верблюдов.
Правый, аравийский берег – сплошной солончак без растительности, – казалось, не имел границ и был любопытен только диковинным царством птиц, купающихся и ловящих с резким криком рыбу в прибрежных солончаковых озерах.
…Ночью пароход движется по каналу, освещая путь установленным на носу прожектором. Все тихо. Духота пустыни давит. Разметавшись на верхней палубе, спят солдаты. Иногда тишина ночи прерывается командой лоцмана или звонком машинного телеграфа. Время от времени короткий паровой гудок вызывает команду швартоваться к берегу для пропуска встречного парохода.
Восемьдесят семь морских миль, отделяющих Суэц от Порт-Саида, мы ползли почти полтора дня.
Порт-Саид вырос из маленькой арабской деревушки и состоит из ряда пересекающихся под прямыми углами узких улиц с двух-трехэтажными домами-коробками, окрашенными в грязно-серую краску. Вся жизнь – на улице, в многочисленных кафе, за столиками с прохладительными напитками. Толпа интернациональна, преобладающий говор – французский. Иногда встречаются группы бедуинов в красочных бурнусах, изредка – закутанные в черное арабские женщины с серебряными браслетами на голых ногах. Зелени не видно нигде, только островок, на котором построен дворец правления общества Суэцкого канала, единственная красивая постройка Порт-Саида, зеленеет тощими пальмами.

Магазины и магазинчики полны дешевым тропическим платьем, японскими и китайскими вещицами, страусовыми перьями, хорошим аравийским кофе и свежими финиками.
Погрузив в Порт-Саиде уголь, «Маньчжурия» снялась в Одессу.
Срок моей службы в Восточно-Азиатском обществе подходил к концу. Работа на «Маньчжурии» не была трудной (я стоял всего одну вахту в сутки), но она была очень неприятна: меня назначили ответственным лицом по всем делам и вопросам, связанным с перевозимыми нами войсками. Я сумел себя хорошо поставить среди солдат, для которых не был ни господином офицером, ни вообще каким-либо начальством; заботился о чистоте в их помещениях, о вентиляции, своевременной перемене сена в матрацах, купании, стирке белья и об их питании. Вот это последнее и было самым неприятным и трудным. Питание солдат было сдано по контракту подрядчику, некоему Кирпичникову, проходимцу и аферисту. Мне пришлось весь рейс вести с ним непримиримую войну против обвешивания и обмана солдат. Каждый день я присутствовал при развеске порций, выпечке и раздаче хлеба. На моей стороне был начальник эшелона, старый боевой подполковник, а на стороне подрядчика – фельдфебели и унтер-офицеры, получавшие лучшие куски и скрывавшие проделки подрядчика.
Теперь всему этому приходил конец. От Порт-Саида до Одессы 1150 морских миль, то есть четверо суток плавания. Через неделю я буду дома, в Петербурге, у горячо любимой матери-друга, с которой не видался почти шесть лет.
В Петербурге
Родной, привычный Петербург!
Далеко-далеко остались задернутые туманом памяти и казавшиеся теперь нереальными амурские перекаты, японские тайфуны, хабаровские морозы, томительная жара тропиков.
Однако отдыхать и бездельничать долго не приходилось, я ведь получил отпуск без содержания, сбережений у меня не было, и если я в пятнадцать лет сумел отказаться от денежной помощи из дому, то в тридцать четыре года и подавно не хотел висеть на шее у матери. К тому же я ждал со дня на день приезда из Владивостока девушки, с которой решил связать свою дальнейшую жизнь. Возвращаться назад, на Дальний Восток, я не хотел, и надо было подыскивать новую службу, а пока какой-нибудь заработок.
Я побывал в редакции журнала «Русское судоходство», куда начиная с 1887 года посылал время от времени рассказы из морской жизни и небольшие технические статьи и заметки. Со стариком редактором Михаилом Федоровичем Мецем я договорился о ряде очерков под общим заголовком «По белу свету». Затем мать, которая в это время писала свой новый роман (кажется, «Герои первой империи»), передала мне порученное ей «Петербургской газетой», издававшейся братьями Худяковыми, рецензирование премьер, еженедельно дававшихся в Михайловском театре. Это была интересная работа.
С середины января 1902 года я начал подыскивать постоянную службу.
Первым местом, куда я пошел, была контора Русского Восточно-Азиатского общества, которое должно было с весны этого года открыть пассажирско-рефрижераторную линию Петербург – Лондон.
Управляющий Бенеславский принял меня очень любезно, внимательно выслушал и, ознакомившись с аттестатами и рекомендацией капитана Праля, сказал:
– Нет, с лондонской линией этой весной ничего не выйдет, но на днях я получил письмо из Копенгагена, в котором наша дирекция пишет мне, что капитан Праль не пожелал переходить в русское подданство и просил перевода на один из наших пароходов, плавающих под датским флагом. Поэтому дирекция просит меня подыскать ему подходящего русского заместителя. Вы плавали на «Маньчжурии», ознакомились с судном, Праль вас горячо рекомендует, так вот, чего же лучше, «Маньчжурия» будет в Петербурге в конце марта, вот и принимайте ее от Праля. Я напишу о вас в Копенгаген, а Пралю будет особенно приятно сдать судно именно вам.
Предложение было более чем лестное; в тридцать четыре года не каждому удавалось сделаться капитаном прекрасного океанского грузо-пассажирского парохода. Но меня смущала продолжительность рейсов. Летние (Петербург – Владивосток – Петербург) продолжались около пяти месяцев, зимние (Одесса – Владивосток – Одесса) – около четырех с половиной месяцев. Такие плавания совершенно расстраивали все мои семейные планы. Второе препятствие было еще серьезнее. Во Владивостоке в те времена не было правительственной комиссии, в которой я мог бы сдать экзамен на капитана дальнего плавания, и я все еще плавал с дипломом штурмана дальнего плавания, а петербургская правительственная комиссия назначалась обычно в конце апреля, что в данном случае было слишком поздно и меня совершенно не устраивало.
Я все же просил Бенеславского разрешить мне подумать и дать ему ответ через три дня.
Выйдя из конторы Восточно-Азиатского общества, помещавшейся на Большой Морской, я повернул к Невскому и на углу столкнулся с товарищем по выпуску из петербургской мореходки Сашей Воронцовым.
Начались взаимные расспросы, разговоры, рассказы, воспоминания о школьных днях и товарищах, о плаваниях.
На шумливом, наполненном гуляющей толпой Невском разговаривать было неудобно. Мы зашли к Доминику[64]64
Ресторан напротив Казанского собора. – Прим. авт.
[Закрыть].
Саша служил лоцманом в Петербургском морском порту и отлично знал все пароходные конторы и все суда, посещающие порт.
– Да, – сказал он, когда выслушал мою повесть, – дело твое нелегкое. Вот разве что… Ты Брусницына знаешь?
– Не слыхал.
– И про «Астарту» ничего не слыхал?
– Не приходилось. Что «Астарта», пароход, что ли?
– Па-ро-ход… – протянул Саша. – Не пароход, а громадная паровая яхта. Старший Брусницын отбил ее у шведского наследного принца!
– Интересно.
– Еще бы не интересно! Приезжает он, понимаешь, в Стокгольм заказывать какие-то новые машины для своих фабрик, ну, с ним, конечно, там возятся, обхаживают, как бы ободрать получше. Повез его шведский заводчик свой завод осматривать, а завод и механический и судостроительный. Водили, водили его по заводу, наконец приводят на эллинги. Видит Брусницын на одном эллинге почти законченную большую, метров на шестьдесят, паровую красавицу яхту: корпус окрашен белой эмалью, подводная часть светло-зеленая, на носу золоченый голубь с тянущимися от него вдоль борта резными золочеными ветвями, рубки, мостик – лакированного красного дерева, светло-желтая приземистая труба, мачты, как стрелки, ну, словом, морскому глазу оторваться от нее невозможно.
«Для кого строится?» – спрашивает Брусницын.
«Для нашего наследного принца».
«Жаль, а то я, пожалуй, перекупил бы!»
Хозяин засмеялся:
«Не перекупите. Пожалуйте в директорский кабинет завтракать, там заодно и о делах потолкуем».
Знают иностранцы, как с русскими купцами разговаривать надо. Пошли. Завтрак, конечно, был со всякими онерами, от русской водки и паюсной икры до шампанского со свежими ананасами и старинного шведского пунша в столетних замшелых бутылках.
Надрался Брусницын, и засела у него в башке принцева яхта: ни о чем другом говорить не хочет.
«Да сколько она стоит?»
Швед мялся, мялся, наконец, чтобы отшибить у него охоту, и ляпнул:
«Восемьсот тысяч крон».
«Я двести тысяч накину».
«Да поймите, господин Брусницын, через две недели я должен ее по контракту сдать его высочеству. Послезавтра она будет спущена и сразу пойдет на пробные испытания. Как же я могу ее вам продать?!»
Но Брусницыну попала вожжа под хвост.
«Еще сто тысяч накидываю».
Швед побледнел, а Брусницын орет:
«По рукам, что ли, а то и своих заказов вам не дам, в Англию поеду».
Швед не знает, что ему делать. Вдруг его осенила счастливая мысль:
«Господин Брусницын, отложите решение этого вопроса до завтра. Завтра в это время я дам вам окончательный ответ».
Брусницын скрепя сердце согласился, а швед отправился к телефону и испросил на следующее утро аудиенцию у кронпринца.
Он рассказал высокопоставленному заказчику все как было, ярко нарисовал картину или большого заработка, или срыва многотысячного заказа и умолял его снизойти к его положению, разрешить продать яхту, обещая построить новую в шестимесячный срок и заплатить сто тысяч кронпринцу за просрочку.
Принц решил, что сто тысяч крон на земле не валяются, и милостиво разрешил продать русскому самодуру яхту, сказав, что он никогда не был врагом отечественной промышленности и всегда рад ее поддержать.
«Астарта» через месяц была в Петербурге.
– Неужели, Саша, это не анекдот?
– Какой анекдот! Мне рассказывал эту историю старший механик заводов Брусницына Сидоров. Он был с ним вместе в Стокгольме, был на знаменитом завтраке и принимал яхту от завода, а потом вместе с временным шведским капитаном привел ее в Петербург.
– Куда же Брусницын ходит на этой яхте?
– Вот в том-то и дело, что он на ней, кроме финских шхер, никуда не ходит, да и то редко; яхта больше стоит на «бочке» против Николаевского моста. Брусницын ее для форса купил. Теперь хвастается, что ни у одного великого князя такой яхты нет. Одно только ущемляет его самолюбие: как купец, хотя и в звании коммерции советника и гласного Петербургской думы, он не может ее приписать не только к Императорскому, но даже к Невскому яхт-клубу, где яхтовладельцы чуть не сплошь титулованные, и принужден довольствоваться флагом Петербургского речного яхт-клуба, что ему обидно до смерти.
– Ну хорошо, так чем же Брусницын или его «Астарта» могут помочь мне?
– А вот чем: на «Астарте» нет капитана. Условия у Брусницына такие: служба с мая по сентябрь. В мае капитан принимает яхту от завода Крейтона в Гельсингфорсе, где она зимует, и приводит в Петербург, а в первых числах сентября отводит обратно в Гельсингфорс и сдает Крейтону. Затем капитан свободен; хочет – весной нанимается опять, не хочет – как хочет. Платит Брусницын капитану за четыре – четыре с половиной месяца работы две тысячи рублей и дает полное яхт-клубское обмундирование. Попробуй поезжай к нему, может быть, он тебя и наймет. Кстати, у тебя есть какие-нибудь ордена?
– Ну, ордена у меня очень слабые: Станислав III степени[65]65
Низший орден в царской России. – Прим. авт.
[Закрыть] и медаль, да персидская звезда за перевозку персидского принца на Каспии.
– Ну так чего еще лучше! Особенно звезда, это очень внушительно. Поедешь к Брусницыну – обязательно облачись в капитанскую форму и в ордена, это ему, дураку, польстит.
Я засмеялся:
– Попробовать, что ли, чем черт не шутит! Только вот служить у такого самодура нелегко, я думаю.
– Не знаю… Говорят – ничего, попробуй.
На этом мы с Сашей расстались.
На другое утро, надев свою капитанскую тужурку с четырьмя галунами на рукавах и ордена, я поехал к Брусницыну.
Персидскую звезду, украшенную стекляшками вместо алмазов, я накануне начистил нашатырным спиртом, и она довольно эффектно блестела. Из книги «Весь Петербург» я узнал, что старшего Брусницына зовут Александр Николаевич, а младшего – Николай Николаевич.
Братья Брусницыны жили в большом каменном доме на Кожевенной линии Васильевского острова, наискосок от заводов. В этом же доме помещалась и заводская контора. В квартиру было два входа: один парадный, открывавшийся только для личных друзей, и другой – через бухгалтерию конторы, к которой примыкал огромный кабинет Александра Николаевича.
Этим входом я и направился.
Молодой малый с русыми кудрями, стриженными в скобку, в сапогах бутылками и синей поддевке тонкого сукна, пошел обо мне доложить.
За громадным письменным столом резного дуба сидел человек лет сорока пяти с седеющими волосами, стриженными бобриком, гладко выбритой бородой и подстриженными усами. Одет он был в темно-синий двубортный пиджак морского покроя, но с черными пуговицами. На шее безукоризненный крахмальный воротничок и скромный темно-синий, в цвет пиджака, галстук с белыми горошинками.
– Чем могу служить, капитан? – спросил он довольно приятным голосом.
– Я пришел предложить вам, Александр Николаевич, свои услуги по командованию «Астартой».
Брусницын пристально осмотрел меня с головы до ног.
– Вы имеете соответствующий диплом?
– Я имею диплом штурмана дальнего плавания.
– Вы уже командовали судами?
– Шесть лет.
– Где?
– На Дальнем Востоке.
– Знаете иностранные языки?
– Английский, французский, немецкий и немного итальянский.
Лицо Брусницына начало выражать нечто вроде одобрения.
– Что же, не возражаю. Пройдите на завод, разыщите там главного механика Петра Парфеновича Сидорова – он у меня ведает яхтенными делами, – скажите, что были у меня, и договоритесь с ним окончательно.
Аудиенция кончилась. Я откланялся, пожав протянутую мне руку миллионера-хозяина. Рука была белая, с короткими, словно обрубленными пальцами. На безымянном пальце сверкал огромным бриллиантом платиновый перстень.
Петр Парфенович оказался очень смышленым механиком-самоучкой из бывших слесарей. Он и главбух были теми «китами», на спинах которых покоилось все громадное миллионное дело братьев Брусницыных.
Я сразу почувствовал это, и моя фантазия ясно представила мне Петра Парфеновича в роли Подхалюзина в «Свои люди – сочтемся». Конечно, он был гораздо культурнее Подхалюзина, правильно говорил по-русски, брился и по костюму и наружному облику походил на европейца, но в нем жила такая же звериная жадность к деньгам, к «капиталу», как и в Подхалюзине.
Во время нашего разговора он все время внимательно меня осматривал, и какая-то странная улыбка блуждала на его губах. Казалось, что он хотел сказать: «Не подойдешь ты нам, парень, а впрочем, попробуй, коль охота есть…», но он не сказал этого. Напротив, он сказал, предварительно осведомившись о моем имени и отчестве:
– Так вот, отлично, Дмитрий Афанасьевич, значит, условия такие: две тысячи за навигацию и костюм. Сейчас я вам напишу записочку в бухгалтерию, получите двести рублей авансом на расходы, а на «Астарте» пока делать нечего. В середине апреля съедется в Гельсингфорс команда, я тогда дам вам знать записочкой, сговоримся и поедем вместе к Крейтону принимать яхту, а пока гуляйте себе на здоровье.
Считая дело с «Астартой» совершенно твердым, я написал Бенеславскому очень вежливое письмо с извинением за причиненное беспокойство и с отказом от командования «Маньчжурией».
Приехала из Владивостока девушка, которую я ждал, и мы поженились. Чтобы не стеснять мать, мы перебрались в меблированную комнату на Троицкой, недалеко от Пяти углов, но почти каждый вечер проводили на Мойке, у моей матери. По пятницам ездили вместе с женой на премьеры Михайловского театра и в типографию.
Мои очерки «По белу свету» продвигались успешно и давали вместе с рецензиями и случайными заметками и статьями около двухсот пятидесяти рублей в месяц. Жить можно было без нужды, а летом ожидалась поддержка в две тысячи рублей за командование «Астартой».
Я написал еще одно письмо в управление Амурского округа путей сообщения, в Благовещенск, в котором официально уведомлял, что из предоставленного мне отпуска без содержания я не вернусь, и просил больше не считать меня на старой службе.
В один из вечеров у матери я познакомился с поэтессой Щепкиной-Куперник, и мы были, по ее приглашению, на представлениях переведенных ею пьес Ростана «Принцесса Греза» и «Сирано де Бержерак». Познакомились с артисткой Горевой, у которой иногда устраивались вечеринки.
Так шли дни за днями, когда 16 апреля я получил от Сидорова записку:
«Думаю выехать в Гельсингфорс завтра поездом в 6 ч. 42 м. вечера. Если вас это не устраивает, дайте знать с мальчиком, подателем этого письма; если устраивает, то будьте к этому поезду с вещами на Финляндском вокзале.
С совершенным почтением, готовый к услугам Сидоров».
На другой день я был на вокзале. 18-го утром мы приехали в Гельсингфорс. В пути разговор вертелся большей частью вокруг технических тем общего характера, и мне очень мало удалось выпытать от Петра Парфеновича о характере братьев Брусницыных, об их отношении к служащим, о плаваниях «Астарты».
На мой прямо поставленный вопрос, не собирается ли Александр Николаевич на своей замечательной яхте сделать прогулку в Англию или в Средиземное море, Сидоров с улыбкой ответил:
– Не очень-то наш Александр Николаевич бравый моряк, укачивает его на большой волне, не думаю, чтоб его потянуло в дальнее плавание, да и дело надолго он не любит оставлять. К тому же Александр Николаевич человек компанейский, без привычной компании ему скучно, а разве наше питерское купечество утащишь за собой по морям шататься? Вот по финским шхерам побродить – это другое дело: тихо, спокойно, никакой волны нет, компанию с собой веселую можно взять… хотя, конечно, кто его знает, дело хозяйское, может, и захотят когда людей посмотреть, себя показать.
«Астарта» была вытащена на эллинг и красилась.
Я залюбовался ее удивительными обводами: это была настоящая чистокровная морская скаковая лошадь. Она должна была резать воду, как нож масло, и всплывать на волну, как утка. Отделка ее, как внутренняя, так и наружная, была поразительна. Все так называемые «дельные» вещи на палубе, обычно представляющие собой чугунные отливки и железные поковки, крашенные масляной краской и лишь иногда на дорогих и небольших судах оцинкованные, были на «Астарте» из полированной бронзы. Каюты самого яхтовладельца, его гостей, столовая, гостиная, курительная поражали солидной роскошью. Тут не было ничего «под», все натуральное: красное гондурасское дерево, сатиновое дерево, розовое, «птичий глаз», первоклассный итальянский мрамор, тисненая кордуанская кожа и мягкий русский сафьян, тяжелые ткани лионского шелка, парча, золоченная через огонь художественная бронза. Особенно меня поразила спальня владельца: она вся была выдержана в мягких розовых и палевых тонах, а плафоны потолка вызолочены.
– Теперь вы еще не можете видеть полного эффекта этого потолка, – сказал мне Петр Парфенович, – а вот когда яхта на ходу, вода рябит немножко, солнце на нее бьет, и свет, попадая в каюту через иллюминаторы, играет по золотому потолку зайчиками, так это такая картина, я вам скажу, что, пожалуй, такой еще в Магометовом раю не придумали. А кровать-то, кровать-то какая, посмотрите!
Я взглянул на кровать. Это было грандиозное сооружение цвета слоновой кости, под раздвижным балдахином из золотой парчи, затканной серебряными лилиями.
Шесть дней, с раннего утра до вечера, лазил я по всем закоулкам «Астарты» и изучил все ее системы: междудонные отсеки, вспомогательные механизмы, рулевое устройство, шлюпки, инвентарь. Оставалось изучить только морские качества «Астарты».
На седьмой день моего пребывания в Гельсингфорсе, поздно вечером, мне принесли срочную телеграмму:
«Приезжайте немедленно для срочных переговоров. Брусницын».
Первое, что я подумал, получив эту телеграмму, что Брусницын принял предложение английского королевского яхт-клуба, разосланное яхт-клубам всего мира, и решил отправиться с «Астартой» в Англию для участия в морских празднествах по случаю коронации Эдуарда VII, назначенной на 26 июня нового стиля.
Вечерний поезд я уже пропустил, пришлось ехать с утренним. Приехав в Петербург около полуночи, я взял извозчика и отправился прямо к Брусницыну. Путь от Финляндского вокзала до Кожевенной линии Васильевского острова не маленький. Извозчик был «ночной», то есть такой, у которого вместо лошади был полуживой одер, и мы ехали больше часа.
К парадному подъезду брусницынского дома я подъехал в четверть второго. Подъезд был освещен. Швейцар открыл дверь и посмотрел на меня с изумлением.
– Вам Александра Николаевича?
– Да, он вызвал меня срочной телеграммой из Гельсингфорса. Я капитан «Астарты».
– Пожалуйте в приемную. Барина покудова нет, ждем с минуты на минуту.
Я просидел в приемной до трех часов утра, когда до меня снизу из прихожей донесся шум хлопающих дверей, суетливый топот ног и матерная ругань. Через несколько минут в приемную ввалился поддерживаемый под локоть лакеем совершенно пьяный Александр Брусницын. Он оттолкнул лакея, посмотрел на меня налитыми кровью глазами и прохрипел: «Завтра!»
Лакей снова подхватил его под руку и побуксировал дальше. Внизу продолжался шум. Когда я спустился в прихожую, то увидел, как совершенно бесчувственного Николая Брусницына раздевали и отпаивали сельтерской водой.
Около четырех часов утра я был у себя дома.
На другой, или, вернее, в тот же день, часов в одиннадцать утра, я явился в бухгалтерию конторы Брусницыных и попросил кудрявого молодца доложить обо мне Александру Николаевичу.
Меня впустили тотчас же. Брусницын сидел за своим столом чистенький, выбритый, слегка пахнущий лавандой.
– Честь имею явиться, Александр Николаевич. Вы вызвали меня срочной телеграммой…
Он скользнул по мне глазами.
– Да, я вызвал вас, чтобы сказать, что вы мне больше не нужны. Вы свободны.
Я почувствовал, что меняюсь в лице, но сдержался.
– Почему же? – спросил я спокойным голосом. – Я сделал какой-нибудь непоправимый проступок, ошибку, нанес вам ущерб?
– Ничего вы не сделали, а просто вы мне не нужны. Яхта моя, и никто не может заставить меня держать капитана, который мне не подходит.
– Но почему же я не подхожу?
– Так, не подходите, да и только. Да что тут долго разговаривать, я русским языком вам сказал: вы – мне – ненужны!
Я начинал кипятиться:
– Но позвольте, Александр Николаевич, все товарищи-моряки знают, что я поступил к вам капитаном, а теперь вы меня увольняете без объяснения причин. Вы портите мою репутацию. Благоволите объяснить мотивы, по которым вы меня увольняете!
Брусницын вскочил. Глаза его начали наливаться кровью.
– Вашу репутацию? Подумаешь, какое важное кушанье! А если бы вы мою репутацию испортили, тогда что? Сказал, не надо мне вас, и убирайтесь к черту! – заорал он.
Я тоже возвысил голос:
– Нет, не уберусь! Потрудитесь дать мне объяснения и приказать бухгалтерии сделать со мной расчет и уплатить неустойку.
Коммерсант-джентльмен вышел окончательно из себя:
– Вон из моего кабинета сию минуту, а то вызову с завода полицейский наряд и в шею выгоню, да еще в кутузке у меня насидишься!
Силы были неравные, пришлось смириться. Я повернулся к выходу.
– Расчет, неустойку! – кричал он мне вдогонку. – Скажите на милость, какой контрагент у Брусницыных нашелся! А контракт у тебя есть, шаромыга? Получил двести рублей авансу и подавись ими, благодари, что отчета не спрашивают!
Я вернулся домой прямо не в себе. Я весь дрожал мелкой дрожью от оскорблений и душившей меня злобы.
Мать и жена меня всячески успокаивали.
– Попробуем еще одно средство – прессу, – сказала мать.
Она написала фельетон «Живы еще Тит Титычи», но издатель «Петербургской газеты» Сергей Николаевич Худяков прямо сказал ей:
– Не пойдет, Надежда Александровна, при всем моем уважении к вам, не пойдет. Брусницыны – мои старинные друзья…
В поисках работы
На другой или на третий день после истории с Брусницыным шел я по Невскому, этой прославленной улице самых неожиданных встреч, и встретил старшего лейтенанта с крейсера «Память Азова» Федора Федоровича Ломена, с которым познакомился в девяносто пятом году в Нагасаки.
Разговорились. Вспомнили несколько анекдотов из жизни Тихоокеанской эскадры того времени. Федор Федорович рассказал мне, что приехал в Питер ввиду назначения на один из строящихся кораблей, а я ему – что приехал в отпуск, но не хочу возвращаться на Дальний Восток и ищу места.
– А вы не знакомы с моим братом? – спросил Ломен.
– Нет, Федор Федорович, ваш брат – слишком высокая особа, я вращаюсь в более скромных кругах.
– Ну какая там он высокая особа! Был, правда, флаг-капитаном у «полковника»[66]66
Ироническая кличка Николая II, не пожелавшего снять полковничьих погон после смерти отца, так как «некому» было его производить. – Прим. авт.
[Закрыть], но попал в немилость. Его заменил пьяница высокой марки – Нилов. Так вот, у брата есть закадычный друг – Конкевич. Брат говорит, что Конкевич теперь большая шишка у Витте[67]67
Министр финансов, впоследствии премьер-министр. – Прим. авт.
[Закрыть]: заведует какими-то морскими делами в министерстве финансов. Побывайте у этого Конкевича и, если у него найдется что-либо подходящее для вас, скажите мне, позвоните только по телефону (он назвал номер), а я уж натравлю на него брата.
– Это какой Конкевич, – спросил я, – не писатель Беломор?
– Во-во, он самый.
– Я с ним встречался когда-то в редакции «Русского судоходства», а вот теперь бываю там довольно часто и ни разу не встретил.
– Ну, ему теперь не до того… Так обязательно зайдите к нему. Его «лавочка» помещается где-то на Малой Морской…
На углу Троицкой и Невского мы расстались. Я вспомнил Конкевича. Это был крупного телосложения человек с копной черных, слегка поседевших на висках волос, большим лбом, очень яркими умными глазами и странным басистым и в то же время пришептывающим голосом. Мне рассказывали его историю. Конкевич был выдающимся и храбрым флотским офицером, отличился на Дунае в русско-турецкую войну 1877–1878 годов и после Сан-Стефанского договора был оставлен в Болгарии для налаживания каких-то морских дел. Там его скоро сделали, с разрешения русского правительства, морским министром, а затем, при перемене принцем Кобургским русской ориентации на австрийскую, он вылетел оттуда вместе с другими русскими ставленниками. Вернувшись в Петербург, он переругался с управляющим морским министерством и вышел в отставку. Несколько лет командовал торговыми пароходами на Белом море (отсюда псевдоним «Беломор») и писал. Его книги «Крейсер „Русская Надежда“» и «Роковая война 18… года», направленные против Англии, в свое время имели большой успех. Так вот этот самый Конкевич был теперь какой-то большой шишкой при Витте.
На другой день я нашел его «лавочку»; она называлась «Отдел торгового мореплавания министерства финансов», но хозяина не оказалось на месте…
Я был еще три раза у Конкевича и также неудачно: один раз, по словам курьера, он был на докладе у министра, а два раза был очень занят и никого не принимал. Мне это надоело. Александр Егорович Конкевич в моих глазах был прежде всего брат писатель, а не «ваше превосходительство». И вот, когда я вновь услышал от курьера: «Заняты-с, никого не приказали принимать-с», я передал ему заранее приготовленную визитную карточку, где ниже выгравированного «Дмитрий Афанасьевич Лухманов, штурман дальнего плавания» я приписал пером: «Сотрудник журнала „Русское судоходство“. Приходит в пятый раз».
– Будьте добры, – сказал я, – передайте эту карточку Александру Егоровичу.
Курьер посмотрел на меня, потом на карточку, пожал плечами и пошел докладывать.
Он вернулся в приемную со словами:
– Просят-с.
– Что, шибко сердит? – спросил я.
– Как всегда-с.
Я отворил тяжелую дубовую дверь и вошел в громадный, отделанный дубом кабинет.
Из-за массивного письменного стола в глубине кабинета приподнялась большая медведеобразная фигура с гривой совершенно седых волос, с седой всклокоченной бородой и, опираясь на стол кулаками, прорычала:
– Ну-с, сто вам, собственно говоря, нужно?
Я был готов к такому или почти такому приему и, не задумываясь, отрапортовал:
– Я моряк торгового флота, шесть лет прокомандовал судами на Дальнем Востоке. Зашел я к вам, Александр Егорович, с просьбой: не сможете ли вы предоставить мне какую-нибудь службу по специальности?
– Да вы сто, батенька, в уме или нет? Куда вы попали? – зарычал опять Конкевич. – Сто вы думаете здесь такое, контора для найма моряков или сто?
Меня взорвало. «Ах ты, – думаю, – черт тебя подери, болгарский министр ты этакий, ну, мне, брат, с тобой не детей крестить, не напугаешь». И я спокойно и холодно отчеканил:
– Да, Александр Егорович, вы правы, я вижу теперь, что действительно ошибся… Я полагал, что отдел торгового мореплавания имеет то или другое отношение к морякам торгового флота, а теперь вижу ясно, что никакого… До свидания. – И я повернулся к нему спиной, направляясь к выходу.
– Постойте, постойте, погодите, куда вы? – раздался мне вслед голос Конкевича. – Подойдите сюда, сядьте вот в это кресло, дайте я на вас посмотрю. Ис петух какой!
Я сел.
– Какой вы горячий!
– Я всегда горячий тогда, когда дело касается торгового флота, в котором служу с пятнадцати лет.
– Вот-вот, я тозе был такой в молодости. – И Конкевич пристально посмотрел на меня. – Вот, – сказал он, подвигая мне большой лист белой «министерской» бумаги и карандаш, – написите мне для памяти: кто вы, где учились, где плавали, ну вообсе о себе, только не по форме, не по-канцелярски, а так просто.








