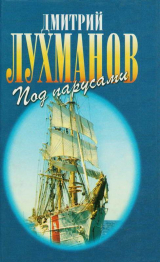
Текст книги "Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны"
Автор книги: Дмитрий Лухманов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц)
Наконец к утру я привел его в чувство. Он едва дополз до борта и начал смотреть на берег. Я сел рядом с ним и тоже не отрывал глаз от берега.
Уже светало, и скоро мы рассмотрели, что у нашей шлюпки возятся люди.
Вот они, потащили лодку к воде…
Вот спустили на воду…
Садятся в шлюпку…
Гребут…
Мы выпрямились во весь рост и стали махать руками.
Через несколько минут шлюпка с провизией подошла к борту.
Что это было!..
Первое, на что мы с «дидом» набросились, были арбузы. Не разбирая корок, в одну минуту съели два гигантских арбуза и хоть немного утолили сводившую нас с ума жажду. Затем мы съели еще по одному арбузу, на этот раз с хлебом, и завалились спать.
Проснулись мы уже далеко за полдень. После хлеба с салом выпили чаю, заваренного свежей, хорошей водой, привезенной с берега, и снова завалились спать до утра.
Проснулись вновь мы от стука молотков. Наши хлопцы, капитан и привезенный с берега плотник исправляли причиненные штормом повреждения.
Фальшборты были уже заделаны свежими досками, и остов новой кухни красовался на прежнем месте.
Дня через два-три все было готово, и мы с большой радостью отправились в путь.
Вспоминая теперь эти кошмарные дни, я невольно думаю о том, как велико было у нас с «дидом» сознание долга. Ведь ветер дул с моря на плоский отлогий берег – не проще ли было нам, чем умирать с голода, спасая старое, доживавшее, может быть, уже последний год суденышко, расклепать цепные якорные канаты и выкинуться на берег?
Мысль эта и у меня и у «дида», конечно, мелькала, но как позорная и совершенно не совместимая со званием моряка. Мы не решались даже высказать ее вслух, предпочитая ценой собственной жизни спасти доверенное нам судно…
Стихшая буря была предвестником перемены погоды. Весь сентябрь продержались штормы от юго-восточной четверти компаса.
«Св. Николай», короткий и пузатый, был плохим ходоком и плохо лавировал. Плавание было беспокойное, и хотя капитан хорошо держал паруса, все же сплошь и рядом жестокий ветер вгонял нас в рифы, а моя бабафига почти никогда не ставилась.
Весь рейс от Керчи до Ростова протянулся два с половиной месяца, и наша шхуна заработала такой мизерный фрахт, что капитану не хватило денег даже на расплату с командой.
На мою долю пришлось семь рублей с копейками…
На мели
«Св. Николай» был назначен к продаже на слом.
Начинался октябрь.
В Ростове было уже довольно холодно, особенно по ночам. Да и в классы пора было возвращаться.
Платье, какое у меня было, окончательно истрепалось за лето, а о покупке нового, тем более пальто или хотя бы верблюжьего пиджака на вате, нечего было и думать.
Вообще вид я имел жалкий.
Шляясь с утра до ночи по набережной, я посещал все пароходы.
Мне удалось наконец пристроиться «пассажиром из работы» на пароход «Императрица Мария», отходивший прямым рейсом в Керчь.
Была темная холодная осенняя ночь, когда мы снялись из Ростова и пошли вниз по Дону.
Я стоял подручным на руле.
Направо и налево мелькали красные и белые фонари фарватера. То и дело попадались рыбачьи лодки и невода. Машину приходилось ежеминутно останавливать… Капитан выходил из себя.
Вдруг невдалеке с какой-то лодки раздался голос:
– Куда вы лезете? Ведь красный-то не горит… Левей держи, левей…
– Прикажете взять? – спросил рулевой капитана.
– Не надо, – отвечал тот раздраженно. – Держи своим курсом. Знаю я их: нарочно сбивает, со зла, – я им в прошлый раз на этом месте невод порвал, проклятым…
Но не успел капитан договорить последних слов, как пароход с полного хода врезался в «россыпь» (песчаная мель).
– Полный назад! – закричал капитан, подскочив к машинному рупору.
Но было уже поздно: пароход крепко засел носом в песке, и только течение слегка заворачивало корму, прижимая его к мели всем бортом.
В это время на мостик прибежали несколько испуганных пассажиров первого класса. Некоторые были в одном белье.
– Капитан, – кричали они, – мы тонем! В каюте вода!
– Бараны! – закричал на них рассвирепевший капитан. – Куда тонем? К центру земли, что ли?.. Пароход на мели стоит, успокойтесь и идите вниз. Это пустяки, – добавил он уже более мягким голосом.
Однако выводить пароход на глубокую воду, не заделав пробоины в днище, нельзя было.
Машину остановили, и мы все под предводительством капитана спустились в первый класс.
Воды набралось в общих каютах почти по пояс. В ней плавали табуретки, перевернутый от толчка обеденный стол, пассажирские чемоданы, шляпные картонки и самые шляпы.
Пассажиры и пассажирки в самых фантастических костюмах, забравшись на диваны, с испуганными и сосредоточенными лицами «удили» свои вещи зонтиками, и палками.
Сняв разборный пол, мы принялись ощупывать пробоину в том месте, где по воде шли круги и пузыри, нащупали трещину, тянувшуюся вдоль кильсона фута на полтора. Работа закипела.
Достали войлок и, пропитав его салом, наложили на трещину, сверх войлока – несколько досок и чурбаков. Наконец прижали все это бревном, уперев другой его конец в потолок каюты и забив клиньями. Затем стали помпами и ведрами выкачивать воду.
Вся эта работа производилась по пояс в студеной воде и заняла всю ночь.
Откачав пароход, мы легко стянулись с мели завезенным якорем благодаря воде, прибывшей за ночь от задувшего с моря ветра. Часов в восемь утра мы уже продолжали свой путь по направлению к Керчи.
Событие этой ночи обошлось судну довольно легко.
Но нелегко оно обошлось мне. Надорванный непосильной работой в течение восьми месяцев, мой молодой, не окрепший как следует организм не выдержал этого последнего испытания.
Без памяти, в бреду свезли меня с парохода в керченскую больницу, где я пролежал в тифе, находясь между жизнью и смертью, почти два месяца.
Дальнее плавание
Оправившись, я стал догонять товарищей по учебе. Курс третьего и последнего класса керченской мореходки был сложнее второго, но и он не представлял для меня никаких трудностей. И то сказать: ведь Керченские мореходные классы были классами второго разряда и готовили только штурманов каботажного плавания.
Морская практика, геометрия, начала тригонометрии, знакомство с логарифмами, навигация в самом сжатом виде, элементарное знакомство с пароходной механикой и кораблестроением да начатки английского языка – вот все, что требовалось для сдачи экзамена на получение этого невысокого звания, дававшего право занять должность младшего помощника капитана. Право, но не должность.
Выбиться в помощники капитана рядовому штурману в то время было очень нелегко: судов было мало, и во всех пароходных обществах велись секретные кандидатские списки.
Попасть в такой список без родственных связей с заслуженными капитанами, без протекции, без ходатайства какого-нибудь «лица», в угождении которому было заинтересовано пароходство, было почти немыслимо. Проскакивавшие иногда «фуксом» держались в черном теле, и пределом их карьеры была должность второго помощника капитана или шкипера на буксирном пароходике.
Многие штурманы каботажного плавания, проработав несколько лет матросами и сдав правительственный экзамен на звание «штурмана дальнего и шкипера каботажного плавания», шли «капитанами от бандеры» на греческие парусники или небольшие грузовые пароходы. «Бандерой» (la bandera) на старом черноморском жаргоне назывался флаг. Капитан от бандеры являлся подставным лицом, флаг которого прикрывал фактического капитана, обычно доверенного, родственника или компаньона судохозяина, а иногда и самого судохозяина, который не мог получить диплом или по безграмотности, или потому, что был иностранным подданным.
Капитан от бандеры получал небольшое жалованье, стол, неограниченное количество чашек черного турецкого кофе и плавал на судне пассажиром. В списке же экипажа, в так называемой «судовой роли», он значился капитаном, все судовые бумаги делались на его имя. Он являлся лицом, ответственным за судно перед правительством. Обыкновенно такие капитаны скоро жирели, совершенно забывали все то, чему когда-то учились, и спивались. Тогда их карьера кончалась. Распухших и посиневших от пьянства, дрожащих, потерявших человеческий образ, их можно было всегда встретить среди босяков портовых городов черноморско-азовского побережья. Они выпрашивали у моряков деньги на выпивку, рассказывая, что и они были капитанами, но вот – превратности судьбы, потеря службы, и теперь, «понимаете сами, положение – бамбук».
Мое положение тоже было в некотором отношении «бамбук»: я окончил мореходку семнадцати лет, а закон требовал для получения диплома, хотя бы и на первое судоводительское звание, совершеннолетия, т. е., по царским законам, достижения двадцати одного года. Следовательно, мне предстояло еще минимум четыре года матросского плавания. Весь вопрос был в том, как бы использовать это плавание с наибольшей пользой для будущей карьеры судоводителя торгового флота. Я во что бы то ни стало хотел поплавать на иностранных судах, особенно парусных, повидать мир, выучиться как следует английскому языку.
Мне помог в этом деле начальник керчь-еникальских лоцманов капитан второго ранга Агишев. Он обратил на меня внимание во время своих посещений мореходки в качестве заместителя градоначальника, считавшегося ее попечителем.
Агишев хорошо знал всех азовских судохозяев, как русских, так и иностранцев.
Тогда гремела греческая хлебоэкспортная фирма Вальяно. Два брата Вальяно жили постоянно в Ростове-на-Дону и были русскими подданными; остальные братья – не помню, сколько их было, – жили в Греции. У фирмы были пароходы и под русским, и под греческим флагами. Она вывозила из России хлеб и ввозила в громадном количестве контрабанду. Вся ростовская таможня была у нее на откупе. Таможенные чиновники катались как сыр в масле. Их кутежи доходили до гомерических размеров. Все это, естественно, кончилось громадным скандалом, и многие попали в «места, не столь отдаленные», впрочем, в то время и в этих местах с деньгами можно было жить недурно.
Ростовские Вальяно успели, конечно, своевременно удрать за границу, но все это случилось уже позже. В то время, о котором я рассказываю, все было еще «благополучно», и братья Вальяно ворочали ростовской хлебной биржей по своему усмотрению; таможенные чиновники блаженствовали, а дорогое отечество снабжалось обильно и беспошлинно заграничными духами, шелком, сигарами, табаком и поддельными винами высших марок константинопольской фабрикации.
Агишев был в приятельских отношениях с богатым и важным греком Звороно, пароходчиком и агентом братьев Вальяно в Керчи[9]9
Впоследствии, после крушения фирмы Вальяно, основатель не менее знаменитой итало-русско-греческой фирмы в Мариуполе – «Звороно и де Полони». – Прим. авт.
[Закрыть]; он упросил его устроить меня учеником без содержания на одном из их пароходов.
Выпускного экзамена я не держал, так как к нему меня не допустили из-за малолетства, и в конце марта 1884 года очутился на борту только что отстроенного в Сандерленде и делавшего первый рейс греческого парохода «Николаос Вальяно». Пароход шел с грузом пшеницы с Таганрогского рейда в Германию, в Бремерхафен. Он догружался на Керченском рейде, так как осадка не позволяла ему взять полный груз на месте. «Николаос Вальяно» поднимал две тысячи тонн и по тому времени считался не маленьким пароходом.
С большими надеждами и маленьким чемоданом прибыл я на пароход.
Я отправлялся в дальнее заграничное плавание учеником без содержания. Одежда моя состояла из поношенного костюма, кепки, двух смен белья и старых ботинок. Остальное имущество, занимавшее наибольшее место и дававшее вес моему чемодану, состояло из учебников. Денег – ровно один серебряный рубль. У меня даже не было куска мыла с собой. Сколько-нибудь реальных перспектив заработать у меня тоже не было, но я был счастлив, самоуверен, весел и горд. Я думал: буду работать вместе с матросами, покажу свое рвение, и когда придем в Бремерхафен, капитан, наверно, даст мне что-нибудь за работу, а не даст – уйду с судна и поступлю матросом на заграничный парусник. Не пропаду, не умру с голоду: голова есть, руки тоже.
Капитан, принявший меня на судно по просьбе Звороно, думал, что я сын какого-нибудь богатого коммерсанта, его приятеля. Он принял меня очень любезно, поместил в отдельной каюте, предложил столоваться с комсоставом в салоне и обещал заниматься со мной навигацией и астрономией.
И вот началась игра.
На следующее утро я встал чуть свет и вышел на палубу. Мы снялись из Керчи накануне вечером и теперь были в открытом море. Был мертвый штиль, и поднявшееся над горизонтом желтое солнце медленно продиралось через легкую дымку прозрачного утреннего тумана. Все предвещало чудный, теплый день. Команда приступила к уборке судна. Я подошел к боцману, познакомился, дал ему понять при помощи знаков и смеси французских и английских слов, что хочу принять участие в работе, и попросил голик (твердую метлу из крупных прутьев без листьев).
Я был босиком и, засучив штаны и рукава рубахи, принялся усердно тереть грязную после погрузки палубу под весело бьющей из шланга струей воды.
В половине восьмого наш упитанный капитан, только что принявший теплую ванну, в шелковом пестром халате и с сигарой в зубах, появился на мостике. Он посмотрел на компас, осмотрел горизонт в услужливо поданный ему вахтенным помощником бинокль, сказал ему несколько слов по-гречески и наконец обвел взором судно.
Увидев меня босиком вместе с командой за мойкой палубы, он чуть не выронил бинокля из рук.
– Дмитрий, – закричал он мне с мостика по-французски, – кто вас послал на эту работу?
– Никто, капитан, – весело ответил я снизу. – Команды мало, уборка большая, надо помочь. Я не хочу плавать пассажиром.
– Бросьте это сейчас же, вымойтесь, причешитесь и приготовьтесь к завтраку. После завтрака я буду с вами заниматься.
– Есть, капитан!
Я беспрекословно исполнил его приказание, но в душе решил не сдаваться и, пользуясь всяким удобным моментом, принимать участие в работах команды.
После завтрака мы занимались с капитаном греческим языком и навигацией. Моим очень скромным познаниям в навигации капитан удивился и сказал, что у меня в школе, очевидно, был хороший преподаватель.
«Николаос Вальяно» быстро шел на юг. Вот и Босфор. Вскоре показались уже знакомые очертания мечетей Константинополя.
Прекрасная погода провожала нас до самого входа в Мессинский пролив.
Мы вошли в Мессинский пролив при полном штиле, но небо уже начинало хмуриться. Облака сгущались, принимали темную окраску и начинали клубиться. По временам от них отрывались клочки и быстро летели по ветру к нам. Барометр падал. Не успели мы высунуть носа из пролива, как налетел жестокий шквал от зюйд-веста и начался шторм. Волны пенились и клокотали, ветер срывал их верхушки и нес нам навстречу. Пароход дрожал под ударами ветра, и ход его уменьшался с каждой минутой.
Часа через два после выхода из пролива мы были уже в цепких объятиях жесточайшего шторма. Огромные темно-голубые волны с белыми рваными гребнями и кружевом кипящей пены неслись на пароход. Он черпал носом и бил кормой. Все пространство между баком и спардеком беспрестанно наполнялось до самых бортов вспененной водой, не успевавшей стекать в открытые полупортики и шпигаты. Ход упал до двух миль в час. Весь командный кубрик был залит водой, и людям пришлось выселиться под полуют, который служил у нас складом провизии и материалов.
Так штормовали мы шестеро суток, почти не продвигаясь вперед, а на седьмые ветер сразу упал, небо прояснилось, и море начало быстро успокаиваться.
Но шторм задержал нас непредвиденно долго. Греки – экономный народ и больших запасов на пароходах не держат. Старший механик доложил капитану, что угля до Гибралтара не хватит. Решили зайти в Картахену, но и до нее трудно было добраться.
Пошли экономическим ходом – в шесть узлов. К вечеру ветер потянул от норд-оста и позволил поставить в помощь машине паруса. В те времена все пароходы носили еще по крайней мере трисели, стаксели и прямые паруса на фок-мачте.
Таким образом доплелись мы до Картахены. Я не побывал на берегу, и теперь у меня остались в памяти только красивый вход в гавань, зеленые склоны Сиерра-Невады и огромный мол, у которого стояли, ошвартовавшись кормой, большие испанские броненосцы.
На другой день мы пришли в Гибралтар. Скала этой твердыни англичан так отвесна и высока, что кажется, будто она падает на пароход. На вершине ее маячит телеграфная станция; склон к морю испещрен амбразурами батарей. У подножия небольшой город. К северу вдали синеют горы Андалузии, а напротив, на африканском берегу, поднимается к небу второй столб Геркулеса – высокая гора Абилла[10]10
Горы Абилла и Монте-Кальпо (переименованные арабами, завоевавшими Испанию, в Джебель-Таир, в европейском произношении – Джибралтар) назывались древними греками Геркулесовыми столбами и считались концом мира. – Прим. авт.
[Закрыть].

Но что меня поразило и заинтересовало больше всего – это масса старинных кораблей на якорях, разоруженных и переделанных в плавучие угольные склады – блокшифы.
Как жаль, что я тогда еще мало знал морскую историю, а то, наверно, нашел бы между этими ветеранами исторические имена.
Блокшиф, к которому мы ошвартовались, был громадным деревянным клипером американской постройки.
Что это было? Название его было на корме, но я его не помню теперь. Может быть, это было одно из гениальных творений Дональда Маккея или Джорджа Стирса, преждевременно расшатанное и растянутое в швах лихими капитанами, выжимавшими из него в жестокие попутные штормы восемнадцать – двадцать узлов?
Взяв запас угля, мы тронулись дальше.
Погода нам благоприятствовала, но на меридиане Сан-Висенте небо снова начало хмуриться и ветер потянул от зюйд-веста. Скоро он посвежел, а к тому времени, когда мы добрались до мыса Финистерре, начался уже настоящий шторм.
Это был один из тех штормов, которыми славится Бискайский залив. Но на этот раз шторм был нам попутным, и мы, поставив фок и фор-марсель, полетели по двенадцать узлов. Волны вздымались у нас за кормой, как горы, и с диким ревом старались догнать пароход и вкатиться с кормы, но мы уходили от них. Только качка была ужасна и так порывиста, что, не вцепившись во что-либо руками, невозможно было устоять на ногах.
На пятые сутки по выходе из Гибралтара ветер начал стихать, и в Ла-Манш мы вошли при довольно тихой, но дождливой и туманной погоде.
Гибель «Цимлы»
Скоро туман сгустился до того, что с мостика силуэт человека, стоявшего на баке, едва виднелся.
Убавив ход до самого малого, стали давать гудки.
Паровые гудки, вой сирен и хриплые стоны горнов и рожков парусников непрерывно раздавались то справа, то слева, то прямо по носу.
Мы маневрировали ощупью, наугад.
Вся команда собралась наверху, никто не спал, все упорно сверлили глазами мокрую стену тумана и напряженно ловили звуки. Иногда раздавались голоса с бака: «Винты стучат близко», и в ту же минуту справа или слева от нас вырастал громадный силуэт парохода и проносился мимо.
Иногда неожиданно близко раздавался звук туманного горна, и из тумана выпячивалась на нас темно-серая стена парусов какого-нибудь корабля.
Наш пароход шарахался то вправо, то влево, пропуская встречные суда мимо себя.
Когда наступила ночь, стало еще страшнее, а неожиданно вырывавшиеся из тумана красные и зеленые бортовые огни встречных судов буквально заставляли сжиматься сердце.
В полночь при смене вахты мы вдруг услышали пушку. Это произвело такое впечатление, что матрос, бивший склянки, остановился на втором ударе. Все бросились на бак и к бортам. Через несколько минут рявкнула вторая пушка, и уже ближе.
Зазвенел телеграф в машину – это наш капитан остановил ее. Вот справа показалось, вернее, померещилось, какое-то расплывчатое белое пятно.
– Фальшфейер! – крикнул во все горло кто-то из матросов.
– Погибают, – тихо сказал капитан.
Да, где-то в нескольких десятках метров от нас погибали люди. Мы знали это, мы слышали их призыв о помощи, мы ответили им гудком и фальшфейером, но как им помочь?
Самым малым ходом, то давая машине несколько оборотов вперед, то стопоря, мы приблизились к судну, непрерывно жгущему фальшфейеры. Наконец в тумане начали вырисовываться неясные очертания громадного парусника. Это был четырехмачтовый корабль. При свете его фальшфейеров мы ясно увидели громадную пробоину, тянувшуюся от ватерлинии до самого планшира.
В ней с шумом плескалась вода. Три задние мачты надломились в разных местах выше палубы и упали за борт, окутав корабль сетью снастей и парусины; четвертая, фок-мачта, еще держалась. Изодранные, безобразные клочья парусов трепало ветром на реях.
– Как ваше имя? – закричал наш капитан в мегафон.
– «Цимла», Ливерпуль, на пути из Лондона в Австралию с генеральным грузом! – отвечали с корабля.
– Держитесь, сейчас вас снимем!
Наш старший помощник уже спускал с подветра спасательный бот с охотниками. Я, конечно, был тут же.
Через минуту мы отвалили и в два рейса перевезли с «Цимлы» двадцать четыре человека и большую черную собаку.
От спасенных мы узнали, что часа два назад они столкнулись на полном ходу с английским пароходом, врезавшимся в «Цимлу» почти под прямым углом. Несколько человек, бывших на вахте, и вахтенный помощник успели перескочить на пароход, который, отработав задним ходом и выдернув свой нос из пробоины, моментально скрылся в тумане.
«Цимла» держалась на воде потому, что удар пришелся как раз в области так называемой глубокой балластной цистерны и вода, наполнив ограниченный ею отсек, не распространилась дальше по трюму. Однако разрушения, причиненные пароходом, были настолько велики, он так глубоко врезался в парусник, что при сколько-нибудь крупной волне тяжело груженная «Цимла» неминуемо переломилась бы пополам.
Спасенный капитан стал упрашивать нашего капитана взять корабль на буксир и дотащить до входа в Портсмут или Саутгемптон, от которых мы были недалеко.
Наш капитан задумался. И судно и груз его представляли громадную ценность, и в случае их спасения на долю нашего парохода перепадала сумма тысяч в двадцать фунтов стерлингов. Было из-за чего постараться.
Капитан собрал нечто вроде судового совета, на котором было единогласно решено попробовать спасти «Цимлу».
Молодой красивый матрос Георгий Кефалонит, дальний родственник капитана, взялся за сто фунтов стоять на руле на аварийном судне.
Было уже часов десять утра, когда мы свезли с «Цимлы» все ценные вещи, имущество экипажа, судовые документы, и капитаны, договорившись об условиях, подписали контракт на спасание.
На «Цимлу» завезли и закрепили на баке толстый манильский буксир. Она была освобождена от обломков. Георгий взялся за руль, и мы тронулись в путь. На случай неожиданной гибели корабля была спущена на воду маленькая рабочая шлюпка и привязана за фалинь к корме. Рулевой мог прыгнуть в эту шлюпку в последний момент и, перерезав фалинь, спастись.
С рассветом туман сделался реже, но зюйд-вестовый ветер начал снова свежеть и развел порядочную волну. Мы теперь шли назад, возвращаясь к уже пройденному острову Уайт, и едва двигались. На корме у нас, около того места, где был закреплен буксир, неотлучно стоял вахтенный с топором, чтобы перерубить буксир в случае, если «Цимла» начнет тонуть.
При заходе солнца ветер ослаб, а туман снова сгустился.
Нам оставалось до рейда Св. Елены (у южной оконечности острова) всего около пятнадцати миль. Ход наш прибавился до пяти узлов, и часам к десяти вечера мы рассчитывали поставить «Цимлу» в безопасном месте на якорь, а самим стать рядом, чтобы переждать туман. Вдруг с кормы раздался отчаянный крик: «„Цимла“ тонет!» – и вслед за тем тяжелые удары топора обо что-то упругое и звенящее.
Наш пароход как-то сразу остановился и точно присел: тонущая «Цимла» потянула его за собой, но это продолжалось всего несколько секунд. Надрубленный буксир лопнул, корма парохода взлетела кверху, а сам он прыгнул вперед. Низко-низко над водой мелькнули зеленый и красный фонари «Цимлы», и все снова погрузилось в холодный туманный мрак.
Спасся ли Георгий на шлюпке?
Мы больше получаса маневрировали на этом месте, давали гудки, жгли фальшфейеры – никто не откликнулся. Вероятно, шлюпка Георгия перевернулась, попала в водоворот тонущего корабля, а потом ее отнесло течением.
Так и пропал наш молодой красавец без вести.
Заграница
За время перехода на «Николаосе Вальяно» я завоевал себе право работать вместе с командой, но потерял право на каюту и стол в салоне. Капитан расспросил меня о моих родителях и роде занятий отца, о его средствах, о моих отношениях к Агищеву и, получив ясные и откровенные ответы, решил, что со мной церемониться нечего. Наши занятия с ним прекратились. Меня под предлогом, что я очень грязен для салона, перевели под полуют, в общество краски, смолы, машинного масла и гниющей картошки. Столовался я в камбузе вместе с коком. Я нисколько не был на это в претензии – напротив, лишение меня привилегий капитанского ученика развязывало мне руки и приближало к команде. Весь вопрос был только в том, заплатит ли мне капитан что-нибудь за работу или нет. Он имел к этому полную возможность, так как в штате не хватало одного матроса, а теперь, после гибели Георгия, не хватало двоих, но вот будет ли у него желание это сделать?
После потери «Цимлы» мы легли на свой курс и пошли к выходу из Английского канала. К утру зюйд-вест опять засвежел, а когда, сдав в Данджнеесе спасенных людей, мы вышли из узкого канала, туман сразу рассеялся, и мы, поставив в помощь машине трисели, через два дня пришли в Бремерхафен.
Тут наш пароход выгружался целую неделю. Я работал с шести утра до восьми вечера на лебедке грот-трюма. Перерыв делали от восьми до восьми с половиной на завтрак, от двенадцати до тринадцати на обед и от шестнадцати до шестнадцати с половиной на вечерний чай. На другой или на третий день после нашего прихода капитан, проходя мимо меня, сказал:
– Дмитрий, попроси кого-нибудь тебя подсменить и приди ко мне в каюту.
«Теперь или никогда! – подумал я. – Или даст денег, или выгонит. Все равно, посмотрим, что будет».
Оказалось первое: капитан назначил мне половинное матросское жалованье – фунт и пять шиллингов в месяц (около двенадцати с половиной рублей на наши деньги) – и дал двадцать немецких марок в счет жалованья вперед.
Я был счастлив: двадцать марок были в то время для меня огромными деньгами.
В тот же вечер я купил себе темно-синий холщовый рабочий костюм за восемь марок и новые башмаки за шесть. Я был чисто и по-рабочему прилично одет, и шесть оставшихся марок звенели у меня в кармане.
Не помню теперь, на что я их истратил.
Каждый вечер после работы я бродил по улицам и набережным Бремерхафена. Улицы были малоинтересны – прямые, чистые, с домами из неоштукатуренного красного кирпича и высокими лютеранскими кирками, увенчанными шпилями и флюгерами. Недурные выставки в магазинах, масса пивных и кондитерских. По улицам разгуливали немецкие солдаты, румяные немки с корзиночками и ридикюлями в руках и провинциальные немецкие франты в высоченных крахмальных воротниках, ярких галстуках с фальшивыми бриллиантовыми булавками и с физиономиями не то вербных херувимов, не то парикмахерских кукол.
Матросов и рабочих на центральных улицах не встречалось: они проводили свободное время в пивных и низкопробных увеселительных заведениях, сконцентрированных в районе порта.
Другое дело – пристани. Они кишели прекрасными парусными кораблями всех наций, стекающимися сюда и в Гамбург со всех концов света. Каких тут только не было кораблей: большие, высокобортные, полногрудые фрегаты, предназначенные для перевозки эмигрантов в Южную Америку и Австралию; громадные железные четырехмачтовые красавцы вроде «Цимлы», привезшие австралийскую шерсть; клипера из Китая и Ост-Индии с грузами чая и пряностей; легкие барки и бриги с кофе и сахаром из Вест-Индии и Бразилии; пузатые огромные бриги, большей частью норвежские, с углем из Англии…
Я проводил все свое свободное время, шатаясь с судна на судно, говорил с матросами, слушал их необыкновенные истории и изучал особенности оснастки и проводки снастей, чтобы не ударить лицом в грязь, когда я сам буду матросом на каком-нибудь красавце с тремя дюжинами льняных крыльев и водорезом, украшенным белой с золотом статуей.
Из Бремерхафена «Вальяно» двинулся с балластом в Кардифф, где рассчитывал получить груз угля для одного из средиземноморских или черноморских портов.
Снова зловещий Английский канал, снова ночь, туман и дождь, гудки сирены, рожки и малый ход.
Я стоял на мостике у ручки машинного телеграфа и по команде капитана двигал ее то на «стоп», то на «малый вперед», то на «средний назад».
Вдруг прямо перед носом неожиданно раздался рев чужого гудка.
– Право на борт, полный назад! – закричал не своим голосом капитан.
Затарахтела машина парового штурвала, зазвенел под моей рукой телеграф, но было поздно.
Толчок, от которого все полетели с ног, крики и вопли на баке…
Все бросились на нос.
– Не отходи от телеграфа! – крикнул мне капитан на ходу. – Стоп машина, средний вперед! Не давай ему выдергивать своего носа из пробоины.
Я исполнил команду.
Столкнувшийся с нами пароход оказался быстроходным «бельгийцем» с линии Дувр – Остенде. Он был гораздо ниже нас. Мы столкнулись нос с носом, и его острый фигурный форштевень, украшенный бюстом короля Леопольда, глубоко въехал в наш пароход ниже верхней палубы.
После неистовых криков и ругани на баке и осмотра носовых водонепроницаемых переборок на обоих судах машинам был дан задний ход, «бельгиец» выдернулся, и мы разошлись. Оба парохода благодаря целости носовых водонепроницаемых переборок остались на плаву, только ушли в воду носами по самые клюзы, а кормы приподнялись.
«Бельгиец» направился в Остенде, а мы – в Дувр и через минуту потеряли друг друга в тумане.
Наш винт, и до того сильно обнаженный положением судна без груза, теперь, при увеличившемся дифференте на нос, вышел из воды до самого вала и шлепал почти бесполезно, вздымая каскады пены и брызг. Все же мы двигались вперед и на рассвете вошли в Дуврскую гавань.
В форпике мы у себя обнаружили обломок бушприта и раздробленную носовую фигуру «бельгийца», а на разорванных и завороченных внутрь листах носовой обшивки – кровь и прилипший пух от подушки.
Палуба нашего кубрика была выше бака «бельгийца», и у нас никого не убило. Только три человека, мирно спавшие в кубрике, вылетев с силой из своих коек, получили ушибы.
Дувр – маленький порт, обслуживающий главным образом почтово-пассажирское сообщение Англии с континентом через ближайшие порты – Кале и Остенде. В нем не было ни доков, ни сколько-нибудь значительных ремонтных мастерских. Гавань невелика. Когда мы ошвартовались своим разбитым носом у набережной, а корму растянули перлинями, поданными на стоящие на мертвых якорях бочки, то заняли столько места, что стеснили движение в гавани.
Все, что мы могли сделать в Дувре, – это обрубить зубилом острые рваные куски нашей исковерканной носовой обшивки, подвести под нос пластырь, откачать сколько можно воду из форпика и принять двести тонн балласта в кормовой трюм, чтобы уменьшить дифферент и загрузить винт.







