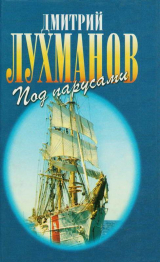
Текст книги "Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны"
Автор книги: Дмитрий Лухманов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
– Кончили, полковник.
Он бросился вниз и, выскочив через минуту снова наверх, подлетел ко мне:
– Командующий войсками приказал немедленно сниматься и идти дальше.
– Невозможно, полковник.
– То есть как это невозможно, если командующий войсками приказал?
– Пару нет, и весь пол кочегарки завален раскаленным мусором и золой. Их сейчас заливают водой, потом выбросят за борт и начнут поднимать пар. Часа через полтора смогу сняться.
Милешин полетел вниз и опять выскочил на палубу.
– Командующий войсками приказал немедленно сниматься.
– Я сделаю все возможное, полковник.
Я вызвал из машины Маслова и рассказал ему, в чем дело.
– У меня две атмосферы пару в котле, не выгребем против течения, Дмитрий Афанасьевич. Ну, мусор как-нибудь сгребем в сторону, да ведь пол железный перед топками горячий, на нем стоять нельзя.
– Ну вот что, Иван Степанович, разгребите в сторону золу. Она хорошо у вас залита водой?
– Надо думать, что хорошо, но, конечно, за отдельные угольки ручаться нельзя.
– Полейте еще. На пол перед топками положите доски и поднимайте пар до трех атмосфер. Как-нибудь дошлепаем вон до того острова, станем за ним на якорь, лишь бы от нас не было видно огней станицы, там выбросим мусор, поднимем пар и пойдем дальше.
– Есть, постараюсь, Дмитрий Афанасьевич.
Я поднялся на мостик. Минут через пять передо мной опять выросла фигура Милешина.
– Отчего вы не снимаетесь, капитан?
– Оттого что нельзя, полковник. Видите, я жду на мостике: как только из машины дадут знать, что готово, немедленно снимусь. Все меры к ускорению приняты.
– Командующий войсками гневается, – не унимался полковник.
В трубе ревела пущенная для увеличения тяги паровая форсунка.
Но вот в рупоре, соединяющем машину с мостиком, раздался пронзительный свисток. Я вынул втулку со свистком и приложил ухо к раструбу рупора.
– Готово, три атмосферы.
– Готовьте машину, снимаемся.
Через несколько минут «Атаман» медленно зашлепал колесами по воде, едва преодолевая течение. Три километра до острова шли больше часу. Наконец закрылись лесистым берегом острова от станицы и стали на якорь.
Внизу все спали. Я тоже прикорнул на диванчике в рулевой рубке.
Через час меня разбудил Маслов.
– Дмитрий Афанасьевич, горит деревянная обшивка и кошма на котле.
Я бросился вниз.
Положенная на асбестированный войлок деревянная обшивка котла, устроенная для уменьшения лучеиспускаемости, пылала в нескольких местах. Языки пламени лизали уже потолок котельного отделения.
Быстро и без шума мы ликвидировали огонь, не дав ему распространиться по пароходу. Выгорела только часть деревянной обшивки на котле, и в некоторых местах истлел войлок.
Надо полагать, что несколько угольков в приваленной к бокам котла золе разгорелись от усиленной тяги, устроенной для быстрого подъема пара, и подожгли деревянную обшивку.
Утром, докладывая об этом происшествии Гродекову, я показал ему обгоревшую обшивку котла и добавил:
– Прошу вас верить, ваше превосходительство, что я никогда не лгу. Если я просил полковника Милешина доложить вам о том, что пароход не готов к отходу, значит, он был действительно не готов.
Гродеков несколько секунд пристально смотрел на меня и наконец сказал:
– Хорошо, попробую вам верить, капитан.
Но Птица физически никогда и никому не мог верить. И в следующую навигацию Гродеков дважды чуть не угробил «Атамана» именно потому, что не мог себя заставить мне верить.
Первый случай произошел во время нашего посещения в июне 1899 года Николаевска-на-Амуре.
Гродеков вдруг пожелал пройти на «Атамане» из Николаевска в Де-Кастри, чтобы осмотреть береговые укрепления в устье Амура.
Дул довольно свежий ветер, и в море была порядочная волна.
Я попытался доказать Гродекову всю опасность такого плавания для речного парохода. Я объяснил, что дело не в том, что «Атаман» мал, а в том, что его стальная обшивка имеет всего около трех миллиметров толщины; что шпангоуты поставлены редко и ударами волн может обшивку вдавить или выбить заклепки; что у нас в корпусе деревянные иллюминаторные рамы, а наши большие иллюминаторы сделаны не из толстого литого стекла, как на морских судах, а из обыкновенного зеркального, – их может выбить, и тогда вода зальет пароход.
Гродеков внимательно меня выслушал. Потом ядовито скривил губы и, потирая руки, спросил:
– А как же речные пароходы для китайских рек пришли из Англии морем?
– Ваше превосходительство, речные пароходы для Янцзы, Жемчужной реки или Пейхо сидят в воде до семи футов, а «Атаман» – два с четвертью. Они построены гораздо тяжелее и солиднее «Атамана». Перед тем как идти в море, у них зашили толстыми досками все стенки надстроек и наглухо заколотили все палубные люки и иллюминаторы и вообще специально подготовили их к этому переходу.
– А все-таки попробуем, капитан.
– Есть, ваше превосходительство, попробуем… Но за жизнь всех людей на судне, и вашу в том числе, отвечает капитан, и поэтому в случае серьезной опасности я приму те меры, которые подскажут обстоятельства, уже не спрашивая ваше превосходительство.
Гродеков осмотрел меня с ног до головы и ничего не сказал. С ним никто так не разговаривал.
Мы еще находились далеко от взморья, когда «Атамана» так начало бить плоским днищем о воду, что на столах подпрыгивали стаканы. Скоро вышибло несколько заклепок в носовой части. Я предвидел это, полы в коридоре были заранее вскрыты, и мой помощник с четырьмя казаками, которые были наготове, забил отверстия деревянными втулками. Через несколько минут вышибло иллюминатор в нижнем салоне. Его забили досками. Еще через минуту «Атамана» почти поставило на дыбы и так хватило днищем о воду, что выскочило сразу около дюжины заклепок.
Вода начала заливать полы в носовых каютах. Идти дальше было бессмысленно, и я повернул назад, послав с мостика рассыльного казака доложить об этом Гродекову.
Когда казак вернулся, я спросил его:
– Что тебе сказал командующий войсками?
– Ничего не сказал, вашескородие.
Через пару часов мы вернулись в Николаевск и целый день потратили на то, чтобы заменить выбитые заклепки болтами на гайках и резиновых прокладках. Поправили и вышибленную иллюминаторную раму в нижнем салоне.
Мне рассказывали потом, что Птица держался храбро и все время наблюдал, как казаки забивали дыры от вышибленных заклепок. Остальные все заперлись у себя в каютах, причем из каюты Кузьки, как мы прозвали Кузьмина, ясно доносились истерические вопли.
В ту же навигацию, в августе, Гродеков задумал подняться на «Атамане» по Уссури и Сунгаче до озера Ханка.
Я доказывал, что это невозможно, так как Сунгача – глубокая, но узкая речушка и делает такие петли, где «Атаман» не сможет вывернуться. Кроме того, ее берега сплошь поросли ковылем, и достаточно искры из трубы парохода, чтобы вспыхнул такой пожар, из которого не выбраться.
Гродеков опять настоял на своем, и единственное, чего мне удалось добиться, это чтобы нас на всякий случай сопровождал катер «Дозорный».
Расстояние от озера Ханка, из которого вытекает Сунгача, до ее впадения в Уссури равняется по прямой 80 километрам, а по воде – около 190 километров. Ширина реки – не больше 17 метров. Длина «Атамана» была около 40 метров, а ширина, с колесами, около 12 метров. И вот как только мы влезли в Сунгачу, начались злоключения: упрется «Атаман» на крутом повороте носом в один берег, а кормой в другой, и ни взад, ни вперед. Хорошо, что еще берега мягкие, песчаные, нет ни одного камешка.
Что делать? Тросом бы протянуться, но закрепить не за что: только кое-где деревцо увидишь, а то, куда взгляд ни кинешь, кроме стоящего стеной высокого ковыля, ничего нет. Приходилось иногда на руках заносить по берегу якорь, закапывать его и, привязав к нему трос, протягивать пароход да еще подрывать лопатами берег. Хуже всего доставалось пароходным колесам: мы их мяли каждые полчаса и иногда так здорово, что требовалось разводить походную кузницу и выпрямлять погнутые железные тяги и ободья.
Это, с позволения сказать, плавание тянулось уже третьи сутки, когда мы наконец привели наше правое колесо в такое состояние, что его пришлось целиком разобрать. Механик потребовал двенадцать часов на ремонт. Я пошел доложить Гродекову.
– Велите «Дозорному» подойти к борту, я пересяду на него и на нем вернусь на Иман, а оттуда поеду железной дорогой во Владивосток. Вы же исправляйте ваше колесо и идите назад, в Хабаровск, там приведете все в порядок как следует, сдайте работу артиллерийским мастерским.
– Ваше превосходительство, позвольте вас спросить, считаете ли вы меня виновным в том, что я не доставил вас до места назначения?
– Я вам после скажу, капитан, идите и распорядитесь, чтобы «Дозорный» подошел к борту.
Когда весь пассажирский багаж был перенесен на «Дозорный», куда перешел и буфет с «Атамана», и свита выстроилась у сходней, на палубе появился Гродеков.
– Вот, господа, – начал он, обращаясь к свите, – прежде чем мы оставим «Атаман», мне хотелось бы при всех сказать несколько слов нашему капитану. Он спрашивал меня, считаю ли я его виновным в том, что он не довел «Атамана» до Ханки, или я убедился в том, что «Атаман» слишком велик для Сунгачи? Да, я убедился в этом. Но мне так часто докладывают, – он пристально оглядел свиту, – о невозможности выполнить то или другое поручение, желая прикрыть этим недостаток энергии или желания, что я привык никому не верить, пока сам не убедился. До свиданья, капитан, благодарю вас за ваше прекрасное управление судном, за вашу находчивость, за вашу энергию. Я вас ни в чем не виню.
С этими словами генерал пожал мне руку и перешел на «Дозорный». Свита последовала за ним. Это была первая благодарность за два года нелегкой службы с этим самодуром.
Только на пятый день дошлепали мы до Хабаровска и поставили судно на ремонт.
Кета в мешке
В ту же осень я наглядно ознакомился с тем, как легко и ловко искушенные в царской службе приамурские военачальники втирали очки никому и ничему не верившему Птице.
Выше уже говорилось о баснословном ходе кеты в низовьях Амура и Уссури. В «сезон» кета стоила гроши, и неудивительно, что она делалась в это время основой питания и населения, и войск, расположенных в крае. Поэтому, когда в сентябре 1899 года Гродеков затеял ряд инспекторских смотров войск Приамурья, он в каждой воинской кухне обязательно натыкался на рыбный суп.
Господа ротные, батальонные и полковые командиры отлично знали «туркестанские» вкусы грозного генерала. В дни его посещений в котлы валилось столько луку, лаврового листа и красного перца, что обыкновенный смертный, неосторожно хватив ложку солдатского супу, долго стоял с выпученными глазами, ловя воздух широко открытым ртом. Кроме того, в суп клалось такое количество чумизы[60]60
Китайское просо. – Прим. авт.
[Закрыть], что он скорее походил на кашицу, а у «хозяйственных» командиров деревянная ложка могла стоять в нем.
Таким образом, со стороны гродековского вкуса рыбный суп не оставлял желать ничего лучшего.
Однако этот суп доводил генерала до крайних пределов раздражения.
Однажды высокое начальство пожелало прикинуть рыбные пайки на весах, но это оказалось невозможным.
– Рыба сильно разваривается, ваше превосходительство, и разрезать ее на пайки никак невозможно.
– Но для чего же ее разваривать до такой степени, ведь подают же в ресторанах рыбу порциями?
– Так точно, подают, ваше превосходительство, но не в ухе, а сваренную на пару, и опять же не кету. Кета уж такая рыба, ваше превосходительство, что или будет сыровата, или развалится, особенно если ее варить в большом котле и с крупой. Как начнет кашевар мешать крупу в котле веселком, так рыба и разваливается, а если не мешать, то крупа обязательно пригорит ко дну котла, ваше превосходительство.
– Однако должен же солдатик знать, сколько он чего получает. Как же он может это проконтролировать, не получая определенного пайка?
– Кета, осмелюсь доложить, ваше превосходительство, дешева, и мы имеем возможность покупать ее из расчета значительно большего, чем фунт на человека. Люди это знают и не обижаются, ваше превосходительство, претензий ни у кого и ни разу не было…
– А все-таки это не резон. Солдат должен получать определенный паек, вес которого он может проверить.
Генерал приходил в дурное расположение духа, и это отражалось на всем и на всех. Он не был удовлетворен чистотой казарм и дворов, обращал внимание командиров на потертые канты на погонах и воротниках солдатских мундиров, лез в дуло каждой винтовки, тер по штыкам рукой в белой замшевой перчатке…
Попадало и военачальникам, и свите, и мне, одним словом, от кеты шли «все качества».
Весть о грозном настроении начальства летела далеко вперед, и местные воеводы встречали Гродекова с видом провинившейся собаки.
Это еще больше злило Птицу.
В одном месте некий быстрый умом командир отдельной роты угостил нас первоклассными мясными щами из свежей капусты и пухлой, рассыпчатой гречневой кашей, обильно политой прекрасным топленым маслом. Но генерал раскусил его хитрость.
– Отчего у вас не рыбный суп во время сезона?
– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, люди предпочитают мясо…
– Мало ли что они пред-по-чи-тают, – раздраженно ответил генерал, блестя очками. – Мясо стоит в четыре раза дороже кеты, нельзя же так швырять деньгами, да еще в отдельно стоящей роте с малым хозяйством, где каждая копейка должна быть на счету. На какую же вы можете рассчитывать экономию, капитан? Нет, вы плохой хозяин!
Номер не прошел.
Так шло до Имана. На Имане стоял железнодорожный батальон под командой инженер-полковника Свентицкого.
Дородный, румяный, бритый до блеска, с выхоленными рыжими усами, в шикарно сшитой походной форме, Свентицкий встретил «Атамана» у пристани. Он первым взошел на борт по сходням, быстрой, молодцеватой походкой подошел к грозному Птице и лихо отрапортовал, играя веселыми выпуклыми карими глазами.
Это произвело хорошее впечатление.
Проследовали в казармы.
Нашим взорам представилась умилительная картина: большой, на диво чистый казарменный двор был посыпан ярко-желтым песком, утрамбован, укатан и весь кругом обсажен веселыми зелеными елочками.
Я видел этот двор десяток дней назад; он был гол, как голова нашего высокого начальника. Не веря своим глазам, я незаметно попробовал пошатать одну елочку, она подалась без особого затруднения – корней не было. Деревцо было просто затесано и вбито в землю, но вокруг каждой елочки ясно виднелся круг мокрой земли – след заботливой поливки якобы недавно пересаженных деревьев.
Пол в казарме был натерт воском, как паркет в бальном зале, стены и потолок заново выбелены, железные койки выкрашены свежей ярко-зеленой масляной краской (экономия от окраски вагонов 3-го класса). В головах каждой койки висело чистое полотенце с набивными красными петухами, бабами с коромыслами и прочими «народными» сюжетами. Но присмотревшись к ним поближе, можно было заметить, что они еще ни разу не были ни в употреблении, ни в стирке. На многих полотенцах еще висели магазинные ярлыки, и невольно думалось: а не взяты ли они напрокат в ближайшей китайской лавке? Но начальство, ослепленное внешней чистотой и блеском, ничего этого не замечало… оно было умилено.
Добрались и до кухни. Нас встретили кашевары в таких безукоризненно белых костюмах и колпаках, которым позавидовали бы повара московского «Эрмитажа». Гродеков поздоровался.
Ему отвечали браво и весело.
– Ну что варите на обед сегодня? – спросил генерал и сразу насторожился.
– Да что ж можно варить, ваше превосходительство, в это время года! Разумеется, кету, – весело ответил Свентицкий, разводя руками.
Генеральское лицо помрачнело:
– Ну и что же, она у вас тоже разваривается, что вес пайков невозможно проверить?
– Разваривается-то она разваривается, ваше превосходительство, но вес пайков всегда можно проверить, я принял для этого очень простую меру, ваше превосходительство.
– Это интересно, это в высшей степени интересно! – оживился генерал. – Что же вы предприняли?
– Андрейчук! Открой крышку, покажи его превосходительству суп! – скомандовал Свентицкий старшему кашевару. Кашевар снял деревянную крышку с одного из вмазанных в печку больших котлов.
В кипящей и булькающей массе копошились в разваренной чумизе какие-то короткие и толстенькие совершенно белые колбаски.
– Извольте посмотреть, ваше превосходительство, – пригласил полковник.
Гродеков долго рассматривал диковинное варево, поворачивал голову совершенно по-птичьи то на одну, то на другую сторону. Очки его запотели. Он снял их и сощурил глаза.
– Не понимаю! – наконец сказал он.
– А очень просто, ваше превосходительство: рыба режется на пайки в сыром виде, и каждый паек тщательно взвешивается; затем он зашнуровывается в специальный полотняный мешочек и в таком виде опускается в котел. Как бы ни развалилась рыба, ее будет в мешочке ровно столько, сколько в него было положено. Число мешочков, конечно, должно соответствовать числу людей.
Полковник сиял.
Гродеков протер очки, надел их снова и крепко пожал ему руку.
– Это гениально! – воскликнул он. – И как просто! Надо будет ввести этот способ во всех частях. Полковник Самойлов, – обратился он к начальнику походного штаба, – заготовьте соответствующий приказ по округу.
– И не стыдно? – спросил я Свентицкого, встретив его вечером на вокзале.
– Инженерное дело и служба с корнем вырывают из души человека это беспокойное и в практической жизни ненужное чувство, – ответил он, улыбаясь во всю физиономию.
Из Владивостока в Одессу
В 1901 году я перешел на службу в водный округ путей сообщения командиром парохода «Амур». Навигацию проплавал в нормальной обстановке: отдохнул от мишурной помпы, от самодуров, коверкавших край и людей по своей прихоти и произволу.
В начале октября я взял отпуск без содержания и решил съездить в Петербург повидаться с матерью, которую не видел уже много лет.
У меня не было достаточно свободных денег, чтобы оплатить дорого стоящий проезд на родину. Во Владивостоке я решил попытаться устроиться временным помощником капитана на какой-нибудь пароход, отходящий в Черное море. Тогда, в связи с постройкой КВЖД, между Одессой и Владивостоком ходило много пароходов, и наших и иностранных. Создались новые пароходные общества: Восточно-Азиатское, Северное и КВЖД.
Громадный океанский грузо-пассажирский пароход Русского Восточно-Азиатского общества «Маньчжурия» отходил с грузом бобовых жмыхов и полутора тысячами окончивших службу солдат владивостокского гарнизона.
Капитан парохода датчанин Праль, ни слова не говоривший по-русски, так же как и его помощники, нуждался в моряке, знающем русский язык, чтобы иметь возможность объясняться с перевозимыми «Маньчжурией» отпускниками.
Читающим, вероятно, покажется странным, что на русском пароходе капитан и помощники не знали русского языка!
Но в старой, царской России случались и не такие чудеса.
Восточно-Азиатское общество было датским коммерческим предприятием с правлением в Копенгагене, но главным акционером этого общества была вдовствующая российская императрица Мария Федоровна. Плавание между русскими портами, лежащими на разных морях, считалось большим каботажем и являлось привилегией русского флага.
Когда работа между русскими черноморскими портами и Владивостоком сделалась выгодной и разрослась так, что один Добровольный флот не мог с ней справиться, акционерка-императрица посоветовала правлению выделить несколько пароходов в Русское Восточно-Азиатское общество. Ее сын, недоброй памяти Николай II, разрешил этому обществу иметь датскую администрацию на судах и на берегу с условием, чтобы через три года все ответственные руководители и командный состав судов приняли русское подданство.
Итак, датский капитан русского парохода «Маньчжурия» принял меня на должность дублера старшего помощника капитана. Мне отвели прекрасную пассажирскую каюту первого класса, дали стол и полтораста рублей жалованья.
В конце ноября мы вышли в океан.
И вот я стою опять на высоком мостике океанского судна. В руках у меня секстан. Я собираюсь брать полуденную высоту солнца. Морской соленый ветер обдувает мне лицо…
Март и ноябрь – смена муссонов, самое тихое время года в Индийском океане и прилегающих к нему морях: Красном на западе, Китайском и Японском на востоке.
«Маньчжурия» шла штилями. Лазурный океан и лазурное небо состязались друг с другом в красоте. К великому счастью каютных пассажиров и набитых в твиндеки солдат, на качку не было даже намека, и наша «Маньчжурия» шла по океану, как по спокойному беспредельному пруду.
Первым портом на пути нашего следования был корейский порт, или, вернее, рейд порта Пусан, где мы погрузили на палубу тридцать небольших местной породы быков – живую провизию.

Следующим портом был Модзи, в котором «Маньчжурия» бункеровалась[61]61
Бункероваться – запасаться топливом; бункер – угольная яма. – Прим. авт.
[Закрыть].
В Модзи я был на берегу, ходил по базару и по японским лавкам, невольно вспоминая свою жизнь и приключения пять лет назад в Нагасаки. Купил несколько японских фарфоровых чашек в подарок матери и себе дорогую палку черного дерева с ручкой резной слоновой кости. Впоследствии, когда я хорошенько разглядел эту палку на палубе судна при ярком свете, она оказалась крашенной черным лаком, а ручка – германской подделкой из целлулоида. Вероятно, и вся палка была «made in Germany»[62]62
«Сделано в Германии» (англ.). – Прим. авт.
[Закрыть]. Когда я показал эту палку одному из наших пассажиров, долго жившему в Японии, он со смехом сказал мне:
– Что – палка! Вы знаете, есть тончайший, как яичная скорлупа, японский фарфор. Надо быть большим знатоком, чтобы быть уверенным, что вы покупаете настоящий фарфор. Несколько лет назад в Германии изобрели какой-то специальный сплав из стекла, до полного обмана имитирующий этот фарфор. Фирма, обладательница секрета сплава, выписала из Японии специальных художников для разрисовки посуды из нового «фарфора» и теперь наводняет им японские рынки. Единственный способ отличить подделку от подлинной вещи – это внимательно осмотреть и сравнить ободки нескольких чашек или тарелок. Японская посуда до сих пор изготовляется почти целиком кустарным способом и никогда не бывает так геометрически правильна, как изготовляемая в Германии на фабрике.
Я показал ему мои чашки.
– Нет, это настоящие, – сказал он. – Это простой дешевый фарфор местного производства. Сколько вы за них заплатили?
– По полторы иены за штуку.
– Японец заплатил бы за них гораздо дешевле, но они все-таки неплохие и уж во всяком случае настоящие японские.
Взятого в Модзи угля должно было хватить нам до Коломбо, и на Сингапурском рейде мы останавливались только затем, чтобы взять лоцмана, который провел бы нас через пролив.
Идут дни за днями. Вахты сменяются вахтами. «Маньчжурия» систематически печатает сорок восемь миль за вахту, ни на четверть мили больше или меньше. По вечерам, залитая фантастически яркими красками тропических закатов, она сверкает, как гигантский алмаз. В светлые от обилия крупных звезд ночи озаряемая снизу всплесками разрезаемой ею воды «Маньчжурия» кажется изумрудно-зеленой. Мы идем на запад приблизительно по шестой параллели северной широты, и, по красочному выражению автора «Фрегата „Паллада“», «небесные аристократы обоих полушарий освещают наш путь». Слева, на юге, над самым горизонтом приветливо светятся четыре звезды Южного Креста, выше переливается то золотом, то рубином, то изумрудом громадный Конопус, справа, на севере, встала на дыбы наша родная Большая Медведица, позади, на востоке, пылает Орион, сверкает огромным синеватым бриллиантом Сириус…
Перед рассветом на девятнадцатый день плавания с запада потянул легкий ветерок – бриз с невидимого еще берега Цейлона. С восходом солнца в легкой нежно-розовой дымке начали вырисовываться смутные контуры Адамова пика – высшей точки гористого Цейлона, поднимающейся на 2240 метров над уровнем океана.

Начали попадаться индийские «прао», или катамараны, – первобытные суда из выдолбленного ствола большого дерева с надставленными дощатыми бортами. С левого борта судна подвешено на толстых, но гибких бамбучинах в трех метрах от корпуса заостренное с обоих концов бревно, не позволяющее суденышку перевернуться. При крене влево катамаран не может утопить бревно, а при крене вправо – поднять его из воды. Катамараны носят высокую мачту и громадный парус, напоминающий по форме латинский. Лавировать они не могут и при встречных ветрах пользуются лопатообразными гребками. Зато при хорошем попутняке летят под парусом со скоростью четырнадцать – пятнадцать миль в час и легко обгоняют пароходы. Совершенно дикий вид имеет катамаран при свежих боковых ветрах: если ветер дует слева и бревно начинает подниматься из воды, голый экипаж, иногда до десятка человек, вылезает на бревно и, вцепившись руками в бамбуковые поперечины, усаживается на нем на корточки; если ветер дует справа и бревно сильно зарывается в воде, то в противовес с правого борта выдвигаются наружу длинные узкие доски и экипаж рассаживается на их концах. Волны хлещут через людей, но им это нипочем – вода теплая, а они цепки, как обезьяны. Я никогда не слыхал, чтобы сингалезца смыло с катамарана.

Порт Коломбо состоит из двух больших бассейнов, огражденных массивными высокими молами, в которые, за исключением абсолютно штилевых дней, бьет океанский прибой.
При зимних норд-остовых муссонах, дующих от материка, прибой шумлив, но не страшен; при летних зюйд-вестовых муссонах, когда могучие волны Индийского океана бьют в молы, прибой ужасен. Он оглушает, ошеломляет, и взметаемые им брызги летят вверх на десятки метров.
В Коломбо нам надо было не только пополнить запасы угля, но и погрузить несколько сот тонн копры и чая. Работы дня на два, и можно было побывать на берегу и объездить окрестности.
Первый раз по выходе из Владивостока мы почувствовали в Коломбо настоящую тропическую жару. Термометр показывал плюс 38° в тени, тогда как в море на ходу судна даже под самым экватором он не поднимался выше 30°.
Невыносимая жара еще больше ощущается при сходе на берег; в Коломбо почему-то все здания выкрашены в оранжевый, почти красный цвет и такого же цвета песком шоссированы или бетонированы улицы. Попавшему впервые в Коломбо кажется, что он находится в громадной, жарко натопленной печи.
Я сошел на берег вместе с капитаном Пралем. Он направился по делам, а я – в знаменитый местный музей. Позднее мы должны были сойтись и завтракать вместе на веранде отеля.
Коломбский музей очень интересен. Помню, меня поразила богатая коллекция чучел акул, из которых особенно сильное впечатление оставила рыба-молот. Это одна из самых больших, прожорливых и страшных акул с головой в виде молота. Злые глаза ее выглядели совершенно живыми; казалось, что они следят за тобой, и от них делалось жутко. Потом помню целый зал с бабочками. Их раскраска была поразительна, а величина некоторых доходила до развернутого листа писчей бумаги. Помню еще образцы мимикрии: больших насекомых, которых, разглядывая даже в упор, можно принять за сучковатую веточку; зеленых и коричневых бабочек, которых нельзя отличить от древесного листа; жуков, совершенно сливающихся цветом с корой дерева, которое они точат, и так далее. Затем зал со змеями. Трудно поверить, какое количество самых разнообразных змей живет на Цейлоне, начиная от колоссальных удавов, семь-восемь метров длиной и сантиметров двадцать в поперечнике, до самых маленьких, но очень ядовитых ярко-зеленых бамбуковых змей, величиной с большой канцелярский цветной карандаш.

Сидеть на веранде отеля было очень приятно. «Галле фейс» помешается на самом берегу, и его широкие веранды, идущие вокруг всего здания, ласково обдуваются морским бризом и медленно качающимися под потолком пунками[63]63
Пунка – громадное опахало из парусины, натянутой на легкую раму. – Прим. авт.
[Закрыть]. Завтрак был тоже неплохой. Особенно хорош был индийский плов, состоящий из отлично сваренного первосортного риса с приправой из так называемого кэри (род индийской горчицы, из которой варят жгучий и остро пахнущий соус). К этому подают нечто вроде фарфорового колеса с шестнадцатью спицами. В середине колеса, там, где втулка, помещается цилиндрическая чашка с имбирным вареньем, сладким и таким же жгучим, как кэри, а между спицами, в блюдах-коробочках секторальной формы, различные приправы: кусочки крабов, вяленые рыбки, сардины, анчоусы, кусочки жареной баранины, курицы, дичи, жаренные в соли китайские земляные орешки, изюм, пикули и так далее. Каждый накладывает в свой плов то, что ему нравится.
Во время завтрака на веранде появился седой полуголый фокусник, или, как их принято называть, факир, с неизбежной круглой корзиной, в которой находилась кобра, и шкатулкой с «волшебными» атрибутами. Усевшись на корточки около балюстрады, он расстегнул ремешки на круглой корзине, достал из-за пояса дудочку и заиграл какую-то грустную и протяжную мелодию. Вдруг крышка на корзине зашевелилась, откинулась, и из корзины поднялась на хвосте большая темная очковая змея. Она раздула свой капюшон с белым рисунком, напоминающим пенсне, и начала покачиваться в такт музыке, устремив свой взгляд в глаза дрессировщика. Факир то ускорял, то замедлял темп, покачивался сам, и страшная змея вторила его движениям, строго следуя такту мелодии.
Сидевшая за ближайшими к факиру столиками публика как-то невольно съежилась, разговоры смолкли. Кобра широко раскрывала пасть, шевелила своим узким раздвоенным языком, и ее страшные, смертельно ядовитые клыки поблескивали на солнце.
Это продолжалось минуты три, потом звуки дудочки стали замирать, и кобра начала опускаться. Факир вдруг отбросил дудочку в сторону, быстро шлепнул кобру по голове ладонью и, накинув на корзину крышку, застегнул ее ремешками.
Публика облегченно вздохнула.

После опыта с коброй факир вынул из шкатулки несколько довольно грязных шерстяных шариков и две обыкновенные чайные чашки. Разделив шарики на две неравные кучки, он накрыл каждую чайной чашкой и, бормоча что-то себе под нос, начал методически то поднимать, то опускать чашки. Всякий раз число шариков под каждой чашкой менялось, но общее количество оставалось тем же. Расстояние между чашками было не меньше полуметра. Показав еще несколько очень чисто сделанных фокусов в этом же роде, факир приступил к «гвоздю» представления. Вынув из шкатулки небольшое количество черной земли, он уложил ее на полу конусообразной кучкой, достал какое-то зерно вроде боба, показал его публике и закопал в землю. Потом достал из той же шкатулки бутылочку с водой, полил землю и накрыл ее большим красным платком. Бормоча себе что-то под нос, он начал медленно приподнимать платок за середину и, подняв его приблизительно на высоту стола, то есть сантиметров на восемьдесят, быстро сдернул. Из земли поднималось тоненькое растение с нежными бледно-зелеными ланцетовидными листьями. Факир тут же стал обрывать их и раздавать публике. В его глиняную тарелочку посыпались серебряные монеты. Мне тоже достался один листок. Он был совершенно свеж и чрезвычайно нежен; не было никакого сомнения, что он действительно распустился всего несколько минут назад.








