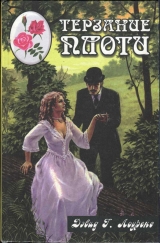
Текст книги "Белый павлин. Терзание плоти"
Автор книги: Дэвид Лоуренс
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– Ты по-прежнему восхищаешься моей силой? – невинно поинтересовалась она.
Она была великолепна. Голова откинута назад. Красивая шея выгнута. Грудь вздымалась над стопкой книг, которые она держала на вытянутых руках. Он неотрывно смотрел на нее. Их губы улыбались. Она сделала горлом глотательное движение, и оба сразу почувствовали, как кровь по-сумасшедшему пульсирует в их жилах. Слегка задрожав, она вдруг повернулась и стремглав выбежала из комнаты.
Пока ее не было, он сидел и, как всегда, крутил усы. Она возвратилась в холл, что-то сумбурно бормоча себе под нос по-французски. Будучи под впечатлением игры Сары Бернар в «Даме с камелиями» и в «Адриенне Лекуврер», Летти зачастую подражала великой актрисе. Насмешливость также накатывала на нее волнами. Она смеялась над всеми, над собой, над мужчинами вообще и над любовью в частности. Что бы Джордж ни говорил ей, она отвечала ему той же сумасшедшей скороговоркой по-французски. Это выглядело странно, даже вызывающе. Он недоуменно поднял бровь, как поступал всегда, когда что-то причиняло ему боль, поморщился, он ничего не понимал.
– Ну, ну, ну, ну! – воскликнула она наконец. – Можно же нам побыть иногда буйными сумасшедшими или обязательно надо казаться умудренными жизнью?
– Я хотел бы тебя понимать, – сказал он.
– О, бедняжка, – засмеялась она. – Как он нынче трезв и серьезен! И с таким лицом ты пойдешь домой? Они подумают, что мы тебя не накормили ужином, раз ты такой грустный.
– Я ужинал… и хорошо поужинал… – начал он, его глаза улыбались. Он был очень возбужден.
– О ужас! – воскликнула она в ответ на это. – Но это же такая малость по сравнению с тем, что я способна дать?
– Разве? – откликнулся он, и они улыбнулись друг другу.
– И притом самое худшее, – ответила она. Они постояли немного. Он смотрел на нее не отрываясь.
– До свиданья, – сказала она, протягивая руку. В ее голосе звучали теплота и симпатия. Он смотрел на нее, и его глаза блестели. Потом он взял ее руку в свою. Она сжала его пальцы, задержав его руку в своей. Потом застеснялась собственных чувств и опустила глаза. На его большом пальце был глубокий порез.
– Тебе больно? – очень нежно спросила она.
Он засмеялся снова.
– Нет, – сказал он мягко, словно его большой палец не стоил того, чтобы о нем говорить. Они снова засмеялись друг другу, и он, осторожно высвободив свою руку, ушел.
Глава IV
ОТЕЦ
Наступила осень, и красные георгины, которые так долго сохраняют свет и тепло в своих душах по вечерам, умерли в ночи, утром им было нечего показать людям, кроме коричневых увядших шаров.
Когда в один из вечеров я проходил мимо дверей почты в Эбервиче, меня окликнули и сунули мне письмо для мамы. Неровный почерк на конверте вселял в меня смутное беспокойство. Я отложил письмо, забыв о нем, и вспомнил лишь поздним вечером, когда хотел чем-то заинтересовать, развлечь маму. Она взглянула на почерк и стала нервно надрывать конверт. Письмо она отстранила от себя, поднеся лист бумаги поближе к лампе и прищурив глаза, попыталась прочитать его. Я нашел ее очки, но она даже не сказала «спасибо», руки у нее дрожали. Она быстро пробежала глазами коротенькое послание, потом перечитала его снова и продолжала неотрывно смотреть на чернильные каракули.
– Что там, мама? – спросил я.
Она ничего не ответила, по-прежнему уставясь в письмо. Я подошел к ней, положил руку на плечо, чувствуя себя очень неловко. Она не обратила на меня внимания и тихо пробормотала:
– Бедный Френк… бедный Френк.
Френком звали моего отца.
– Ну, что там, мама?.. Скажи, в чем дело, что случилось?
Она повернулась и посмотрела на меня, как будто видела впервые в жизни, затем встала и принялась ходить по комнате. Потом она вышла из комнаты, и я слышал, как она покинула дом.
Письмо упало на пол. Я поднял его. Почерк был очень неровный, прерывистый. На конверте была указана деревня, находившаяся в нескольких милях отсюда. Письмо было отправлено три дня назад.
«Моя дорогая Леттис! Тебе захочется узнать, отчего я ушел. Я вряд ли проживу еще день-два – с почками совсем плохо, моим мучениям вот-вот придет конец. Однажды я уже приходил. Я не видел тебя, но я видел девушку в окне и перекинулся несколькими словами с парнем. Он ничего не знал и ничего не чувствовал. Думаю, девушка повела бы себя иначе. Если бы ты знала, как я одинок, Леттис, как я всю жизнь был ужасно одинок, ты бы, наверное, пожалела меня.
Я сохранил, что мог, чтобы заплатить тебе. Я получил все сполна, Леттис, и рад, что настает конец и что самое худшее теперь позади.
Прощай. Навсегда. Твой муж Фрэнк Бердсолл».
Я был потрясен этим письмом от моего отца и судорожно пытался вспомнить его, но я знал, что воображаемый мною образ высокого, красивого, темноволосого мужчины со светло-голубыми глазами был во многом создан со слов матери, его портрет я видел лишь однажды.
Их брак был несчастливым. Мой отец, который вел себя фривольно, даже вульгарно, обладал немалым обаянием. Он был прирожденным лжецом, напрочь лишенным порядочности, и постоянно обманывал маму. Постепенно ей открылись его лживость и двуличие; ее дух восстал против такого положения вещей, поскольку к тому времени все надежды и иллюзии разлетелись вдребезги на мелкие осколки. Прежде всего она отвратилась от него как женщина, убедившись в том, что ее любовь и романтические мечты – не более чем грезы. А когда он покинул ее ради других удовольствий – Летти тогда было три годика, а мне пять лет, – ей пришлось особенно трудно. До нее доходили разные слухи. И никогда ничего хорошего. Известно было только, что он процветал. Он никогда не приходил повидаться с ней, не писал ей все эти восемнадцать лет.
Моя мама неожиданно вошла в комнату. Села. Она надела свой черный передник, потом тут же сняла.
– Знаешь, – сказала она, – он прав в том, что касается детей, именно вас я оберегала все это время.
– Он мог бы и прийти, – настаивал я.
– Я настраивала вас против него. Я берегла вас от него, а он хотел вас видеть. Теперь я должна быть рядом с ним… мне давно следовало отвести тебя к нему.
– Но как же ты могла, если не знала ничего о нем?
– Он мог прийти… он хотел прийти… многие годы я чувствовала это. Но сторонилась его. Я знаю, это моя вина. Я чувствовала это, и он чувствовал. Бедный Фрэнк… он понял сейчас, как ошибался. Он не мог быть таким жестоким, как я…
– Нет, мама. Ты потрясена новостью и поэтому говоришь так.
– Просто это сообщение заставило меня правильно понять все. Я давно чувствовала душой, как он страдает. Это чувство жило во мне постоянно. Я знала, да, я точно знала, что нужна ему, как и вы, я чувствовала это. Особенно явственно ощущала это последние три месяца… я была так жестока с ним.
– Ну, что ж… Мы пойдем к нему, пойдем? – спросил я.
– Завтра… завтра, – ответила она, наконец обратив на меня внимание. – Я поеду утром.
– И я с тобой.
– Да… утром. Летти будет на гулянье в Чатсворте… не рассказывай ей ничего… Мы ничего ей не скажем.
– Ладно, – сказал я.
Вскоре мама поднялась наверх. Летти вернулась довольно поздно из Хайклоуза. Лесли в дом не заходил. Утром они на машинах отправлялись на гулянье в Мэтлок и Чатсворт. И она была так возбуждена, что ничего вокруг не замечала.
Как бы там ни было, мы с мамой не смогли уехать до полудня. Было тепло. Воздух отливал мягкой желтизной, когда мы сошли с поезда в Коссете. Мама настаивала на том, чтобы пройти пешком две мили до деревни. Мы медленно шли по дороге мимо пестрых с преобладанием красного цвета холмов. Как бы нехотя, с трудом мы добрались до места. Едва завидев маленькую серую башенку церкви, мы услышали довольно громкие медные звуки музыки. В маленьком поселке в самом разгаре был праздник Уейкс.
Несколько деревянных лошадок весело крутились на карусели, а лодки-качели взмывали в голубое небо. Мы с мамой присели на скамейку и посмотрели на гулянье. Тут продавали кокосовые сладости. По всему полю были разбросаны балаганы. Стайки ребят тихо передвигались от аттракциона к аттракциону. Загорелый мужчина шел через поле, неся в руках два ведра с водой. Из ярких, раскрашенных дверей фургончиков выглядывали женщины, а под ступенями лежали ленивые собаки, которые то вскакивали, то снова ложились. Медленно разворачивался праздник. Особого шума, гама вроде не было. Крупная дородная женщина мужским голосом зазывала ребят на какой-то аттракцион. Красивый мужчина стоял, расставив ноги, на возвышении и, отклонившись назад, играя на пальцах и губах, свистел и удивительно похоже подражал различным звукам. Возникало ощущение, что это не он свистит с помощью пальцев и губ, а дикий гусь летает вокруг, хлопая крыльями. Маленький, толстый человечек с уродливо раздутой грудью вопил из будки перед толпой зевак, призывая их принять вызов молодого силача, который стоял, скрестив руки, со сжатыми кулаками, с мощными бицепсами. Когда его спросили, готов ли он сразиться с возможными противниками, молодой человек кивнул головой, не утруждая себя словесным ответом.
– Вот это сила! Да он может одной левой уложить двух противников! – вопил маленький толстый человечек с раздутой грудью, пытаясь раззадорить трусоватых парней и девушек. Чуть поодаль слышался голос торговца кокосовыми сладостями, который безуспешно уговаривал покупателей попробовать его товар. Молодежь не хотела рисковать мелочью и пробовать то, что он предлагал. Маленькая девочка подошла к нам и посмотрела на нас, лакомясь мороженым, зажатым между двумя вафельками. Однако мы, очевидно, показались ей неинтересными объектами, и она направилась к балаганам.
Мы уже почти отважились пересечь площадь, где раскинулась ярмарка, когда услышали звон церковного колокола.
«Один… два… три…». Неужели действительно колокол пробил три раза? Потом ударил более низкий колокол: «Один… два… три». Колокол звонит по усопшему. Я посмотрел на маму. Она отвернулась от меня.
Человек, подражавший звукам, продолжал свистеть… Женщина хриплым голосом продолжала зазывать на свой аттракцион. Потом наступило затишье. Мужчина с раздутой грудью зашел за занавес, чтобы помериться силами со своим здоровенным товарищем. Продавец кокосовых сладостей в сердцах двинул в «Три Бочки». Сладости были доверены попечению нахальной девицы семнадцати лет. Деревянные лошадки все еще носились по кругу. На них восседали два испуганных мальчугана.
Вдруг опять зазвучал колокол, издававший резкий низкий звук. Я слушал, но не мог сосредоточиться на счете ударов. Один, два, три, четыре… в третий раз какой-то здоровенный парень решился покататься на лошадках, но у него ничего не получилось… восемь, девять, десять… без сомнения, у свистевшего мужчины слишком выдается кадык – адамово яблоко… полагаю, ему больно, когда он говорит, поскольку кадык так выпячен… девятнадцать, двадцать… девочка слизывает мороженое малюсенькими порциями… двадцать пять, двадцать шесть… – я подумал, а действительно ли я правильно досчитал до двадцати шести, считал-то я чисто механически. Я сдался и стал смотреть на лысую голову лорда Теннисона на раскрашенном транспаранте, за ним выплывало изображение краснолицего лорда Робертса, потом Дизраэли с лицом негодяя.
– Пятьдесят один, – сказала мама. – Пошли… пошли.
Мы поспешили сквозь людскую толпу к церкви, и вскоре очутились возле сада, где последние красные часовые выглядывали из-за верхушек остролиста. Сад представлял собой нагромождение беспорядочно посаженных вялых розовых хризантем и жалких майских кустов, среди которых тянулись вверх призрачные стволы остролиста. Сад примыкал к приземистому темному дому, который, казалось, сжался, съежился, скрытый зарослями тиса. Мы подошли к нему поближе. Шторы были опущены, но все равно можно было видеть, что в одной из комнат горели свечи.
– Это Тисовый Дом?[2]2
В Англии многие дома имеют названия.
[Закрыть] – спросила мама подошедшего к нам любопытного паренька.
– Это – дом миссис Мей, – ответил мальчик.
– Она одна живет? – спросил я.
– С французом Карлином. Но он умер… и она зажгла свечи там, где лежит покойник.
Мы постучали в дверь.
– Вы пришли насчет него? – хрипло прошептала согбенная старая женщина, глядя на нас своими очень голубыми глазами и беспрестанно кивая трясущейся головой в бархатном чепце на одну из комнат.
– Да, – сказала мама, – мы получили письмо.
– Ах, бедняга… он нас покинул, миссис, – и старая леди тряхнула головой.
Затем она посмотрела на нас с любопытством, наклонилась вперед, положила свою сухую, старую, покрытую синими венами руку на мамин локоть и шепнула доверительно:
– Свечи уже дважды прогорели. Он был отличным парнем, просто замечательным!
– Мне нужно зайти и уладить кое-какие дела… я его ближайшая родственница, – сказала мама дрожащим голосом.
– Да… я должно быть вздремнула, потому что когда очнулась, было уже совершенно темно. Миссис, я больше не сижу с ним и многие свои дела даже отложила ради него. Да, он ведь страдал, он так мучился, миссис… да, миссис! – Она подняла свои древние руки и посмотрела на маму своими ясными голубыми глазами.
– Вы не знаете, где он хранил свои бумаги? – спросила мама.
– Да, я спросила отца Бернса об этом; он сказал, что нам нужно молиться за него. Я купила свечи на собственные деньги. Он был хорошим парнем, очень хорошим! – И она опять скорбно тряхнула седой головой. Мама шагнула вперед.
– Хотите его видеть? – спросила старая женщина испуганно.
– Да, – ответила мама, выразительно кивнув. Она уже поняла, что старуха просто-напросто глуха.
Мы прошли вслед за женщиной на кухню, затем в длинную низкую комнату, темную, с опущенными шторами.
– Садитесь, – пригласила старая леди все тем же тихим голосом, как будто говорила сама с собой. – Вы случайно не его сестра?
– О… жена его брата! – высказала догадку старая леди.
Мы покачали головами.
– Кузина? – снова попыталась догадаться она и посмотрела на нас внимательно. Я утвердительно кивнул.
– Посидите тут минутку, – сказала она и вышла. Она толкнула дверь и, выходя, задела кресло. Вернувшись, она принесла бутылку и пару стаканов и уселась, расставив все это на столе. Глядя на ее тонкие, сморщенные запястья, с трудом верилось, что она способна удержать бутылку.
– Он ее только начал… выпейте немного для поднятия духа… давайте, – сказала она, подвигая бутылку к маме, и заспешила из комнаты, вернувшись уже с чайником и сахаром. Мы стали отказываться.
– Ему больше не понадобится, бедняге… А это – хорошая выпивка, миссис, он всегда употреблял хорошие напитки. Ах, за последние три дня он не выпил ни капли, представляете, ни капли. Ну, давайте, раз осталось, давайте.
Мы опять отказались.
– Он там, – прошептала она, указывая на закрытую дверь в темном углу мрачной кухни.
Войдя туда, я споткнулся о маленький порожек и тут же налетел на столик, где стоял высокий бронзовый подсвечник. Он с грохотом упал на пол.
– Ах!.. Ах!.. О Господи! Боже мой! Боже мой! – запричитала старая женщина. Вся дрожа, она обошла вокруг кровати и снова зажгла очень большую свечу. Свет упал на ее старое, морщинистое лицо и осветил большую темную кровать из красного дерева, капли воска упали на пол. В мерцающем свете свечей мы могли видеть очертания человеческого тела под покрывалом. Она приоткрыла покрывало и снова начала причитать. У меня сильно забилось сердце. Я был потрясен. Я не хотел смотреть на лицо покойного, но должен был это сделать.
На кровати лежал тот самый мужчина, который повстречался мне в лесу, только теперь его лицо было безжизненным. Я ощутил в душе сильную горечь, чувство ужаса и страха переполняло меня, я снова был очень маленьким и очень одиноким в огромном пустынном мире. Точь-в-точь крохотная песчинка, которая бессознательно несется куда-то в темноте. Потом я почувствовал, как мама положила мне руку на плечо и горько воскликнула:
– Ох, сынок, сынок!
Я вздрогнул и пришел в себя. На мамином лице не было слез. Оно выражало лишь великую скорбь.
– Ничего, мама… Ничего, – утешил я.
Она встала и закрыла лицо руками. Потом подошла к старой леди и взяла ее за руку, видно, хотела, чтобы та успокоилась и прекратила свои причитания. Женщина вытерла со щек старческие слезы и аккуратно убрала свои седые волосы под бархатный чепец.
– А где его вещи? – спросила мама.
– А? – переспросила старая леди, подставив ухо.
– Здесь все его вещи? – повторила свой вопрос мама громким голосом.
– Здесь. – Женщина обвела рукой комнату.
Обстановка состояла из большой кровати красного дерева (ковров на стенах не было), письменного стола, дубового шкафа, двух-трех стульев, тоже красного дерева.
– Я не могла поднять его наверх: здесь он пробыл всего около трех недель.
– А где ключ от письменного стола? – прокричала мама громко прямо на ухо женщине.
– Да, – ответила та. – Это – его письменный стол. – Она посмотрела на нас с каким-то сомнением, с боязнью, что она не понимает нас. Это было ужасно.
– Ключ! – крикнул я. – Где ключ?
Ее лицо выражало беспокойство, когда она качала головой. Я понял, что про ключ она не знает.
– А где его одежда? ОДЕЖДА, – повторил я, указывая на свое пальто.
Она поняла и пробормотала:
– Я отдам вам все.
Мы уже собирались пойти с ней, когда она заспешила наверх по лестнице, начинавшейся за дверью почти у изголовья кровати, как вдруг услышали чьи-то тяжелые шаги на кухне, затем незнакомый голос произнес:
– Что, старая леди опять пила вместе с чертом? Эй, миссис Мей, идите сюда и выпейте со мной!
Мы услышали бульканье жидкости, которую наливали в стакан, и почти тут же свет из приоткрывшейся двери упал на край стола.
– Пойду, посмотрю, может, бабка пошла наверх, – сказал он вслух и тяжелой походкой двинулся к нам. Как и я, он сделал слишком маленький шаг, однако избежал неприятности со столом.
– Проклятый дурацкий порог, – сказал он в сердцах.
Я решил, что это доктор, поскольку он оставался в шляпе и, нисколько не смущаясь, смело расхаживал по дому. Большой, дородный, краснолицый мужчина.
– Прошу прощения, – сказал он, увидев маму. Мама поклонилась.
– Миссис Бердсолл? – спросил он, снимая шляпу.
Мама опять поклонилась.
– Я послал вам письмо. Вы его родственница… бедного старого Карлина? – он кивнул в сторону кровати.
– Ближайшая, – сказала мама.
– Бедняга… несладко ему пришлось. Вот что значит быть холостяком, мадам.
– Я очень удивилась весточке от него, – сказала мама.
– Да. Полагаю, он не относился к числу любителей писать письма друзьям. Туго пришлось ему. Ведь за все приходится платить. За все приходится отвечать… этим проклятым чертям… Прошу прощения.
На некоторое время воцарилась тишина. Доктор вздыхал, потом начал тихо насвистывать.
– Ну. Было бы гораздо удобней, если бы мы подняли шторы, – сказал он, открывая путь дневному свету. – Во всяком случае, – продолжал он, – у вас не будет никаких проблем, ни долгов, ничего подобного. Полагаю даже, вам кое-что останется. Поэтому не так все и плохо. Бедный чертушка, ему пришлось худо в конце концов. Но ведь нам так или иначе все равно приходится за все платить. Что там делает бабка? – спросил он, взглянув на потолок, сверху доносился шум: резко выдвигались ящики, хлопали дверцы шкафов.
– Мы попросили ключ от его письменного стола, – пояснила мама.
– О, я помогу вам найти его… Да и завещание тоже. Он сказал мне, где все находится, и просил передать вам, как только придете. Похоже, он много думал о вас. Возможно, хотел этим облегчить свою участь…
Мы услышали, как с шумом спускалась вниз старая леди. Доктор подошел к лестнице.
– Приветствую вас… и осторожней, пожалуйста! – крикнул он.
Однако с бедной старой женщиной произошло как раз то, чего он боялся. Она споткнулась, и куча брюк, которую она несла, посыпалась прямо в руки доктору. Он поддержал ее, помог спуститься с лестницы, приговаривая:
– Не ушиблись?.. Нет? – Он улыбнулся ей и тряхнул волосами.
– А, доктор… доктор… Благослови вас Господь. Как я благодарна, что вы пришли. Ах!
– Ну, что вы… – Он покачал головой и поспешил на кухню. Там он плеснул ей стаканчик виски, не забыв и про себя.
– Выпейте, – сказал он, обращаясь к ней, – вам надо взбодриться.
Бедная старая женщина опустилась в кресло у открытой двери на лестницу. Груда одежды валялась на полу у ее ног.
С жалобным выражением на лице она осмотрелась. Дневной свет, сражавшийся со светом свечей, придавал призрачные очертания кровати с лежавшей на ней неподвижной фигурой. Рука старой женщины дрожала так, что ей трудно было удержать свой стакан.
Доктор дал нам ключи. Мы открыли письменный стол и стали выдвигать ящики, вытаскивая и перебирая бумаги. Доктор сел рядом, потягивая виски из стаканчика и беседуя с нами.
– Да, – сказал он. – Он и жил тут всего два года. Как будто чувствовал, что скоро конец, так я полагаю. Он долго жил за рубежом. Поэтому его здесь и прозвали Французом. – Доктор сделал глоток, задумался и еще глотнул. – Да, настал и его день… сущий кошмар. Намучился же он! Хорошо, что старая леди глуха. Ужасно, когда мужчина просыпается от боли, кричит, мучается. – Глоток, глоток, глоток… Он снова задумался… потом налил себе еще стаканчик.
– Отличный парень… искренний, прямодушный. Люди не очень-то любили его, потому что не могли подняться до его уровня. А люди избегают тех, кто выше, ум… – Доктор заглянул в свой стаканчик и вздохнул.
– Как бы там ни было, нам будет его не хватать… не правда ли, миссис Мей? – вдруг громко произнес он, посмотрев на нас и бросив взгляд в сторону кровати.
Он закурил трубку и задумался. А мы в это время изучали бумаги. Писем среди них было очень мало, одно или два с парижским адресом. Много счетов, рецептов, записей… Бизнес, один сплошной бизнес…
Вряд ли можно было обнаружить проявление человеческих чувств во всем этом мусоре. Мама откладывала те бумаги, которые, по ее мнению, представляли хоть какую-то ценность. Собрав вместе целую кучу, она отнесла ее на кухню, чтобы сжечь. Казалось, она боялась найти здесь слишком много свидетельств чужой жизни.
Доктор продолжал наслаждаться табаком, время от времени произнося какие-то речи.
– Да, – говорил он. – Есть два пути. Вы можете жечь лампу быстро, с большим пламенем. И она будет гореть ярко, пока в ней не выгорит весь керосин. А потом она начнет вонять и дымиться. Или же вы станете прикручивать у нее фитилек, и она на вашем кухонном столе будет гореть долго, а погаснет потихоньку, мирно. – Тут он посмотрел на свой стаканчик и, увидев, что тот пуст, вернулся к реальности. – Нужна ли какая-нибудь помощь, мадам? – спросил он.
– Нет, благодарю вас.
– Ага. Я не думаю, что тут возникнут какие-либо проблемы. Да и слез прольется не так уж много… Когда человек прожил жизнь, потратил годы Бог знает, на что, нельзя ожидать от близких, что те воспримут потерю так уж остро. Однако и он думал о своем последнем дне, мадам. У него бывали периоды, когда он был богат. Но он не пускал деньги на ветер, а всегда будто чего-то ждал. Однако в его жизни не случилось таких событий, как, например, женитьба… Это вроде того, когда перед вами стоит блюдо и, хочешь не хочешь, а есть надо.
Он снова погрузился в раздумья и молчал до тех пор, пока мы не заперли письменный стол, не сожгли бесполезные бумаги, не распихали остальные по карманам и не набили ими черный портфель, после чего приготовились уходить. Тут доктор посмотрел на нас и вдруг сказал:
– Ну а как быть с похоронами?
Потом он обратил внимание на усталость в глазах мамы и вскочил со стула. Быстро схватив свою шляпу, он стал уговаривать нас:
– Пойдемте к моей жене на чашку чая. Живя в такой проклятой дыре, поневоле утратишь всякое воспитание. Пойдемте. Моя женушка так одинока здесь. Давайте прямо сейчас и навестим ее.
Мама улыбнулась и поблагодарила его. Мы собрались уходить. Мама немного замешкалась. В дверях она обернулась в сторону кровати, затем вышла.
На улице, на свежем воздухе, в конце дня трудно было поверить, что все это – правда. Нет, это мало походило на правду. На белой подушке грустное бесцветное лицо с седой бородой, освещенное колеблющимся пламенем свечей. Все ложь: и деревянная кровать, и глухая женщина – все неправда. Вот желтое пламя маленьких подсолнухов – это правда, это – настоящее. И солнечные блики на теплых стенах старых домов – тоже правда, это – настоящее. Солнечный свет согрел нас, мы очнулись. Неправда покинула наши души. Нам больше не было холодно.
Хорошенький домик доктора смотрелся очень славно в окружении буков. У железной изгороди перед лужайкой какая-то женщина шутливо выговаривала довольно симпатичной корове, сунувшей своей темный нос через изгородь со стороны поля. Женщина – маленькая, темноволосая, в пестрой одежде. Она нежно гладила нос скотине, глядя прямо в карие влажные глаза, и ласково приговаривала на шотландский манер, так заботливая мать обычно разговаривает с ребенком.
Когда она с удивлением обернулась, чтобы поприветствовать нас, глаза ее еще лучились нежностью. Она угостила нас чаем с ячменными и пшеничными лепешками, с яблочным мармеладом, и все это время мы наслаждались ее голосом, приятным, мелодичным, веселым, как жужжание пчелок в листве лип. Хотя она и не произнесла ничего значительного, мы слушали ее с неподдельным вниманием.
Ее муж казался очень веселым и добрым. Она бросала на него быстрые взгляды, но в глаза ему старалась не смотреть. Он с веселой искренностью подшучивал над женой и всячески расхваливал, а потом вдруг начинал подтрунивать над ней. Затем он стал проявлять легкое беспокойство. Думаю, она боялась, что он перед этим слишком много выпил. Полагаю, она была даже потрясена и напугана, увидев его нетвердую походку, и особенно перепугалась, когда убедилась, что он пьян. У них не было детей. Я заметил, что он особенно старался шутить, когда видел, как она напряжена за столом. Он часто посматривал на нее и откровенно огорчался, потому что жена избегала смотреть ему в глаза, он явно начинал беспокоиться и, как я понял, не прочь был уйти.
– Думаю, теперь нам пора с вами к викарию, – сказал он мне.
И мы покинули эту комнату с окнами, выходившими на юг, на солнечные лужайки, комнату с изысканными маленькими акварелями, выполненными в утонченной манере, со множеством проявлений милого несовершенства: пустыми вазами для цветов, закрытым пианино, примитивными чашками, отбитым носиком у чайничка, из-за чего на скатерти появлялись пятна.
Мы отправились к столяру и заказали гроб, а доктор выпил там еще стаканчик виски. Была оплачена кладбищенская работа, и доктор тут же полакомился каплей бренди. Портвейн, которым угостил его викарий, окончательно развеселил доктора, и мы дружно отправились домой.
Теперь беспокойство, таившееся в темных глазах маленькой женщины, уже не могло испортить настроение доктору. Он спешил покинуть дом, а она нервно крутила обручальное колечко на пальце. Доктор прямо-таки настаивал на том, чтобы отвезти нас на станцию, несмотря на нарастающую в комнате тревогу.
– Вы будете с ним в полной безопасности, – убеждала нас его жена своим ласкавшим слух хайлендским[3]3
Шотландским.
[Закрыть] произношением. Когда мы обменялись рукопожатием на прощанье, я отметил, что у нее хоть и маленькая, но твердая, сильная ручка… А вообще я всегда терпеть не мог старые, черные, из шерсти альпаки[4]4
Разновидность лам.
[Закрыть] платья.
* * *
Нам предстояло преодолеть довольно долгий путь из Эвербича домой. Часть пути мы проехали на автобусе, часть прошли пешком. Для мамы дорога оказалась непосильно длинной. Ноги ее очень устали.
Ребекка вышла из дома и из зарослей рододендрона высматривала нас. Она поспешила нам навстречу и спросила маму, не желает ли она чаю.
– Сейчас я вам приготовлю, – сказала она и побежала в дом.
Она то и дело вертелась вокруг, якобы затем, чтобы взять у мамы сначала шляпу, потом пальто. Ей хотелось поговорить с нами; ее тревожил вид моей мамы; она заметила черные круги у нее под глазами, вот и ходила теперь вокруг да около, не решаясь расспрашивать напрямую, но по всему было видно: она беспокоится и очень хочет знать обо всем, что произошло.
– Летти забегала домой, – сообщила она.
– И опять ушла? – спросила мама.
– Она приходила только сменить платье. Надела зеленое из поплина. И очень интересовалась, куда вы пропали.
– А что ты ей сказала?
– Что вы вышли куда-то ненадолго. Она обрадовалась этому. Вся такая веселая, оживленная, настоящая белочка.
Ребекка задумчиво посмотрела на маму. Наконец мама сказала:
– Он умер, Ребекка. Я видела его.
– Значит, Господь прибрал… Теперь вам не придется больше волноваться из-за него.
– Но он умирал в одиночестве, Ребекка. Совсем один-одинешенек.
– Ему выпала такая смерть, а вам по его милости – жизнь, – сказала на это Ребекка.
– Зато со мной оставались дети. Они дали мне все… Мы не будем ничего рассказывать Летти, Ребекка. Договорились?
– Ладно, не будем. – Ребекка вышла из комнаты.
– У тебя и у Летти теперь будут деньги, – сказала мне мама.
После отца осталась сумма в четыре тысячи фунтов или что-то около того. Она была завещана маме, а в случае ее отказа или смерти – Летти и мне.
– Ну, мама… это же нам, тебе.
Несколько минут мы молчали. Потом она негромко сказала:
– Ты мог бы иметь отца…
– Спасибо, что у нас его не было, мама. Благодаря тебе мы обошлись без него.
– Как ты можешь так говорить? – изумилась мама.
– Могу, – ответил я. – Я благодарен тебе за все.
– Если ты даже почувствуешь когда-нибудь презрение или отвращение к нему, постарайся быть великодушным, мой мальчик.
– Но…
– Да, – сказала она. – И не будем больше говорить об этом. Как-нибудь тебе придется рассказать все Летти… И ты сделаешь это. Расскажешь все.
Я действительно рассказал. Через неделю или чуть позже.
– Кто еще знает об этом? – спросила она, нахмурившись.
– Мама, Бекки и мы.
– Больше никто?
– Никто.
– Тогда хорошо, что он покинул этот мир, раз маме так пришлось страдать из-за него. Где она, кстати?
– Наверху.
И Летти побежала к ней.








