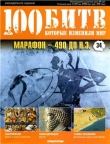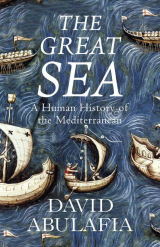
Текст книги "Великое море. Человеческая история Средиземноморья (ЛП)"
Автор книги: David Abulafia
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц)
На краю изрезанного берега
Сейчас это место бесплодно и безлюдно,
Место могил, покрытых человеческой кровью.
Время освятит, память освятит.
Здесь покоится прах могучих мертвецов,
Юноша, зажегший пламя Неизвестность,
Сражался за свободу, победил под свинцовым дождем.
Бесконечная слава, их бессмертие.15
Общие потери составили 265 000 солдат из Великобритании, Британской империи и Франции и, возможно, 300 000 с турецкой стороны; но, несмотря на ужасающие потери, именно турки удержали позиции, и менее чем через девять месяцев атакующие войска отступили. Галлиполи имела некоторые положительные последствия с точки зрения Великобритании: турки были вынуждены вывести многие из своих лучших войск из Палестины, что ослабило давление на Египет и Суэцкий канал.16
III
Во время Великой войны большая часть Средиземноморья оставалась спокойной. Накануне конфликта англичане и французы надеялись привлечь короля Испании Альфонсо к союзу. Британское Адмиралтейство рассматривало Сеуту как базу для подводных лодок и торпедных катеров, а французы надеялись, что Балеарские острова можно будет использовать в качестве перевалочного пункта для войск, перебрасываемых из французской Северной Африки. Возможно, переговоры зашли бы дальше, если бы испанский король не поднял вопрос о возможности получения разгромленной Португальской республики в качестве компенсации за любую поддержку, которую он мог бы оказать Франции и Великобритании.17 Но, по крайней мере, он сохранял нейтралитет, и испанские воды оставались безопасными для судоходства. В центре страны главным центром военно-морской активности была Адриатика, где находился австрийский флот. Итальянские ирредентисты бросали жадные взгляды на побережье Истрии и Далмации, и австрийцы рассматривали Котор как важнейшую военно-морскую станцию, от которой зависела их способность удерживать восточные берега Адриатики. Мятеж в Которе в феврале 1918 года показал, что следовало бы больше думать об условиях, в которых морякам приходилось работать, пока они были там размещены. Матросы жаловались, что офицеры жили в некотором стиле, часто в сопровождении жены или любовницы, а один матрос утверждал, что от него требовали, чтобы он израсходовал свой запас мыла на мытье капитанской собаки. Хуже того, рядовым приходилось довольствоваться поношенной одеждой и питаться гниющим мясом и неполноценными булками, в то время как офицеров исправно кормили качественным мясом, овощами и фруктами. Учитывая новизну полетов, неудивительно, что офицеры, желавшие произвести впечатление на молодых медсестер, брали их с собой в полеты, или что гидросамолеты иногда доставляли австрийских офицеров в элитный бордель в Дубровнике. После подавления мятежа власти расстреляли только явных зачинщиков, понимая, что пришло время для серьезной реорганизации флота (под руководством получившего новое повышение адмирала Хорти, который спустя годы продолжал с гордостью носить свой титул даже в качестве «регента» не имеющего выхода к морю венгерского государства).18
В начале войны условия в Которе были не такими уж плохими. Гавань находится в глубине фьорда, за узким проливом Бокке-ди-Каттаро; позади – обрывистые горы Черногории. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, австрийцам нужно было усмирить Черногорию, правитель которой из сочувствия к своим соотечественникам-сербам объявил войну Австро-Венгрии вскоре после убийства Франца Фердинанда. В конце лета 1914 года австрийский флот начал обстреливать черногорский порт Бар, и французы ответили на это мощным флотом, высланным с Мальты: четырнадцатью линкорами и несколькими судами меньшего размера. Французский флот очистил Бар от австрийцев и обстрелял внешние укрепления Бокке-ди-Каттаро, не затронув Котор. Но ситуация была плачевной: пока Италия не объявила войну Австро-Венгрии в мае 1915 года, у французов не было более близкой базы, чем британская Мальта, а французские войска были полностью заняты сражениями на Марне, далеко на севере.19 Затем австрийцы стали смелее, нагло нападая на итальянские прибрежные города, такие как Сенигаллия, Римини и Анкона, где они устроили хаос, разрушив железнодорожную станцию и склады угля и нефти, а также повредив несколько общественных зданий, включая больницу; погибло 68 человек. Тем не менее австрийцы держались в стороне от Таранто, где находилась главная военно-морская база Италии. Они не стремились к морскому сражению. В ответ итальянцы направили свой флот из Апулии в южную Далмацию; они разрушили железнодорожную линию от Дубровника до Котора. Эта игра в "крестики-нолики" продолжалась торпедными атаками немецких подлодок на итальянские суда; поскольку Италия еще не находилась в состоянии войны с Германией, а только с Австрией, подлодки беззастенчиво ходили под австрийским флагом. В ноябре 1915 года тайное немецкое присутствие привело к ужасным последствиям: немецкая подлодка потопила итальянский лайнер "Анкона", который направлялся из Сицилии в Нью-Йорк, у побережья Северной Африки, и американский президент выразил Австрии громкий протест по поводу этого акта, который австрийцы, разумеется, были не прочь свалить на немцев.20 Наконец, после возобновления бомбардировок с моря, австрийские войска поднялись на высоты Черногории и захватили столицу Цетинье в начале 1916 года.21
Это была борьба за овладение лишь одним уголком Средиземноморья. Весной 1917 года действия были сосредоточены на узком проходе между Отранто и Албанией, где австрийцы теперь удерживали Дураццо. Все новые технологии, которые были под рукой, были использованы в полной мере. Каждая сторона мобилизовала гидросамолеты, которые сбрасывали бомбы на вражеские корабли, не нанося им заметного ущерба, а британцы создали новую базу для гидросамолетов в Бриндизи. Против австрийских и немецких подводных лодок были развернуты сети, но, даже если они могли остановить подводную лодку, они не могли остановить торпеду. В поддержку британцев, итальянцев и французов прибывали подкрепления: четырнадцать японских эсминцев и один крейсер сыграли особенно важную роль в борьбе с немецкими подводными лодками; также прибыли шесть австралийских крейсеров, а после запоздалого вступления в войну Греции в июле 1917 года появился приличный греческий флот.22 Важность относительно ограниченного конфликта с австрийцами заключается в появлении новых методов борьбы за контроль над морем: аэропланов, которым еще предстояло доказать свою состоятельность, и подводных лодок, которые быстро это сделали. Стали очевидны и новые опасности: торговое судоходство подвергалось риску со стороны вражеских подводных лодок, и к 1917 году британцы и французы ввели эффективную систему конвоев для сопровождения судов на восток от Гибралтара.23 Во время войны после столетия относительного мира появился более коварный враг, чем барбарийские корсары: невидимый, смертоносный и разрушительный, каким корсары, искавшие добычи и пленных, никогда не были.
Повесть о четырех с половиной городах, 1900-1950 гг.
I
С точки зрения Средиземноморья, Первая мировая война была лишь частью череды кризисов, ознаменовавших гибель Османской империи: потеря Кипра, Египта, Ливии, Додеканеса, а затем и сама война с потерей Палестины под британским контролем, за которой вскоре последовал французский мандат в Сирии. Все эти перемены имели последствия, иногда радикальные, в портовых городах, где на протяжении веков сосуществовали различные этнические и религиозные группы, в частности в Салониках, Смирне, Александрии и Яффо. В конце войны османские земли были поделены между державами-победительницами, и даже Константинополь заполонили британские солдаты.1 Султан был политически обездвижен, что давало широкие возможности турецким радикалам, в частности Мустафе Кемалю, который с блеском проявил себя в боях при Галлиполи. Недоверие союзников к туркам усугублялось общественными настроениями: массовая депортация армян весной и летом 1915 года вызвала ужас у американских дипломатов, находившихся в Константинополе и Смирне. Продвигаясь по анатолийским нагорьям под палящим зноем, подгоняемые суровыми надсмотрщиками, мужчины, женщины и дети падали и умирали, или их убивали ради забавы, в то время как османское правительство шумело о предательских заговорах, которые, как утверждалось, разгорались среди армян. Намерение состояло в том, чтобы «истребить всех мужчин моложе пятидесяти лет».2 Греки, евреи и иностранные купцы были обеспокоены тем, что «очищение» Анатолии не ограничится преследованием армян. В свои последние дни османское правительство отвернулось от старого идеала сосуществования. И в Турции, как часто показывали радикальные младотурки, мощные националистические настроения брали верх над терпимостью прошлых времен.

Смирна пережила войну физически целой, а большая часть ее населения была защищена от преследований, отчасти потому, что ее вали, или губернатор, Рахми-бей, скептически относился к турецкому союзу с Германией и Австрией и понимал, что процветание его города зависит от смешанного населения, состоящего из греков, армян, евреев, европейских купцов и турок.3 Когда ему приказали выдать армян османским властям, он сдержался, хотя ему пришлось отправить около сотни «неблагонадежных» на неопределенную судьбу.4 Греки составляли большинство в Смирне; действительно, их было больше, чем в Афинах, и они оставались очень привязаны к православию, которое играло важную роль в системе греческих школ и в общественных праздниках, в то время как националистические идеи из Греции также начали проникать в общину. Греки очень активно торговали сухофруктами, и прибытие урожая инжира из внутренних районов было большим событием на набережной Смирны. Ладиноязычная еврейская община была менее заметна, чем в Салониках, но в Смирне, как и в Салониках, все больше распространялась западная мода. Однажды губернатор посетил школу Всеобщего исраэлитского альянса и заметил, что хотел бы, чтобы евреи носили фески, а не шляпы западного образца, которые они теперь носят: «Вы не во Франции или Германии, вы в Турции, вы подданные Его Величества султана».5
Смирна обладала прекрасной гаванью и продолжала процветать с конца XVIII века, когда в других османских портах начался спад деловой активности. В 1800 году Франция доминировала в торговле Османской империи с Европой и поставляла в город не только европейские ткани, но и колониальные продукты, такие как сахар, кофе, кохинея и индиго. Турки Смирны покупали фески, изготовленные во Франции.6 Среди европейцев было оживленное сообщество деловых семей британского, французского и итальянского происхождения, которые помогали поддерживать бизнес Смирны на протяжении всего XIX века, когда такие семьи, как Уитталлы, крупные экспортеры фруктов, и Жиро, на ковровых фабриках которых работало 150 000 человек, доминировали в экономической жизни. Среди новоприбывших были и американцы, которые использовали Смирну в качестве перевалочного пункта для перевозок нефтяной компании Standard Oil Company of New Jersey.7 Просторные пригороды с величественными домами левантийских семей, такие, как, например, райский уголок, были расположены в нескольких милях от города, соединенные железнодорожной линией или лодочным сообщением с центром Смирны.8 Даже во время войны эти "левантийцы", как их называли, продолжали жить безбедно, поскольку Рахми-бей не видел причин относиться к иностранным купцам как к вражеским пришельцам – большинство из них родились в Смирне и никогда не посещали страну, чей паспорт они носили.
В Лондоне победоносное британское правительство не замечало интересов левантийских купцов из Смирны. Турки были настроены враждебно: Лорд Керзон, министр иностранных дел, назвал османов одним из "самых ядовитых корней зла" на Земле, а Ллойд Джордж, премьер-министр, в течение нескольких лет с энтузиазмом рассказывал о благородных достижениях древнегреческой цивилизации в противовес жалким неудачам турок – в самом диком заблуждении он назвал Кемаля "продавцом ковров на базаре". Это заставило его принять мечту Венизелоса о восстановлении греческого господства, которое простиралось бы через Эгейское море и включало побережье Малой Азии. Для Венизелоса это был самый центр греческой цивилизации: древняя Иония, греческие жители которой, как он утверждал, "составляют самую чистую часть эллинской расы", оптимистично насчитывавшую 800 000 душ.9 Великобритания высоко ценила военную поддержку Греции в 1919 году в борьбе с большевистскими революционерами в России. Эти греческие борцы за свободу, несомненно, нуждались в вознаграждении. Британцы с радостью предложили грекам Смирну и ее внутренние районы, хотя американцы и континентальные державы, собравшиеся на мирную конференцию в Париже в 1919 году, были менее уверены, а Уиттоллы из Смирны представили доказательства того, что жители города не хотят, чтобы ими управляло греческое правительство, поскольку все они, греки, турки, евреи, армяне, ценили гармонию, существовавшую внутри города, и хотели не более чем местного самоуправления. Ллойд Джордж убедил большинство своих союзников в том, что Смирна и ее внутренние районы должны быть немедленно переданы Венизелосу, которого следует призвать направить туда греческие корабли и без промедления занять Ионическое побережье. Среди тех, кто горячо возражал против этих действий, был американский верховный комиссар в Константинополе адмирал Бристоль, человек, чьи предрассудки вряд ли подходили ему для решения предстоящих задач: он утверждал, что "армяне – такая же раса, как евреи; у них почти нет национального духа и они обладают плохим моральным обликом", но свой самый большой гнев он приберег для британцев, поскольку не верил, что Ллойд Джордж руководствовался высокими моральными принципами – все дело было в конкуренции за нефть.10
В мае 1919 года прибыло 13 000 греческих солдат. После спокойного начала инциденты стали множиться: Турецкие деревни были разграблены, только в Смирне было убито около 400 турок и 100 греков. Новый греческий губернатор, Аристид Стергиадес, был удаленной фигурой, которая предпочитала стоять над общественной жизнью элиты Смирны. Он старался быть справедливым и в спорах часто отдавал предпочтение туркам, а не грекам; ценой ему было презрение греков, чей триумфализм угрожал всему, что было особенного в городе. С другой стороны, его политика вернула торговлю в Смирну. Именно во внутренних районах проблемы становились все более серьезными; Красный Крест собирал свидетельства этнических чисток греками районов, населенных турками. Красного Креста спросили одного греческого офицера, почему он позволяет своим людям убивать турок, на что он ответил: "Потому что это доставляет мне удовольствие". На самом деле, насилие было визитной карточкой обеих сторон. Но Мустафа Кемаль собирал свои силы, и когда в 1921 году греки попытались проникнуть в горные районы на востоке в надежде провести границу между Грецией и Турцией по западному плато, первые успехи были встречены драматической турецкой контратакой – греки позволили затянуть себя слишком глубоко в Анатолию. В результате разгрома греков турецкие войска каскадом двинулись на запад к Смирне, в которую они вошли 9 сентября 1922 года, но не раньше, чем около 50 000 разбитых греческих солдат и 150 000 греков из внутренних районов начали сходиться к городу.
Это стало началом катастрофы, которая врезалась в память греков. Хотя первые турецкие войска, вошедшие в Смирну, были хорошо дисциплинированной кавалерией, их сопровождали четты, турецкие иррегуляры, уже попробовавшие немало греческой крови во время бесчинств в Западной Анатолии. По мере того как беженцы стекались в город, резня, изнасилования и грабежи, в основном, но не только, со стороны нерегулярных войск, стали негласным порядком дня, начиная с любимого врага – не греков, а армян. Ни новый турецкий губернатор, ни, когда он прибыл, Мустафа Кемаль не проявляли беспокойства по поводу того, что они, похоже, считали фактом войны: в новой Турции, которая создавалась, больше не было места для греков и армян. За тщательным разграблением армянского квартала последовало насилие по всему городу, хотя турецкий квартал оставался в покое. Пригородные виллы левантийских купцов были разграблены; большинство левантийцев (если они выжили) потеряли все, что им принадлежало, а их торговые компании прекратили свою деятельность. Наконец, улицы и дома Смирны пропитали бензином (начиная с армянского квартала), и 13 сентября город был подожжен. Число беженцев возросло до 700 000 человек, так как теперь греки и армяне самой Смирны были вынуждены бежать на набережную. Там их ждало манящее зрелище: Британские, французские, итальянские и американские военные корабли находились в гавани, нервно защищая интересы своей страны. Огонь перекинулся ближе к набережной, уничтожив склады и офисы крупных торговых фирм, и центр города превратился в пепелище, а отчаявшаяся масса людей, многие из которых умирали от ран, жажды и истощения, молила об избавлении.
Отношение великих держав было леденяще несимпатичным. Адмирал Бристоль уже проинструктировал двух американских журналистов, что они не должны писать о турецких зверствах, а французы и итальянцы настаивали на том, что их "нейтралитет" не позволяет им принимать на борт беженцев – настолько, что людей, которые доплывали до военных кораблей, оставляли тонуть в море. Когда мальчика и девочку нашли в воде у американского корабля, моряки сказали Асе Дженнингсу, сотруднику Христианской ассоциации молодых людей, пытавшемуся организовать масштабную эвакуацию, что, как бы они ни хотели помочь, это противоречит приказу, поскольку поставит под угрозу американский нейтралитет. Он не согласился с этим – дети были найдены и оказались братом и сестрой.11 На борту британских военных кораблей оркестрам было приказано играть зажигательные морские песни, пока офицеры обедали в столовой, чтобы заглушить испуганные крики, доносившиеся с причала в нескольких сотнях ярдов. В конце концов британский адмирал уступил горячим мольбам, а восхитительно настойчивый Дженнингс смог заручиться помощью греческого флота, базировавшегося неподалеку на Лесбосе. Двадцать тысяч человек спаслись на кораблях союзников, и еще больше – на греческой флотилии Дженнингса. Тем не менее, около 100 000 человек были убиты в Смирне и ее внутренних районах, и по крайней мере столько же были депортированы в анатолийские внутренние районы, где большинство из них исчезло.
Бездушие командиров в Смирнской бухте и откровенная враждебность адмирала Бристоля в Константинополе отражали иное отношение к гуманитарным катастрофам, чем в начале XXI века. Под "нейтралитетом" понималось, что нужно оставаться в стороне, а не то, что нейтральные державы лучше всего подходят для оказания помощи лишенным собственности и умирающим жертвам этнического насилия. Нежелание вмешиваться усугублялось осознанием того, что поддержка Ллойд Джорджем Венизелоса привела к началу череды событий, над которыми ни Греция, ни Великобритания не имели никакого контроля. Большая часть жителей Смирны уехала, Смирна тоже прекратила свое существование, уничтоженная пожаром, а новый турецкий город Измир так и не смог вернуть свое давнее торговое первенство. Пробел, оставленный греками и армянами, заполнили турки, изгнанные с Крита и из северной Греции, которые хлынули в Турцию. В конце концов, согласно Лозаннскому договору 1923 года, произошел массовый обмен населением между Грецией и Турцией – один только Крит покинули 30 000 мусульман. Бегство из Стамбула последнего султана в ноябре 1922 года устранило последний, очень слабый барьер на пути создания новой, ориентированной на запад Турции, с новой столицей, новым алфавитом и светской конституцией. В Греции идея Мегале умерла, но и многонациональный характер турецкой империи был отброшен. Несмотря на напряженность и даже ненависть, вспыхнувшую между народами и религиями, несмотря на частые попытки унизить христиан и евреев, наложив на них различные финансовые и социальные ограничения, османская система смогла удерживать вместе разрозненные народы в течение нескольких столетий. На смену ей пришла группа государств, чьи лидеры провозглашали ярый национализм и с трудом принимали тех, кого теперь считали чужаками – греков и армян в Турции, евреев и мусульман в Греции.
II
Александрия была еще одним портовым городом, в котором встречались и смешивались культуры. Современный облик город начал приобретать в конце XIX – начале XX века, когда была создана элегантная дорога Корниш вдоль новой набережной и появились широкие улицы с жилыми домами и офисами. Среди этих зданий – псевдокоптский англиканский собор, построенный еще в 1850-х годах, а также необыкновенная группа зданий, спроектированных архитектором Алессандро Лориа, который родился в Египте, обучался в Италии, а затем прославился в Александрии в 1920-х годах. Его Национальный банк Египта выглядит как венецианское палаццо; он также построил еврейскую и итальянскую больницы, что вполне уместно, поскольку он был и евреем, и итальянцем; его самое посещаемое здание – знаменитый отель «Сесил», любимый Уинстоном Черчиллем и Лоуренсом Дарреллом, а также Жюстиной, созданной самим Дарреллом.12 Греческие, еврейские, итальянские, коптские и турецкие жители города безмерно гордились Александрией, интерпретируя классическую фразу Alexandria ad Aegyptum как европейский город рядом с Египтом, а не в нем.13 Джаспер Бринтон, американец, служивший апелляционным судьей Смешанных судов Египта в начале XX века, восторженно отзывался об Александрии, которая, по его словам, была «блестящей и изысканной, намного превосходящей любой город Средиземноморья»; любителей музыки развлекали в больших театрах города Тосканини, Павлова и лучшие голоса из Ла Скала.14 Говорили, что улицы были настолько чистыми, что с них можно было есть еду, чего в наше время точно не попробуешь.
Конечно, космополитичная Александрия не была всей Александрией, и жизнь элиты, о которой пойдет речь ниже, не была жизнью большинства греков, итальянцев, евреев и коптов, живших на северном берегу города. На картах конца XIX века южный фланг длинного и узкого города обозначался как Ville arabe, но он не сильно вторгался в жизнь александрийского среднего класса, разве что предоставлял поваров, горничных и водителей трамваев. Европейцы составляли всего 15 процентов населения, хотя именно они обладали большей частью экономической власти. В 1927 году в городе проживало около 49 000 греков, 37 000 из которых имели греческое гражданство, 24 000 итальянцев и 4 700 мальтийцев. С различными национальностями соседствовали 25 000 евреев (почти 5000 с итальянскими паспортами, хотя многие оставались лицами без гражданства); многие греки также имели негреческие паспорта, будь то киприоты (что делало их британцами) или родосцы (что делало их итальянцами), или, даже после 1923 года, турецкие подданные.15 Большинство влиятельных мусульманских семей, включая королевскую семью, происходили из Турции, Албании, Сирии или Ливана. Как и в Салониках и Смирне, французы добились больших успехов, хотя Египет находился под протекторатом Великобритании. Один александрийский изгнанник признался, что его познания в арабском языке ограничивались меню и газетными заголовками: "Я всегда считал английский и французский своими родными языками". Его жена рассказала другую историю: "Моя мать была полностью франкофонией, а отец говорил только по-итальянски. Я не знаю, как они понимали друг друга, но они понимали".16 Знание арабского языка было полезно в основном для общения со слугами. В эпоху растущего национализма это неприятие любой "восточной" идентичности в конечном итоге окажется фатальным для выживания этих сообществ.
Беллетризованные мемуары Андре Акимана о жизни в Александрии показывают направление мышления многих александрийцев. Семья Акимана приехала из Константинополя в 1905 году, но его дядя Вили привязался и к Александрии, и к Европе:
Как и большинство мужчин, родившихся в Турции в конце века, Вили пренебрегал всем, что имело отношение к османской культуре, и жаждал Запада. В конце концов он стал «итальянцем» так, как это сделало большинство евреев в Турции: заявив о своих родовых связях с Ливорно, портовым городом близ Пизы, где в XVI веке поселились беглые евреи из Испании.17
Архитектор Лориа любил одевать себя и свою семью в черные рубашки фашистов; он также был благотворителем Александрийской синагоги. Самой влиятельной еврейской семьей была семья барона Феликса де Менаше, носившего австрийский императорский титул, хотя его дед, родившийся в Каире, приобрел свое богатство, став банкиром хедива Исмаила; ко времени Феликса не только банковское дело, но и торговля с Триестом поддерживали состояние этой блистательной семьи. Он основал школы и больницы и даже создал собственную синагогу и кладбище, поскольку рассорился с руководителями новой синагоги на улице Неби Даниэль. Хотя он вел светскую жизнь, в которой соблюдение еврейских обрядов не имело большого значения, он был глубоко расстроен, когда узнал, что его сын Жан, учившийся в Париже, был крещен католиком. Хуже того, в его глазах сын вступил в доминиканский орден и приехал в Александрию, чтобы проповедовать. Феликс де Менаше был близким другом сионистского лидера Хаима Вейцмана, который посетил город в марте 1918 года и остановился во внушительной резиденции Менаше. Интересно, что барон Феликс использовал свои контакты с арабами в Палестине, чтобы попытаться заключить двустороннее соглашение между евреями и арабами о будущем Палестины, но британцы, которые теперь отвечали за Палестину, не были заинтересованы в этом.18
Эти связи послужили источником вдохновения для описания Лоренсом Дареллом огромного богатства александрийского банкира Нессима, которого он изобразил скорее коптом, чем евреем. Дарелл написал первый том своего "Александрийского квартета" в Беллапаисе, на Кипре, в начале 1950-х годов, но он поддерживал тесные связи с александрийскими евреями через свою вторую жену, Еву Коэн, и еще больше через свою третью жену, Клод Винсендон, которая была внучкой Феликса де Менаше19 .19 Менасцы общались с другой знатной семьей, Зогебами, христианами-мелькитами из Сирии, членами общины, в которую входили многие преуспевающие торговцы шелком, древесиной, фруктами и табаком.20 Невозможно было сравнить мещанскую жизнь левантинцев из Смирны с поистине величественным стилем Менасесов и их сверстников, тем более что александрийская элита пользовалась вниманием короля и, в частности, Омара Туссуна, члена королевской семьи, которым очень восхищались и который понимал, как важно общаться с различными общинами Александрии. Его можно было встретить раздающим призы в еврейской школе или детям александрийской элиты в колледже Виктории, который был создан по образцу английской государственной (то есть частной) школы. Он был почетным президентом Коптского археологического общества и пожертвовал значительную сумму на строительство коптской больницы. В то же время он проявлял большой интерес к местной экономике, прилагая все усилия для стабилизации цен на хлопок.21
Повседневная жизнь иностранных общин вращалась вокруг торговли и кофейных домов, среди которых самыми известными были греческие, в частности кафе Паструдис. В этих кафе можно было встретить представителей греческой интеллигенции, самым известным из которых был поэт Кавафи.22 Английский романист Э. М. Форстер, который провел в городе большую часть Первой мировой войны (влюбившись в арабского кондуктора трамвая), распространил информацию о поэзии Кавафи за пределами Александрии, а сам поэт снова и снова возвращался к теме своего родного города. Проблема заключалась в том, что его мысли постоянно возвращались именно к древней Александрии, а не к современному городу, который не имел для него особой привлекательности.23 Александрия, из всех портовых городов восточного Средиземноморья, меньше всего пострадала от политических перемен, последовавших за падением Османов, поскольку своим возрождением она была обязана иностранным поселенцам, привлеченным инициативами хедивов, а не султанов.
III
Александрия была заново отстроенным городом, а неподалеку возник новый, в Палестине. Там британцы оказались в совершенно иной политической обстановке, чем в Египте. Арабское восстание во время Первой мировой войны, отчасти поддержанное Т. Э. Лоуренсом, принесло Великобритании ценных союзников в борьбе с турками; одновременно сионистские требования о создании еврейской родины привели к росту напряженности между евреями и арабами в Палестине, особенно после того, как британское правительство выразило свою симпатию к идее еврейского национального дома в Декларации Бальфура 1917 года. Еврейские чаяния выражались в идее возвращения на землю, когда идеалистически настроенные поселенцы из Центральной и Восточной Европы создавали сельскохозяйственные поселения – движение кибуцев стремилось вывезти евреев из городов на свежий воздух сельской местности, – но в сионизме существовало и другое направление, согласно которому создание в Палестине вестернизированного города, населенного евреями, было фундаментальной задачей. В 1909 году группа евреев, в основном европейских ашкенази, приобрела право собственности на несколько песчаных дюн в миле к северу от древнего порта Яффо и разделила землю на шестьдесят шесть участков, которые были распределены по жребию – признак их идеализма, поскольку лотерея гарантировала, что никто не сможет претендовать на лучшее место, и богатые и бедные должны будут жить бок о бок.24 В их намерения входило создать хорошо разветвленный город-сад, или, скорее, сад-пригород, поскольку изначально они отказались включать в свои планы магазины. Они предполагали, что жители будут ездить в Яффо за необходимыми товарами. В поисках названия поселенцы обсуждали всевозможные варианты, включая яростно сионистскую Герцлию и восхитительно благозвучное Ефефию («самая красивая»). В итоге победил Теодор Герцль, потому что название Тель-Авив было ивритским названием его романа о восстановлении Сиона, Альтнеуланда, «старой-новой земли»: тель означал древние останки, напоминавшие посетителям о еврейском присутствии в прошлые тысячелетия, а авив – первые зеленые ростки урожая пшеницы и, соответственно, весну.25
Так родился первый крупный город, возникший на берегах Средиземного моря со времен раннего Средневековья, когда вместо Карфагена был основан Тунис, а Венеция вышла из лагун. Возникновение Тель-Авива открывает иную, средиземноморскую перспективу извилистой истории основания Израиля, а новый город вызвал бурные страсти среди арабских соседей – его до сих пор нет на многих картах Ближнего Востока, составленных в арабских странах.26 Основатели Тель-Авива четко осознавали, что хотят создать еврейское поселение и что оно будет иметь европейский характер, отличный от Яффо, который они считали ужасно "восточным". Это стремление к европейской современности было не ново для Яффо. Протестантская секта, известная как тамплиеры, с сильным чувством немецкой благопристойности создала два упорядоченных поселения за пределами Яффо в 1880-х годах: "Благодаря широким улицам и элегантным зданиям человек мог забыть, что идет по пустынной земле, и представить себя в одном из цивилизованных городов Европы".27 Более состоятельные арабы Яффо также строили комфортабельные виллы в его пригородах. Тель-Авив также не был первым еврейским пригородом Яффы. В 1880-х годах преуспевающий алжирский еврей Аарон Челуш, живший в Палестине с 1838 года, купил землю, на которой возник яффский пригород Неве-Цедек. На тех, кто видел Неве-Цедек, он произвел впечатление своей чистотой и относительно просторной планировкой, а его дома считались одними из самых красивых в Яффо.28 Неве-Цедек привлекал поселенцев самого разного происхождения – помимо североафриканских челушей, сюда прибывали ашкеназы из Центральной Европы, а Соломон Абулафия, ставший мэром города, приехал не далее чем из Тверии – он и его жена-ашкеназка Ребекка Фрейманн в 1909 году перебрались к основателям Тель-Авива. Неудивительно, что на фотографиях он изображен в утреннем халате, кокарде и полосатых брюках – эмблемах модернизации, которые также носили его турецкие и арабские сверстники в Яффо.29 Писатель Агнон некоторое время жил в доме Абулафии в Неве-Цедеке, и, прежде чем Тель-Авив стал центром ивритской культуры, здесь собралась колония писателей и художников.