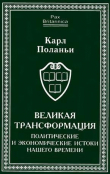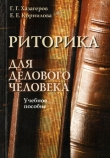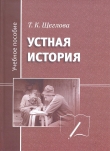Текст книги "Слово — письмо — литература"
Автор книги: Борис Дубин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
2
Мир для носителя и потребителя слухов (мир слухов) делится надвое. Можно сказать, что модуль его конструкции – раздвоение: он строится как цепная реакция простых (в смысле – двоичных) делений. О разделенности мира на своих и чужих уже говорилось. Но, как опять-таки уже упоминалось, мир других «нам» не полностью чужд. Возможность усмотреть в чужом свое, возможность проекции своего на чужое воплощается в характерном представлении о том, что в этой жизни чужих, при всей ее внешней открытости, даже какой-то навязчивой очевидности, непременно наличествует «второе дно» – нечто настоящее (то же самое, что у нас; «наше»), но утаиваемое от нас, скрытое. «Внешнее» нам как бы специально показывают, разыгрывают нас, тогда как «подлинное» от нас прячут, но стоит «поскрести», снять этот «налет», «сбросить маску» – и его тут же увидишь («все одинаковы»). Важно, что признаки своего, спроецированные на образ чужого, приписанные другому, ценностно снижаются. Таким образом, от ведущих значений в автостереотипе дистанцируются через вытесняющий их механизм негативной идентификации. Но работа подобного механизма заключается в том, что он вовсе не разрушает соответствующие значения, – напротив, он, среди прочего, защищает их соответствующим оценочным, модальным барьером и, следовательно, укрепляет. В такой форме слухи проецируют барьер между «нами» и «ними», «своим» и «чужим», воссоздают собственный замкнутый мир, выступая традиционалистской реакцией на более широкий контекст, на новое и непривычное. Так в слухах возникает мотив тайны, заговора, внешней угрозы.
В конце 1960-х гг. бригада французских полевых социологов под руководством Эдгара Морена исследовала в Орлеане слухи об исчезновениях девушек [106]106
См.: Morin E.La rumeur d’Orleans. P., 1982.
[Закрыть]. По рассказам, они пропадали в примерочных кабинках модных лавочек и отделов модной одежды в супермаркетах, которые только появились тогда в городе. Чаще всего эти магазины принадлежали торговцам-евреям. По слухам, жертв по специальным каналам (здесь фигурировали подземелья, таинственные ночные суда без опознавательных знаков и проч.) переправляли на Восток, в гаремы и публичные дома, где их следы терялись. Как было установлено, собственно источником слуха стала перепечатка местным бульварным еженедельником «Черное и белое» фрагмента из журналистской книги «Сексуальная работорговля», вышедшей несколько лет назад в США. В книге речь шла о происшествии в Гренобле – в газете случай был подан как свежая новость, и дело происходило уже в Орлеане. Средой первоначального распространения новости были 15–18-летние ученицы коллежей и лицеев – идеальная среда для возникновения историй о сексуальных посягательствах, «соблазнах большого города» и проч. (Карл Юнг в свое время изучал, как в подобном замкнутом, настороженном и взбудораженном кругу рождаются сплетни о совратителе-педагоге, губящие его репутацию и карьеру.) Исследователи сообщают, что подобные слухи, в ряде случаев независимо друг от друга, эпидемически возникали между серединой 1950-х и серединой 1980-х гг. в большинстве крупных провинциальных городов Франции – Руане, Пуатье, Амьене, Страсбурге, Дижоне, а также и в самом Париже [107]107
См.: Campion-Vincent V., Renard J.-B.Legendes urbaines: Rumeurs d’aujourd’hui. P., 1992. P. 303.
[Закрыть]. Собственно событие здесь составляет появление самого этого нового типа магазинов, точнее, несомый им – в рамках перехода к «обществу потребления» и «цивилизации досуга», который как раз и разворачивается в указанные годы, – образ жизни, воплощенный в архитектуре, дизайне, товарной номенклатуре, наборе услуг, отношениях с покупателями.
Любопытно, что точкой кристаллизации домодерных страхов и фантомов, основой для консолидации замкнутой, партикуляристской среды по отношению к культурной новинке выступает в данном случае масскоммуникативное сообщение. Но парадокса здесь нет. «Сенсационность» (скандальность) отдельных масскоммуникативных сообщений или даже определенных уровней (жанров) широкой, неспециализированной аудиовизуальной и печатной коммуникации есть определенный модус подачи сообщения, препарирования и обработки информационной реальности в расчете на того же «простака», которого на свой лад моделируют и слухи: так историческая фаза в дифференциации общества воплощается и далее рутинизируется в виде определенной культурной формы – жанра. Для подобного антропологического контрагента (а соответствующие передачи и каналы именно такого адресата целенаправленно строят и создают, так как – или потому что – работать на другого коммуниканта либо не умеют, либо считают слишком расходным) сообщаемо, потребляемо и в этом смысле реально существует лишь то, что сенсационно, иными словами – невероятно, скандально, разоблачительно, т. е. демонстративно испытывает и нарушает принятые нормы [108]108
См. об этом: Постановщики реальности: Круглый стол // Досье на цензуру. 1997. № 2. С. 15–25.
[Закрыть]. Слух-посвящение в подобных случаях возможен лишь как слух-разоблачение, «тайна» неотделима от дезавуирования (а значит, здесь следовало бы говорить уже не о тайне, но о секрете или загадке, а это совсем иные социокультурные конструкции).
При этом тайна, заговор и тому подобные феномены – лишь проекция закрытости данного типа сообщества, его собственное порождение, его перевернутый образ. Круг тех, кто знает, как все обстоит «на самом деле», и ведет себя соответственно этому знанию, «понимая», становится наваждением и угрозой сообщества незнающих (так протагонисты «Процесса» и «Замка» пытаются угадать свою судьбу, известную, как они думают, тем невидимым силам, которые руководят их жизнью [109]109
Впрочем, в мире этих романов (и, может быть, и вообще мире Кафки) «своих» нет, здесь все друг другу «чужие», а жизнь каждого и есть граница с миром ему чужого, всемогущего и неподвластного.
[Закрыть]). Собственная отделенность от источников понимания, свое агрессивное неприятие происходящего, то, что твоя жизнь грозит стать тебе непонятной, а значит – неподконтрольной, в порядке социально-психологической защиты и разгрузки от нежелательных эффектов и последствий (включая свою ответственность за происходящее) переносится на других, образ которых приобретает при этом черты агрессора. Перед нами один из механизмов целого процесса, который можно было бы назвать социальным производством неведения (тогда в рамках социологии знания стоило бы говорить о социологии незнания) [110]110
См. об этом: Moore W. E., Tumin М. М.Some social functions of ignorance // American sociological review. 1949. Vol. 14. № 6. P. 787–795; Weinstein D., Weinstein M. A.The sociology of nonknowledge: A paradigme // Research in sociology of knowledge, sciences and art. Vol. 1. Greenwich (Conn.), 1978. P. 151–166; Smithson M.Toward a social theory of ignorance // Journal for the theory of social behaviour. 1985. Vol. 5. № 2. P. 151–172.
[Закрыть].
Как выстраивается подобное социальное взаимодействие? Его типовые амплуа: «мы» (как персонаж-жертва) – «они», «он» (которые нас обманывают) – некий «посвященный», рассказчик, разносчик слуха (идеализированное «мы», которых «не проведешь») – простак («мы» в роли несведущего слушателя) [111]111
В «Грозе» А. Островского слухи в застойный быт провинциального волжского городка приносит странница, а рассказывает она о краях иноверных «салтанов» и людях с песьими головами – сюжетах еще Геродотовых времен, образах средневековых легенд и лубочных картинок.
[Закрыть]. Нежелание принять происходящее, очевидное, как оно есть, поверить, что все это именно так и обстоит, разворачивается в микротеатр социальных марионеток со всеми его тайнами, переносами, упрощениями и сведением к традиционно-привычному, которые наконец-то делают происходящее «понятным» простаку (редукция сложности). Собственно, слух проявляет все основания традиционной власти, власти в обществе, не имеющем других референтных инстанций и вех, кроме конструируемой или фантомной традиции: чудо – тайна – авторитет. Построенное на подобных-основаниях, замкнутое, кольцеобразное, самообосновывающееся действие (слух) далее выступает самоподтверждающимся пророчеством, вовсе, впрочем, не предвосхищая, а попросту вызывая нежелательный эффект – невротически производя все тот же собственный страх.
Рассмотрим несколько подробней фигуру переносчика и рассказчика слухов – Альфред Шютц описывал его как «хорошо информированного гражданина» [112]112
Schutz A.Well-informed citizen // Schutz A. Collected papers. The Hague, 1964. Vol. 2.
[Закрыть]. Двойственность, многозначность его роли связана с функциональной нагрузкой – посредничества между миром «чужих» и «своих», соединения нового с привычным. Причем эта функция может, в свою очередь, дублироваться: так возникает обобщенный образ («тень») свидетеля, к которому – в его отсутствие! – апеллируют. Это может быть дальний родственник или знакомый знакомых, «один парень» и т. п. С другой стороны, сама масса реальной публики или потенциальных слушателей слуха тоже персонифицируется в отдельной «сюжетной» фигуре – недалекого простеца, рассеянного зеваки [113]113
О фигуре простака в кругу нашей проблематики см.: Сумцов Н. Ф.Разыскания в области анекдотической литературы: Анекдоты о глупцах. Харьков, 1898; Дуров А. А.Изыскания в области дурацких древностей // Философские науки. 1995. № 1. С. 223–234.
[Закрыть]. (Нетрудно подобрать этим персонажам литературные параллели.) Осцилляция потребителя между этими инстанциями и значениями (герой/жертва, рассказчик, свидетель, простак), игра отождествлений/растождествлений с разными типовыми фигурами собственно и составляет внефабульный, надтематический сюжет сообщения (слуха), реальный смысл и эффект данного коммуникативного действия. В ходе его осваиваются культурные роли рассказывающего и слушающего. По форме они как будто традиционные, но по функциональному смыслу и самоощущению участников это феномен новый, явное отклонение от традиционных норм. Почему слушатели, публика и приобретают в фигуре простеца комические черты (так, игра со зрителем, розыгрыш его становятся особым комическим сюжетом лубка «Три дурня», где изображена пара гротескных персонажей, третий же здесь – смотрящий на них зритель: «Трое нас с тобой, смешных дураков», – гласит подпись под картинкой). Слушатели и зрители усваивают тут свои слушательские и зрительские роли, получают нормативно-узаконенный рисунок соответствующего ролевого поведения, приобретают опыт мысленного отстранения без реального участия – опыт дистанции, рефлексии, фикции. Для Вальтера Беньямина подобное внимание без поглощенности воплотится в фигуре публики как «рассеянного экзаменатора» [114]114
Беньямин В.Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996, с.61.
[Закрыть].
Еще раз подчеркну в данном контексте самоорганизующийся, конститутивный характер самого коммуникативного акта при передаче слухов. Здесь кто рассказывает, тот и рассказчик. Участники коммуникативной ситуации всегда легко узнают «хорошо информированного гражданина», но у них нет средств проверить его сообщение. Это не предусмотрено, что и важно. Никаких специальных преимуществ или традиционных полномочий такой «гражданин» не имеет; самое большее, можно различить в его образе радикалы или следы значений «иного» – давнего или чужого: черты старого, бывалого человека или, напротив, незрелого юнца, своего рода вольтеровского Кандида, паломника или путешественника, человека «не в себе». Важней другое: он такой же, «как все», но имеет смелость (это качество для сознания простаков крайне важно) играть посвященного, всеведущего, «всезнайку», сам себя им назначив и по ходу рассказа самым парадоксальным образом удостоверяя и укрепляя свой апроприированный либо узурпированный авторитет. С одной стороны, он нагнетает предельно невероятные факты и подробности (неимоверность как гарант достоверности), с другой – разоблачает всех и вся («стало быть, знает и имеет право»). Перед нами опять-таки патология традиционализма – ни богов, ни героев здесь уже нет. Позволю себе такое сопоставление: на современной эстраде или телеэкране певец – это та или тот, кто выходит на сцену и берет в руки микрофон, а не тот или та, кто умеет петь или учен этому ремеслу (впрочем, это сравнение можно перенести и на политику – тогда мы получим фигуру типа, например, Жириновского).
3
Обозначение «гражданин» (горожанин) применительно к слухам возникает не случайно. Поскольку слухи относятся к демонстративно «иной среде», то преимущественный их предмет – сверхгород, зиммелевский метрополь, тот самый Питер, в котором лес рубят, а по деревням щепки летят, или та Москва, откуда прибежал «Харитон с вестьми» и «звон» из которой слышен в Вологде (в качестве другого полюса, границ значимой ойкумены, пределов «нашего» мира в поговорках еще встречаются Орел, Новгород, Казань, Дон [115]115
См.: Даль В.Пословицы русского народа. М., 1957. С. 687–692.
[Закрыть]). Этот опасный, отталкивающий и влекущий мир увиден глазами деревенского человека или жителя малого города, позднее – первопоселенцем окраины, слобожанином, уроженцем барачно-коммунального пригорода с его характерными топосами: общей кухней и скамейкой у крыльца – для женщин, доминошным столом и голубятней на задворках – для мужчин, сараем и чердаком – для детей.
Как всегда при двоичном делении, существует и перевернутый вариант слухового мироустройства. Местом таинственных и сверх-ординарных происшествий в них может, напротив, выступать степь (Орда, в которой «бывал Иван»), лес, заброшенный в глуши дом (замок), затерянная деревня, но опять-таки в их противопоставленности большому городу. В таком случае слух рассказывается уже с городских позиций (выразительные примеры таких построений приводят в своей уже упоминавшейся книге В. Кампьон-Венсан и Ж.-Б. Ренар). Но так или иначе, слух противопоставляет закрытый мирок и открытый мир, направляя работу идентификации слушателя к тому или другому полюсу. Чем более закрыта привычная для слушающих среда, тем в большей степени жизнь в ней регулируется, с одной стороны, привычными и рутинными нормами, с другой – слухами. Закрытые учебные или военные заведения, узилища всякого рода – образцовые рассадники слухов.
В этом плане слухи можно представить – генетически – как своего рода стадиальную либо фазовую праформу общественного мнения [116]116
Молву и слухи представил мнением общества уже Тит Ливий, сблизивший оба латинских слова, употреблявшихся для характеристики этих устных феноменов, – famaи rumor.
[Закрыть], но как бы «застрявшую» в более закрытых отсеках и консервативных средах современного сложно устроенного социума. В частности, и даже преимущественно, это те уровни социальной структуры, где действуют обобщенно-анонимные силы унитарной власти и опеки «сверху» и переживает надежды и страхи зависимое, слабо дифференцированное и малокомпетентное сознание «снизу». Эти отсеки неопатримониализма в общественных системах, движущихся в сторону «современных» обществ, существующих в их окружении и облучении, отображаются в виде определенных, неотрадиционалистских феноменов массового сознания. Важно при этом, что распространяемые слухами мнения и оценки сами представляют собой, если говорить о современном положении дел, проекцию системы массовых коммуникаций данного общества. Они впрямую связаны с определенными ее уровнями (к примеру, сенсационной прессой и соответствующими телепередачами, их ведущими и проч.), как, впрочем, и сами эти уровни не только питают массовую «слуховую культуру», но и паразитируют на ней – обстоятельство, отмеченное в свое время Жванецким. Наряду с этим слухи выявляют системные дефициты массмедиа с точки зрения массового слушателя и зрителя, дополняя или компенсируя работу соответствующих институциональных каналов.
Вне этих рамок слухи и подобные им продукты работы массового сознания – в отличие от собственно общественного мнения – не откристаллизовываются в системе текстов письменной культуры, совокупности ее норм и жанров, не становятся самостоятельной социальной силой и не откладываются в структурах соответствующих институтов. Такова их принципиальная особенность: они воплощают «нижние» уровни недифференцированного массового сознания и общественного жизнеустройства, где практически кончаются различения, – это как бы «уровень моря», социологическая «почва». Здесь действует лишь определенная система аргументации – апелляция к нерасчлененному коллективному «мы», «все как один» или, в более идеологизированном виде, «народу», «нации». Слухи и близкие к ним феномены могут быть особой стадией или фазой формирования общественных настроений, продуктом – иногда побочным – возникновения каких-то социальных образований либо же их распада (в этих противоположных вариантах содержание, структуру и адресацию слухов можно было бы, вероятно, различать примерно так, как это делает К. Манхейм, типологически разводя в аналитических целях идеологию и утопию). В любом случае сфера действия слухов вполне ограниченна, как и их антиофициальная направленность, явно преувеличенная и идеологизированная (этот пафос антиофициальности определяет, в частности, важнейшие ценностные акценты в знаменитой книге Бахтина о народной культуре Средневековья и Возрождения). Напротив, в новейшее время в современном обществе они (сама стоящая за ними картина мира), как я хотел показать, глубочайшим образом связаны с официальной информацией и пропагандой, деятельностью средств массовой коммуникации. В периоды исторического застоя, которому обычно соответствует и жесткая изоляция страны от внешнего мира, власть, под предлогом централизации и укрепления, становится все более закрытой от большинства других социальных институтов и групп, почему и не просто благоприятствует расцвету слухов, очередному вспучиванию массово-популистских оценок, но и сама провоцирует их и пользуется ими.
В завершение – до будущих предметных разработок – замечу, что образ мира, от которого отправляются слухи и который они сами выстраивают, очень близок к миру анекдота – еще одной формы устно-слуховой коммуникации [117]117
См. специальный выпуск журнала: Public culture. 1997. № 9, а также: Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 327–346.
[Закрыть]. Некий «нулевой» уровень, барьер или граница разделяют и здесь и там два обобщенных, принципиально разнородных смысловых пространства. Прежде всего это пространство (или полюс) иерархии, где кумулируются культурные значения тех или иных достигнутых в этой иерархии мест, – скажем, начальник, интеллигент, герой, глава государства, и пространство (полюс) аскрипции,где собираются значения предписанных ролей и статусов (половых, возрастных, этнических). Другой осью смысловой организации слуха и анекдота выступает противопоставление прежнего (старого, принадлежащего прошлому и в этом смысле понятного, однозначного) и нынешнего (нового, непривычного, неопределенного по смыслу). Слух (как и анекдот) – своего рода смысловое уравнение, конструкция, как раз и осуществляющая перевод одних из перечисленных значений в другие. Причем перевод «снижающий» – переводящий «культурные» значения в «естественные» (кавычки обозначают здесь ценностный, оценочный характер соответствующих категорий для коммуникаторов и коммуникантов слуха и анекдота).
Плоскость или границу сопоставления (условного приравнивания и противоположения) образуют при этом значения «природного», «человеческой природы», лишенной всяких других признаков – как аскриптивных, так и достигаемых. В самом общем смысле она олицетворяется в слухах фигурой простака, человека как такового, Эвримена или Элкерлейка средневековых моралите (в анекдоте это будет фигура дурня или его этнонациональные варианты). Таким образом, по функции слух и анекдот представляют собой адаптивные культурные устройства, способы условной, символической адаптации чужого, нового, непохожего к своему, прежнему, привычному. Самое, пожалуй, существенное здесь в том, что в подобном сопоставлении отчасти переоцениваются в их взаимосоотнесенности обакомпонента смыслового уравнения: это культурное устройство мысленно дистанцирует слушателя от значений и того и другого уровня. Иными словами, оно, как уже говорилось, – рефлексивная конструкция, одна из начальных форм культурной рефлексии, игровая провокация смыслового выбора. Более заметно это на анекдоте: здесь, как представляется, «с нажимом» утрированы, юмористически окрашены, то есть – в демонстративно-условном порядке дистанцированы от участника оба компонента сопоставления. Если дело обстоит именно так, тогда социологически это значило бы, что анекдот представляет собой следующую «за» слухом, более позднюю фазу процесса историко-культурной рефлексии. А в предельно развернутом, обобщенном виде культургенетическая цепочка выглядела бы так: слух – быличка – анекдот – предание, легенда-«история», повествование – инсценировка, а далее – экранизация и т. п. (свое место в этой цепочке заняла бы в качестве завязки повествования или иллюстрации к нему и «картинка» – лубочная либо иная).
1990, 2000
Хартия книги: книга и архикнига в организации и динамике культуры [*]*
В основе статьи – сообщение на конференции «Книга в пространстве культуры» в Институте славяноведения РАН (1995 г.); опубликовано под названием «Книга и сверхкнига: О строении и динамике письменной культуры» Книга в пространстве культуры. М., 2000. C. 22–30. Для данного издания статья доработана.
[Закрыть]
1. Придание книге особой, предельно высокой значимости, как бы сакрализация ее образа и значений, сопровождает практически всю историю секулярной книжной культуры, больше того – является принципиальным компонентом конструкции этой культуры и даже ее движущим механизмом (идеальным пределом, а потому – динамическим началом). Меня сейчас будет интересовать прежде всего одна, но поворотная глава этой истории – говоря условно-хронологически, три четверти века, лежащие между циклом заметок Стефана Малларме «По поводу книги» (1895) и эссе Мориса Бланшо «В отсутствие книги» (или «Неосуществимость книги») из сборника «Бесконечное собеседование» (1969); в качестве своего рода промежуточной точки рассматривается эссе Борхеса «О культе книг» (1951). Речь пойдет о культурном переломе или сдвиге (у Бланшо и Борхеса он помечается и осознается как «конец»), осознание которого, среди прочего, выразилось, воплотилось в смене представлений о книге как ключевой метафоре культуры либо даже – по Борхесу – в изменении «интонации» при произнесении данной метафоры.
Смысловые вехи, значимые точки этого переворота для Бланшо – Новалис («роман – это жизнь, принявшая форму книги» [119]119
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 100.
[Закрыть]), Гегель, Малларме, коротко говоря, – вся траектория романтизма от его идейного начала до смыслового завершения, разложения, итога. У «классика» Борхеса условные временные границы шире: от «Одиссеи» через Августина, Бэкона и барокко до позднего парафраза той же «Одиссеи», джойсовского «Улисса» – от, так сказать, книги как primo motore культуры до книги как ее perpetuum mobile. На переломе или «в конце», естественно, становится видней та молчаливая система подразумеваемых представлений и допущений, которая была на протяжении столетий зашифрована метафорой книги, – приоткрываются границы, полюса и внутренние напряжения, ценностные коллизии этой системы. Исторические и социально-структурные стороны проблематики письменного и печатного в западном мире, разработанные, в частности, Гуди и Уоттом для традиционных обществ, Хэвлоком для античности, Эйзенстайн для Ренессанса, Бронсоном для Просвещения, Рис-меном для современной эпохи [120]120
См.: Goody J., Watt I.The consequences of literacy // Literacy in traditional societies. Cambridge, 1968. P. 27–68; Havelock E. A.The Muse learns to read. New Haven; L., 1986; Eisenstein E. L.The printing press as an agent of change. Vol. 1/2. Cambridge, 1982; Bronson H. B.Printing as an index of taste // Bronson H. B. Facets of the Enlightenment. Berkeley; Los Angeles, 1968. P. 326–365; Riesman D.The oral tradition, the written word and the screen image. Yellow Springs, 1956.
[Закрыть](перечень имен можно изменить или продолжить), я здесь вынужден опустить, попросту отсылая читателей к работам перечисленных специалистов [121]121
См. также статью «Книга и дом» в настоящем сборнике.
[Закрыть].
2. Что, собственно, несет в себе метафора книги? Что мы всегда уже знаем, подразумеваем, имеем в виду еще до того, как открыли вот эту книгу и вообще любую из книг? Самая обобщенная связь идей и значений, причем нередко несовместимых, невозможных, взаимоисключающих (эта полемическая и апорийная конструкция крайне важна!), – своего рода неписаная хартия или идеология книги, свернутая в ее символике, – вероятно, могла бы быть вкратце представлена так.
В книге не просто имеются начало и конец (хотя они – есть, причем вполне «материально» и недвусмысленно обозначенные, и это предельно существенно для автора-издателя-собирателя-читателя). Начало, конец и утверждены книгой в качестве основополагающих принципов организации и понимания некоей совокупности значений (понимай: значений как таковых, книга здесь – парадигма акта понимания) и – ею же, книгой, как способом организации и коммуникации культуры – поставлены под неизбежный и неразрешимый вопрос. Смысловое напряжение между этими полюсами определяет и смысловую структуру книги (как тома и как произведения), и процесс ее создания (письма), и динамику движения читателя в этой смысловой композиции, динамику ее воссоздания, понимания, переживания. Книга, о чем бы она ни была, – это поиск начала в свете (в перспективе) конца, конечности.
Наличие (и проблема) начала и конца предопределяет презумпцию наличия в книге смысла, опять-таки превращенного этим в проблему. Истолкование (герменевтика, включая позднейшую литературную критику как профессию) неразрывно связано с книгой и неисчерпаемо. Оно – проблема потому, что проблема – начало и конец, исток и цель (предел). Иначе говоря, истолкование (как и произведение, а значит, в этом смысле как и книга) безначально и бесконечно. Можно сказать, книга (Книга) всегда уже есть как возможность любой – другой или следующей – книги (образ условного, иными словами – невозможного, недоступного начала), но книги всегда еще или уже нет как книги всех книг (образ столь же фиктивного и столь же недостижимого конца); характерно, что эти начало и конец можно определить лишь подобным, негативным образом [122]122
Ср.: Languages of the unsayable: The play of negativity in literature and literary theory / Ed. by W. Iser and S. Budick. N.Y., 1989.
[Закрыть]. А потому всякая книга, еще в одном из своих полярных, предельных значений, есть цитата (что, в свою очередь, предопределяет возможность и значимость цитаты, ссылки, сноски в книжной культуре).
Смысл в книге организован как целое, замкнутое и выстроенное между началом и концом, а целое – как история (по Новалису, «история в свободной форме, как бы мифология истории» [123]123
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. С. 100.
[Закрыть]); имеется в виду история мира, человека, любого самодостаточного и смыслосоотнесенного, субъективно-значимого целого – рубанка или часов, любви или климата. Книга и есть история самодостаточности или, по крайней мере, сопровождает, повторяет, прослеживает эту историю – ход обретения, удержания, развития, разложения европейской идеи самости, субъективности [124]124
Если говорить о столь же обобщенном смысле (содержании) книги, то основные, опять-таки предварительно известные, аксиоматические его параметры (конституция), вероятно, таковы: эта книга написана как будто бы не про нас и не нами (как правило, в большинстве случаев она написана и не про пишущего эту книгу, и вообще не про пишущих, а про неписателей, про «делателей»); поэтому особую, отмеченную ее разновидность составляет книга о писателе, о пишущем книгу, вот эту книгу. Поэтому в книге будут действовать «он, она, они» (реже – «я»), практически никогда – «ты» (есть, например, экспериментальный роман Бютора «Изменение», именно так, во втором лице, написанный, но это опять-таки исключение, к тому же крайне редкое; между тем в лирике, особенно – новейшей, это явление довольно частое; вообще особый случай в этом отношении – драма, не важно сейчас – в книге или в постановке на сцене). Эпос (и роман), лирика, драма – конкурирующие образы субъективности и субъективных определений реальности, так же как автобиографическое измерение (самоизложение, «я»-рассказ, эго-роман, авторепрезентация) и объективное повествование («он/оно» рассказ) – принципиальные планы смысловой, ценностной репрезентации с отдельной проблематикой их социогенеза, форм, исторических границ и т. д.
Для описания действий в книге будет, как правило, применяться прошедшее время в совершенном залоге («встал, пошел, сделал»); на фоне этой нормы есть исключения, но опять-таки достаточно редкие (скажем, тот же роман Бютора написан в непосредственном – и продолжительном, всегдашнем – настоящем: «ты встаешь, идешь, делаешь»). Действие книги будет происходить не только не с тобой, но и не здесь, равно как и не сейчас – не в собственном времени читателя (третье лицо плюс прошедшее время, собственно говоря, это и означают). Но по ходу этого действия (или, если посмотреть с другой стороны, по ходу нашего чтения) мы окажемся там и тогда, где и когда это действие происходит; причем мы узнаем себя не только в самих участниках и действиях (и даже не столько в них), сколько еще и в нашей способности их понимать, т. е. узнаем себякак понимающих «другого» и во взаимодействии с ним. Книга (литература, fiction) и будет особым устройством, представляющим для нас другого, точнее, других в том разнообразии, которое задается встроенными в нее представлениями о человеке, обществе, времени, месте, истории, культуре и нашими желанием, навыками, способностями эти представления опознать и усвоить. Наша идентичность (самоидентификация) задана книгой, культурой книги не только (и даже не столько) в качестве делающих, как нормативная, ролевая, сколько (и со временем все больше) в качестве понимающих– как ценностная, субъективная.
[Закрыть]. Так что «книга жизни» (судьбы, мира и т. д.) – это автопредставление творящего и познающего (воспринимающего) субъекта в качестве самодовлеющего и самообъясняющего, в качестве смыслового «начала» (и конца) мира, образ (метафора) его автономной личности; идея и символ энциклопедии (как и любой другой «суммы») – секуляризованный и формализованный вариант этой базовой метафоры.
Целое книги рефлексивно, условно: иначе оно и не может быть целым, поскольку представляет собой, в полном смысле слова, рефлексию – «отражение» – самосознания, метафору его связности, последовательности, определенности. Целое при этом, во-первых, выступает синонимом (или, говоря по-другому, в форме) обозримости, очевидности, представленности значений, а потому – их постижимости. Вместе с тем, во-вторых, целое означает и гарантирует смыслосообразность сказанного, телеологичность общей смысловой конструкции мира и ее составных частей, в принципе – любой детали. Имеется в виду, что в книге всё значимо и нет ничего лишнего, случайного: книга важна не просто тем, что в ней есть смысл, но и тем, что это важный или даже самый важный смысл (а самое, вероятно, важное здесь то, что создана подобная предельная конструкция, способ организации «самого важного» в культуре). Это целое в его смыслосообразности и общезначимости подразумевает, фиксирует в качестве смысла, смыслодвижения, смыслособирания общую, априорную для данной культуры, но всякий раз определенную для данной конкретной ситуации структуру отношений, напряжений, конфликтов, замещений и вытеснений в поле «автор – мир – читатель» («я» и «другой»/«другие»), В таком случае – подведу промежуточный итог этой части рассуждений – целое книги, целое как книга и книга как целое есть метафора интегрированности универсального «я», трансцендентального принципа субъективности в синтезе с нормативной очевидностью соответствующих значений «другого», «окружающего», «мира».
Как истолкование (смысл) безначально и бесконечно (они, говоря иначе, всегда «уже есть»), так и целое не просто замкнуто и осмысленно, но всеобъемлюще. Книга – метафора не только целого, но и всего (отсюда параллельная проблематике первоначал проблематика первоэлементов – букв, звуков, знаков как неделимых единиц,атомов смысла, вместе с тем парадоксально, апорийно сохраняющих всеохватывающийхарактер, устраняя, упраздняя этим историю и язык-речь как движение, длительность, последовательность; деление целого на части, вычленение элементов, а затем их обобщение и формализация – стадии интеллектуальной обработки исходного чувственного материала, абстрагирования представлений, то есть процесса, этапы и операции которого здесь кодируются условными письменными, алфавитными знаками, обеспечивающими перевод/перенос смысла и его новое синтезирование в восприятии) [125]125
«Подобный том <…> гимн, гармония и блаженство, своего рода чистейшая, в каких-то ослепительных обстоятельствах возникшая взаимосвязь всего со всем» ( Mallarmé S.Igitur. Divagations. Un coup de dés. P., 1976. P. 267). Октавио Пас связывает подобные целостности с «аналогией» как ведущим принципом организации западной культуры (ее корневой метафорой), которой в европейской истории противостоит, по его терминологии, «ирония» (рефлексия); см.: Paz О.Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia. Barcelona, 1974. P. 87–112. Он резюмирует цивилизацию книги (и героико-утопическую попытку Малларме) следующими словами: «Книги не существует. Она никогда не была написана. Аналогия завершается молчанием» (р. 112).
[Закрыть].
Иными словами, книга и ее метонимические заместители, фрагменты (цитаты), символы (знак, буква) – это метафоры ценности (ценности книги как парадигматического образа смысла, субъективного смыслополагания – воли субъекта к смыслу, к его форме и пониманию – как самодостаточной ценности), поскольку ценность – и целостность – в пределе вмещают всё, вместе с тем исключая (опять-таки – всё) иное. Абсолют, точнее – проблема абсолюта, абсолют как проблема, включая «абсолютную книгу», – это достояние книжной культуры, культуры, устроенной как книга, по ее образу и образцу. (Так же как «неведомый шедевр», образ невозможного или разрушенного совершенства, перепутанной, распавшейся книги или библиотеки – противоположный полюс, обратная сторона мёбиусова пространства письменной, книжной культуры, в которой он противостоит символу «нерукотворной книги», несотворенного совершенства.) Ср., кроме того, сакральную в своих истоках символику «сокровенной» и «отреченной» книги в противоположность книге «явленной» и «истинной»: в последнем случае она явлена именно потому, что истинна (явленное, зримое в этих случаях, как в классической традиции европейской мысли, равнозначно существующему и сущему); в первом, напротив, она как раз в силу своей истинности скрыта, оклеветана или даже уничтожена (истинное здесь, как в герметических или гностических учениях, равнозначно тайному, а явное, общедоступное, напротив, неподлинно).
3. Письменность, а потом – печатность (книга) как раз и фиксируют, а потом ставят под вопрос, делают своей проблемой (содержанием написанного и принципом письма), разворачивают, рационализируют такое устройство смыслового мира, где содержательный, конкретный и ситуативный смысл отделен от самого направляющего принципа значимости (социолог сказал бы – нормы рефлексивно отделены от ценностей), соединяясь с ним свободными отношениями у-словности, у-словленности, то есть – договоренности, договора. Проблематичность нормативного, видимого и высвобождение ценностного, условного как раз и определяет для культуры, для группы первоначальных носителей ее идеи, смысла, «проекта», необходимость в таких особых знаках, которые ограничивали и закрепляли бы разные по своему типу значения (дифференциация типов значений – одна из сторон в процессе умножения авторитетных инстанций в обществе, символов в культуре, задающих и программирующих смысл), – потребность в своего рода видимых «местах памяти» (по Фрэнсис Йейтс), а затем и в чисто условных, формальных значках этих «мест», в письменности, письме.
Алфавит выступает одним из инструментов самоорганизации секуляризующейся культуры и эмансипирующегося индивидуального сознания. Алфавитная – то есть нетрадиционная, не связанная с ритуалом, не изобразительная и не иератическая по своему принципу – письменность формируется в качестве условного языка (точней – одного из языков), сопровождающего процесс индиви-дуации в европейской культуре, дифференциацию содержательного состава традиций, вычленение отдельного, специализированного уровня или плана организациизначений [126]126
См.: Зильберман Д. Б.Традиция как коммуникация: Трансляция ценностей, письменность // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 76–105. Д. Зильберман подчеркивает значимость ситуации столкновения культур для возникновения проблематики межкультурной коммуникации и необходимого для нее универсального, в пределе – формального, искусственного, языка (ср. символику «вавилонского столпотворения»).
[Закрыть]. Буква здесь фигурирует на правах чисто формального обозначения «места» в семантическом космосе, как бы кода вызывания – «позывных», «шифра» – тех или иных значений из «памяти» культуры, порядка их представления индивидуальному сознанию, их субъективного синтеза. Соответственно, далее в истории открывается формальная возможность аналитически разложить уже сами элементы изображения, а потом и элементы букв, с тем чтобы технически воспроизводить их в неограниченном количестве экземпляров с помощью печати, поздней – в качестве телевизионных сигналов, еще позднее – синтезировать на экране компьютера. (Аналогичный процесс аналитического разложения и формализации видимого, нормативно-представленного содержания параллельно переживает и изобразительная практика культурной репрезентации: ср. борьбу с непосредственной наглядностью в европейской живописи нового и новейшего времени, где разрабатывается математизированная перспектива, идет разложение цвета в импрессионизме и формы у кубистов, дифференциация, очищение, формализация линии и цвета в нефигуративном искусстве и т. д.) [127]127
Параллельно этому «иконоборческому» процессу дифференциации и формализации изобразительных начал в авангардной, а затем и массовой культуре XX в. регенерируются представления о «сакральной» или «магической» полноте и силе буквы, равно как и иероглифического изображения либо пиктограммы, реставрируется архаическая практика фигурных стихотворений и т. п.; ср. отсылку к индусской традиции поэмы из одной буквы у Октавио Паса (Пас О.Поэзия. Критика. Эротика. М., 1996. С. 128–129), роль иероглифов в поэтике Паунда, Мишо, опять-таки Паса (в его поэмах «Ренга» и «Пробел»), пасовские «топоэмы» и проч.
[Закрыть]