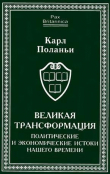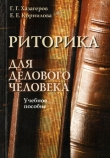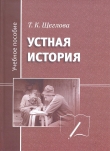Текст книги "Слово — письмо — литература"
Автор книги: Борис Дубин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
Для групп интересующего нас типа – социально-восходящих и, соответственно, в терминологии К. Манхейма, утопизирующих – подобной сферой высшего авторитета служит будущее, тогда как для иных – социально-нисходящих, идеологизирующих – это может быть прошлое. (Понятно, что речь идет не о месте на хронологической шкале, а о значениях, закрепленных за соответствующими метафорами.) Вместе с тем подчеркну, что будущее в фантастике представляет собой замкнутый, охватываемый взглядом и понятный «обычному человеку», «здравому смыслу» мир, в принципе не отличимый по модальности от прошлого, «уже ставшего». Перед нами, в любом случае, «музей остановленного времени», будь оно отнесено к условному прошлому, будущему или параллельным хронотопам. Поскольку же создаваемый фантастикой социальный мир, хотя бы в качестве фона или сценического задника действия, моделирует формы закрытого, традиционного или статусно-иерархического общества (именно они в первую очередь фантастикой и проблематизируются), то собственно культурными, экспрессивно-символическими, литературными или визуальными – в кино или живописи – средствами организации смыслового космоса выступают рудименты архетипической топики мифа и ритуала; функционально близкую к ним роль могут также играть биологические, генетические, евгенические и тому подобные метафоры.
Ощущение остановленного времени усугубляется в социальной фантастике самой формой рассказа. Время читателя и время описания синхронизированы в нем как «вечное настоящее», относительно которого внутрисюжетное время действующих лиц всегда остается в прошедшем. Показательно, что формы дневника, как и вообще субъективных типов повествования, фантастика практически не знает, за исключением определенного типа дистопий (в «Сталкере» Тарковского камера, упершаяся в затылок заглавному герою, с самого начала фиксирует его точку зрения, которую начинают затем деформировать пространственные перспективы – сверхкрупные планы – других действующих лиц, «течение» времени-воды и т. д.; в результате пространственно-временные координаты сбиваются, что находит потом кульминацию в мёбиусовой оптике «комнаты желаний» и финальной сцене с ее содрогающимся миром и месмерически движущимися предметами, – метафоры нарушения «естественных» законов тяжести, прямой перспективы и проч. проходят сквозь все фильмы Тарковского).
Метафорой границы между уравнительным и иерархическим измерением смыслового мира и знаком ее перехода, как и вообще метафорой соединения и взаимоперевода различных ценностных порядков, символизирующих их пространств и времен, выступает особый, необыкновенный, собственно фантастический предмет – эквивалент волшебного камня или ключа, кольца или книги. Чаще всего он так или иначе несет в себе семантику зрения как критерия реальности и как непосредственной, действенной силы, как бы служит воплощением «магического взгляда» (с чем связаны мотивы как вездесущести, так и невидимости): либо он – зрачок, глаз (зеркало, хрусталик, волшебный шарик), либо сам взор (чудесный – разрушительный или созидательный – луч) [63]63
См. об этом: Milner М.La fantasmagorie: Essai sur l’optique fantastique. P., 1982.
[Закрыть]. Для конституции социального мира в фантастическом романе важна еще одна смысловая линия (о ней еще пойдет речь в связи с замятинским романом): существование в социально закрытом обществе связывается здесь со значениями прозрачности, обозримости, открытости взгляду сверху; напротив, принципиальная незамкнутость, недовершенность, проблематичность социальных отношений, определений реальности и самого действующего субъекта кодируется символикой скрытости, потаенности, непрозрачности (ср. «гностическую гнусность» героя набоковского «Приглашения на казнь», 1936).
Олицетворяя будущее в настоящем, подобный смысловой ключ выступает символом той центральной ценности, которая прежде всего и обсуждается в социальной фантастике, – обобщенного значения власти, господства, одностороннего и неотвратимого воздействия. Предмет конкуренции, борьбы, достижения (а в научной фантастике именно он обычно и является предметом изобретения), этот ключевой символ или обобщенный медиум, эталон, мера выступает движущей силой сюжета, поскольку через семантику приближения к нему и овладения им, способы обращения с ним и т. п. можно воспроизвести образы всех социальных позиций и дистанций, развернуть портретную галерею или социальный театр любых значимых «других» в их соотносительной оцененности. Кроме того, владение этим колдовским средством позволяет при любых, самых необычайных изменениях удерживать либо возвращать идентичность обладателя или же, напротив, непредсказуемо изменять ее в «нормальных» условиях – мотив чудесного эликсира, средства вечной молодости и т. п. Соответственно, открывается широкий спектр литературных возможностей разворачивать, разыгрывать символику устойчивости, неизменности (от чудесного бессмертия до неослабевающей памяти) и множественной идентичности, индивидуальной эфемерности, неспособности сохранить тождество (от скоротечности существования до подвластности таинственному внушению извне, уязвимости для необъяснимых болезней, сверхъестественных страхов, непостижимых эпидемий зомбирования).
Самое существенное во всех перечисленных случаях – характер обсуждаемой идентичности. Важно, идет ли при этом речь о суверенном в мыслях и поступках индивиде (соответственно, с позитивной или негативной оценкой роли самого субъективного начала в социальном мироустройстве) или же о коллективностях того или иного объема и уровня (и, соответственно, об основаниях данной общности и характере подобных оснований; тут значим масштаб сообщества – от круга друзей или общины единоверцев до государства, тип объединяющих его связей, природа коллективных символов принадлежности и, напротив, «чужого» в их взаимозависимости и переходах). Чем в большей степени мир фантастического романа выстроен по одномерной иерархии власти и конституируется значениями предельно высокого, социетального уровня (Государство, «Мы», «избранная раса» и т. п.), тем с более вторичными, эпигонскими литературными образцами имеет здесь дело исследователь и читатель. И тем ощутимей в них будут мотивы непобедимого рока, неотвратимой судьбы, как бы они ни кодировались символически – от теодицеи до генетики (мир социальной фантастики по функциональному смыслу утопий как рационального устройства в мире силами самих людей предельно освобожден от власти запредельных сил, рока и случая). В подобных случаях перед нами литературные образцы, ориентированные на социализацию групп, которые только вступают в общественную жизнь, в культуру, в мир современной науки и техники, – младших по возрасту, периферийных по социальному положению, новичков на социальной сцене. Надо сказать, социальная и научная фантастика как разновидность жанровой или формульной словесности вообще адресуется именно к таким читательским слоям. На это указывают ее главные содержательные характеристики: исключительная сосредоточенность на проблематике господства, преобладание технических средств разрешения социальных и ценностных конфликтов, авторитарный характер основных героев, непременный позитивный финал, говорящий об опоре прежде всего на интегративные функции словесности. Значимыми исключениями (символической продукцией других по своим ориентирам групп) здесь выступают именно те образцы, где ставится под вопрос сама природа социальной и культурной реальности, а соответственно и средств ее литературного синтеза. Такова, например, эпистемологически-игровая фантастика (из авторов, условно современных Замятину, назову здесь, например, Кржижановского, поздней – Набокова), социально-философские дистопии и фантасмагории (Платонов, Лунц, Михаил Козырев, Булгаков – от повестей 1920-х гг. к «Мастеру и Маргарите»), антиутопии абсурдистской словесности (в данном случае своего рода утопии алитературы, антисл о ва у обэриутов). Место замятинского романа – в этом литературном контексте.
3
Исходя из сказанного, попытаюсь схематически обрисовать, как устроен мир замятинского романа. Соответственно, меня при этом будет интересовать метафорика идентичности повествователя (пространственная, временная, вещная и др.) и его определение реальности, причем в той мере, в какой они связаны, с одной стороны, с символикой зрения, а с другой – с мотивами словесного изложения, письма.
Повествование строится как дневниковый, перволичный отчет об индивидуальном, но вместе с тем общезначимом, образцовом опыте существования «вне культуры» – своего рода робинзонаде конца третьего тысячелетия. Подобная хронологическая дистанция фактически означает только одно: радикальный разрыв с любой опознаваемой реальностью, то есть – иную норму реальности. При этом авторский рассказ инспирирован с позиций верховной власти, общий приказ которой обращен без различия ко всем (ко всем как одному): «от имени Благодетеля <…> всем нумерам Единого Государства» [64]64
Замятин E.Указ. изд. С. 9 (далее роман цитируется по этому изданию, страницы указываются прямо в тексте).
[Закрыть]. Сразу отмечу мотив перенесения чужого, анонимного – неподписного – и всеобщего слова Государственной Газеты в, казалось бы, личный дневник: дело в том, что он – не личный ни по характеру письма, ни по его функции, и на это фундаментальное обстоятельство указывается с самого начала. Повествование, открывающееся и конституированное чужим (цитатным), всеобщим словом, обращено не к современникам и не к потомкам пишущего, а к его предкам – обитателям другой планеты, существам читающим, то есть – к «нам», людям «прошлого», чье существование этим актом чтения как будто бы приурочено к современникам автора.
Но время внутрироманного мира прекратилось, завершено. Именно поэтому Часовая скрижаль – расписание, предназначенное к беспрекословному исполнению, – вытесняет в романе собственно часы. Иначе говоря, установленный набор прямых, содержательных поведенческих инструкций заменяет здесь универсальную и формальную меру, в силу этого как раз и позволяющую условно сопоставлять, сравнивать, упорядочивать разнородные ценностные порядки многочисленных действий. В качестве такого же готового и неизменного целого должно воспринимать и сам адресованный нам романный текст. Соответственно, процессуальные, неповторяющиеся моменты описываемых действий и самой коммуникации, обозначающие направление времени, обращены в данном случае назад. Они направлены на переделывание «нашего» прошлого – то есть для нас актуального настоящего, но актом письма и чтения объявленного далеким прошлым. Тексту романа назначено быть в кибернетическом смысле «программой», цель которой – «подчинить неведомые существа <…> благодетельному игу разума» (с. 9), – тема, развитая позднее Оруэллом в работе его романного Министерства Правды. Причем этот «чужой» разум актом чтения «я-рассказа», работой его идентификационных систем вводится в наш, читательский. Бесконечно-зеркальная конструкция «одно как другое» и головокружительное устройство «одно в другом» – прием, разработанный А. Жидом и названный им «mise en abime», – несущие, определяющие узлы в постройке замятинского романа, который изобилует повторами и перекличками. Так же как сворачивание повествования в своего рода конверт, гармошку и последующее разворачивание этого складня или споры – простейшая единица повествовательного движения в «Мы»: среди прочего каждая глава романа предваряется ее смысловым «конспектом» в несколько, как правило, назывных, безглагольных, предложений.
По устройству повествовательное время у Замятина представляет собой «прошлое в будущем». Это указывает на абсолютную позицию тех сил, которые инициировали и конституируют высказывание, на единственность и всеобщность подобной инстанции господства, императивность прокламируемого образца и недостижимость его источника. В подобном качестве описываемая культурная конструкция является, можно сказать, формулой отечественной модернизации и уже описывалась нами ранее [65]65
См.: Гудков Л. Д., Дубин Б. В.Понятие литературы у Тынянова и идеология литературы в России // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 215–217. См. эту конструкцию в финале замятинской статьи «Я боюсь» (1921): «…боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое» ( Замятин Е.Указ. изд. С. 412).
[Закрыть]. Таким образом, в романном целом на правах одного из его пластов или уровней (в том числе – сюжетных) разыгрывается проблематика восприятия текста романа – разыгрывается открыто, фикционально и пародически.
В пространственном плане мир романа представлен как островок устроенности, отделенный стеной от хаоса и дикости («дикой свободы»). Поскольку роман фундирует проблему реальности, ее внутрироманным коррелятом (как бы «зеркалом») выступает двойственная антропологическая конструкция, в которой проблематизируется, подчеркивается и реализуется метафорика природы в ее соотнесенности с разумом, символика тела – в его сопряженности с духом. Пространственная замкнутость романного мира (или эквивалентная ей по смыслу панорама сверху – зрительная позиция, не раз воспроизводимая в поворотных точках романа и позднее использованная в антиутопии Хаксли, если это вообще не клише научной фантастики) символизирует его предельную упорядоченность, целостность и единообразие реальности, ее модельную самодостаточность и в этом смысле абсолютность, беспредикативность, уникальность. Огороженный извне («Стены – это основа… человеческого», – формулирует герой-рассказчик, с. 34), этот мир совершенно однороден, тавтологичен внутри. Он составлен из кристаллов, сложен во времени и в пространстве из одинаковых строительных единиц-кирпичей, которые можно поэтому просто нумеровать и считать как граммы: «Видишь себя частью огромного, мощного, единого» (с. 29), – отмечает повествователь, находя «неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности» (с. 31). Неразличение себя и других символизируется стеклянностью, прозрачностью романного мира – домашних стен, мебели: «Среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом» (с. 20) [66]66
Обилие стекол на острове Утопия отмечалось уже Мором, см.: Мор Т.Утопия. М., 1978. С. 180. Об этой метафоре в широком культурологическом контексте см.: Ямпольский М. Б.«Мифология» стекла в новоевропейской культуре // Советское искусствознание. М., 1988. С. 312–345; Он же.Наблюдатель. Очерки истории видения. М., 2000. С. 113–169.
[Закрыть]. Кульминация подобного состояния – День Единогласия, ритуал удостоверения личности всех и каждого как деталей Единого Государства, праздник «настежь раскрытых лиц» (с. 96). Символика прозрачного и бестенного, экспонируемая в романе как знак современности, символ будущего [67]67
О связи между культом зрения и сознанием современной («модерной») эпохи см.: Modernity and the hegemony of vision. Berkeley, 1993.
[Закрыть], уводит в глубь давней мыслительной традиции.
Ближайшая аналогия – хрустальный дворец из романа Чернышевского и пародий его критиков, скажем, Достоевского (в антиутопиях «Сон смешного человека», «Легенда о Великом Инквизиторе» и др.). Однако среди оппонентов Замятина и Достоевского есть еще одна символическая фигура – она зашифрована в разговоре Ивана Карамазова с русским чертом. Последний цитирует основополагающую формулу Декарта – символ самодостоверности мышления, опирающегося лишь на себя и гарантированного в своей истинности единым и высшим источником света [68]68
См.: Подорога В.Страсть к свету: Антропология совершенного (материалы к исследованию философии Р. Декарта) // Совершенный человек: Теология и философия образа. М., 1997. С. 111–145.
[Закрыть], кредо новоевропейского рационализма и позднейшего Просвещения (речь, понятно, идет только о знаках этой мыслительной традиции, причем в самых общих ее очертаниях). Философия Декарта складывается как познавательная утопия – построение умопостигаемой вселенной с начала и до конца исходя лишь из самого мышления, единым разумом, когда смысловой космос разворачивается из единой точки и без отсылок к чьему-то наследию. Такой «новый мир» предстает перед нами в декартовском «Трактате о свете», так развивается «Рассуждение о методе». Во второй книге «Рассуждения…» Декарт прибегает к характерной метафоре, своего рода утопическому клише, образу градостроения. Он сравнивает состояние философии со старыми городами, чьи улицы кривы, а дома несоразмерны, – городами, которые используют «старые стены, построенные для других целей» и обычно «скверно распланированы по сравнению с теми правильными площадями, которые инженер по своему усмотрению строит на равнине», что неудивительно, поскольку строй таких городов – «это скорее дело случая, чем сознательной воли людей, применяющих разум» [69]69
Декарт Р.Избранные произведения. М., 1950. С. 267.
[Закрыть].
Замятинские «прозрачность» и «ясность» (в романе не раз иронически обыгрывается автоматизм этой «ясности» – «у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову „ясно“», с. 18, – включая ее смысловую стертость до простого вводного речевого тика в Записи 6 и ее конспекте «Проклятое „ясно“») пародируют эту классическую концепцию познания, у истоков которой – «ясные и отчетливые идеи» Декарта, кладущиеся им в основу построения универсальной математической картины мира, вселенского геометрического атласа. Ясность, очевидность как истинность и общезначимость у Декарта имеют предпосылкой причастность к установлениям единого и всеобщего «мудрого законодателя», всеведению и всевидению которого открыт мир. Туманность же (образ, также проходящий через замятинский роман) проявляет свою природу небытия. Именно поэтому ясность мышления, делающая человека хозяином природы, принадлежит не самому мыслящему, а его «господину» и сохраняется независимо от того, явь ли видимое им или сон (проблематика, которой отведена вся IV часть «Рассуждения», где и сформулирован принцип cogito).
Можно сказать, что в основе романного мира замятинской дистопии лежит реализованная эпистемологическая метафора («естественный свет разума»). Ее овеществление обнажает социальные рамки подобных конструкций реальности – единую доминантную точку, задающую и удерживающую действительность в ее единообразном порядке. Эта точка олицетворена в фигуре Благодетеля со свитой «архангелов» (характерно, что господин положения остается до конца романа невидимым, лишь в финале представая сократовски лысым человеком с испариной на лбу). Он властвует над мыслью и словом (логократия), и его власть воплощается в структуре времени (хронократия), что символизирует контроль над основными ресурсами культуротворческих групп, способных к рефлексии, анализу и критике, внесению импульсов динамики. Различные сегменты романной реальности строятся по принципу метонимии. Замкнутая и однородная действительность передается в повествовании через ту или иную, но в принципе – любую «клеточку»: интерьер, портрет, речь и т. д.
С моноструктурностью этого кристаллического мира коррелирует его предельная обобщенность: он дан на «нижнем» пределе смыслоразличимости, минимуме содержательности, конкретности, – и это тоже относится к любому его сегменту, где часть равна целому. Быт здесь предельно рационализирован в технологическом отношении; столь же всеобща и ничейна речь, не окрашенная ни социальными диалектами, ни историческими стилями, – своего рода функциональная форма речи без передаваемого содержания (можно сказать, предвосхищение маклюэновского «средство и есть сообщение»). Возможно, это обстоятельство имел в виду Эйхенбаум, квалифицируя язык Замятина как чужой, почти английский [70]70
См.: Эйхенбаум Б.О литературе. М., 1987. С. 368. Специальный анализ стилистики романа, в которой соединяются элементы экспрессионистской и конструктивистской поэтики, показал бы высокую степень стертости его «алгебраического» языка в совокупности с подчеркнутой эмфатичностью письма; напротив, дистопии Хаксли или Оруэлла выстроены на совершенно определенных литературных традициях (прежде всего романа воспитания, сатирической просвещенческой прозы XVIII в.) и, соответственно, дают иные стилистические версии воображаемой реальности.
[Закрыть]. Если говорить о рационалистической традиции, то замятинский мир мог бы быть приписан одному из ее завершителей: перед нами как бы результат феноменологической редукции по Гуссерлю – действительность, очищенная от смысловых напластований и приведенная к «простой» очевидности (поиск такой минималистской словесной оптики активно велся в современной Замятину неорнаментальной русской прозе – Добычиным, внесказовым Зощенко и др.).
Понятно, что подобный мир – бессобытиен, а коррелятивное ему сознание не знает рефлексии. Как же возможно повествование о нем, и как оно строится Замятиным? Мысль и речь возникают в «зазоре» между полностью рационализированным мирозданием и столь же абсолютно запрограммированным, приравненным к механизму (снова декартовский образ!) субъектом. Сам субъект не имеет «предметного» содержания и характерно обозначен номером и повествовательным местоимением «я» – на него лишь указано, и это указание понятно только внутри романного мира, лишь окружающим героя (и нам, его читателям), которые в состоянии эти знаки с ним отождествить. Можно сказать, перед нами регулятивная форма, принцип субъективности. «Зазор», рождающий речь, появляется с восприятием «другого», то есть «иного» в содержательном плане, но «такого же» в плане иерархическом, по модусу бытия.
Показательно, что возлюбленная героя (со встречи с ней начинается распад его нормативной, официально-всеобщей идентичности) обозначается в романном мире буквой «I» («ай»): учитывая английские контексты творчества Замятина и читательского восприятия его романа, этот шифр может быть прочитан как местоимение первого лица – «я». Иными словами, образу партнера, «ты», задающему коммуникативную ситуацию, конституирующему порядок взаимодействия через барьер различий,дается имя «я», которое условно приравниваетего к говорящему, вводит презумпцию понимания, понимаемости (обмен перспективами – процедура, которая потом не раз повторяется в романе и, в известном смысле, составляет его «гносеологический» сюжет, или сюжетную формулу). Нарратив возникает и работает в смысловой разнородности мира, при многообразии инстанций, задающих разные содержательные перспективы, разные «языки». Для того чтобы повествовать, повествователю Нового времени необходимо выйти за пределы отношений господства – в открытое пространство полиглоссии.
Наррация как воплощение самосознания и выступает в замятинском романе процедурой «распрограммирования» героя [71]71
Rose М.Op. cit. Р. 167.
[Закрыть]– высвобождения его из-под контроля ничьего языка и вездесущего господства (позднее этим путем пойдет оруэлловский протагонист). Вспомним, что роман открывается цитатой из официального документа, развиваясь далее как последовательная субъективация определений реальности с характерными сбоями, заменами, обрывами. «Естественная» перспектива читателя, его оптика сдвинута уже в силу сверхпрозрачности повествовательного мира, его предельной насыщенности растворяющим предметные контуры, развеществляющим светом, отсутствия перегородок и ниш – реальность приобретает характер сновидения, причем атмосфера прерванного и возвращающегося сна (раскольниковской «сноболезни») постоянно нагнетается. Вместе с тем радикальная сближенность читательской точки зрения с точкой рассказа усиливает субъективную ощутимость мира, парадоксально соединяющую неотвратимость и нереальность: мир разворачивается как воплощенное сознание героя-рассказчика. Раздвоение субъекта, решившегося повествовать, поддерживая и развивая в коммуникативном акте ценностную разнородность, расколотость мира («Это я и одновременно – не я», с. 10; ср. здесь же предвосхищающую метафору зачатия, которая по мере приближения к финалу реализуется и на сюжетном уровне), в дальнейшем уже не оставляет рассказчика. Эллиптичность речи все время переламывает и «заворачивает» ее на героя и ситуацию: вместо опущенного «объективистского» глагола то и дело подставляется принцип субъективности, выраженный паузой, многоточием, тире.
Однако речевой эгоцентризм тут же – и демонстративно – разрывается присутствием предполагаемого адресата текста. Его фигура предвещает в этом смысле появление внутрироманных «других» с их символикой иных отношений, нерепрессивной социальности – прежде всего любви. Знаки этих иных миров, иных смысловых порядков сопровождают разворачивающуюся драматику самосознания и самоопределения героя: отсюда – тропика засоренного глаза, зеркал («Я – перед зеркалом. И в первый раз в жизни <…> вижу себя ясно, отчетливо, сознательно <…> как какого-то „его“», с. 45–46), следов чьего-тр присутствия, иной жизни, самодостаточного мира других «без меня» – раскачивающегося, только что тронутого чужой рукой ключа на брелке, привкуса, запаха как метонимических обозначений «другого» (напротив, в описаниях утопического мира подчеркиваются асептические, гигиенические, диетологические и т. п. значения, подавляющие и вытесняющие семантику социальной и культурной разнородности, «чужести»). Они символически закрепляют рождающиеся в сознании героя субъективные модусы реальности – горечь, тревогу, боль, надежду.
Предвосхищение адресата, создаваемого вместе с разворачиванием текста – и усваиваемого читателем как свое особое, фикциональное «я» вместе с восприятием романа – конкретизируется в рефлексивном чувстве себя, ставшего «непромокаемым для <…> потоков, лившихся из громкоговорителей» (с. 19, ср. ниже: «Я стал стеклянным», с. 44) и в предощущении другого: медовый вкус весенней цветочной пыльцы у себя на губах (с. 10, ср. позже осеннюю невидимую паутинку на лице, долетающую из-за стены, – с. 115) переносит к представлению о сладости губ встречных женщин – метонимическая тема, проходящая далее через весь роман. Только начавшись, повествование сразу же натыкается на непрозрачную область ускользающего, неоднозначного – двустороннего, но не поддающегося исчислению взаимодействия (постоянное нарушение Часовой Скрижали, встречи в запретном пространстве, мнимые свидания). «Странный раздражающий икс» (с. 12) в складе лица героини (возможно, связанный с самохарактеристикой карамазовского черта: «Я – икс в неопределенном уравнении») отсылает к воображаемому адресату повествования («не во мне икс <…> икс <…> в вас, неведомые мои читатели»; с. 23). Тем самым вновь проблематизируется процедура рассказывания, которая и разворачивается в этой осцилляции между «хозяином речи», самосознающим повествователем, героями и адресатом изложения.
Параллельно с разрушением норм реальности в сознании рассказчика,что мотивировано сюжетом, конкурирующими ценностями и смысловыми порядками, которые олицетворены в фигурах героев, идет развоплощение действительности в акте наррации, письменного изложения– ощущение себя и других как будто очутившимися «на плоскости бумаги, в двухмерном мире» (с. 46; противопоставление, борьба, переплетение метафор математики и письма в романе – еще одна символическая транскрипция его базового сюжета: за первым стоит невидимый Благодетель, за вторым – столь же невидимый читатель). Растущее чувство причастности к другому, запретному миру, символизируемое болезнью, как «прозрачность» приравнивалась к здоровью (гамлето-карамазовский мотив, если раскрывать имена, упоминаемые самим рассказчиком), резюмируется в пробе конца – временной смерти, после которой рассказчик уже не знает, «что сон – что явь» (с. 71).
Через тему двухмерности, отсылающую к недостающим координатам, рассказчик приходит к пониманию чужих смысловых миров и иных, не расчетно-технологических типов рациональности. Он ищет «соответствующих тел» для «иррациональных формул», воображая, что для них, невидимых здесь, «есть <…> целый огромный мир там, за поверхностью» (с. 71–72). Сознание иной реальности сопровождается все более острым чувством фиктивности, поддельности эмпирии, навязывающей герою свои, даже и жанровые, рамки. Постоянно подчеркивается схематизм, условность повествования, бессилие речи перед происходящим с протагонистом, – оно не укладывается в номенклатуру готовых и равно непригодных форм: «…вместо стройной и строго математической поэмы в честь Единого Государства у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман» (с. 72). Известное рассказчику «сомнение в том, что он – реальность, трехмерная, – а не какая-либо иная – реальность» (с. 83) переносится на других героев, понимаемых как производное от нарративного акта, акта письма: «…сами вы все – мои тени. Разве я не населил вами эти страницы?» (там же). По мере приближения к концу романа метафоры письма, печати все чаще переплетаются в рассказе с описанием героев и окружающего их мира (описание homo sapiens в категориях грамматики – знаков препинания – введено уже на середине романа, в записи 21, с. 82). Романная реальность как бы вторично текстуализируется: уличная толпа сопоставляется с черными буквами, расскакавшимися по «этой странице» (с. 138), в портрете жильца напротив морщины на лбу уподобляются желтым неразборчивым строкам (и «эти желтые строки – обо мне», с. 140), люди сыплются по лестнице, как «клочья разорванного, извихренного ветром письма» (с. 145).
Однако попытки рассказчика найти себя в реальности иных, невластных отношений (они вводят тему «семьи» – сначала неудачный треугольник с круглоротой подругой и негрогубым поэтом, затем – мечту о матери) обнаруживают ту же внутреннюю установку на господство/подчинение и в самом герое, и в других. Разрыв этого замкнутого круга связан с выходом за пределы заданного мира (ребенок героя, который родится за стеной; текст романа, предназначенный для иных пространств и времен), который для героя невозможен: он несет структуру этого мира в себе. Пробы иного существования пресекаются темой потаенного предательства, провокации, поджидающей повествователя и среди защитников Единого Государства (он ощущает себя их агентом среди бунтовщиков), и между их противниками (которые просто используют его в своих целях как строителя «Интеграла»). Возникает тема изначальной вины героя, его заблаговременной готовности к сдаче и жертве («право – понести кару», с. 80). Характерно, что предательство символически связывается с письмом, самим текстом романа.
Отношение к другому как средству, нарушение его суверенности автономного субъекта (принципа кантовской этики, который тоже присутствует среди внутрироманных цитат) исчерпывает и сюжет, и сам акт наррации. Нарастающая тема смерти усиливается мотивом снов как предвестий иного мира. Решение избавиться от фантазии после диалога с Благодетелем, который воспроизводит ход беседы Христа с Инквизитором о счастье и отказе от свободы, осознается героем как самоубийство. Причем гибель видится условием воскресения: «Только убитое может воскреснуть» (с. 150), – фраза, пародически отсылающая к стиху о зерне из Евангелия от Иоанна, взятому в качестве эпиграфа к «Братьям Карамазовым». Это завершает как полемику героя с христианством (гностикоеретический мотив Новой Церкви), так и линию Достоевского в романе, отсылки к которому вводят в повествование всю сумму идейных коннотаций, сложившихся в отечественной культуре. Последние колебания героя между сознанием конечности мира и гамлетовским вопросом «Что там – дальше?» разрешаются «экстирпированием» фантазии (ее ампутируемый бугорок можно сопоставить с «шишковидной железой», связующей, по Декарту, душу с телом), присутствием при пытке героини и равнодушным принятием известия об ожидающей ее смертной казни. Прежний мир возвращается на свои места: воздвигают, пока еще временную, Стену, а герой после смерти своего «я» («I») вновь приходит к авторитарной речи – унанимистскому местоимению, озаглавливающему роман («мы победим», с. 154), и официальному воззванию о победной миссии разума, с которого начиналось повествование. Тем не менее круг разорван, и коммуникативный акт состоялся. Мы читаем дошедшие до нас записки, – повествовательный ход, по-своему реализованный поздней в булгаковском романе (он тоже символически организован вокруг проблем надвременной коммуникации, «текста времени», но здесь судьба и оправдание героя – писателя и свидетеля – вместе со всем окружающим миром предопределены потаенным «прошлым», которое в точности угадано – и этим увековечено – несвоевременной фантазией протагониста).