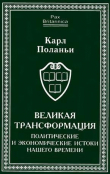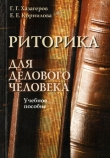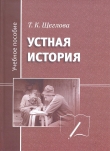Текст книги "Слово — письмо — литература"
Автор книги: Борис Дубин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Новая русская речь [*]*
Рецензия была опубликована в: Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 410–414.
[Закрыть]
«Материалы к общественно-политическому словарю русского языка», составленные сотрудником Отдела восточноевропейских исследований Бременского университета Гасаном Гусейновым [210]210
Gussejnow G.Materialen zu einem russischen gesellschafts-politischen wörterbuch. 1992–1993: Einführung und Texte. Bremen, 1994. 292 s.
[Закрыть], заметно расширяют образующийся в последние годы круг лексикографических изданий отечественных и зарубежных русистов, которые посвящены лексике перестройки (И. Зенцов, Д. Одресси, В. Максимов), современной политической метафоре в России (А. Баранов и Ю. Караулов), жаргону хиппи и молодежному сленгу (А. Файн и В. Лурье, Ф. Рожанский и др.), блатной фене и лагерному языку (Вл. Быков, Ж. Росси и др.), ненормативной лексике (В. Елистратов) и другим переходным феноменам и новообразованиям русской речи, проявившимся, узаконенным или наново переистолкованным публично в конце 1980-х – начале 1990-х гг. В качестве источника Г. Гусейнов опирается на старую и новую прессу эпохи – печать разной идейной направленности, адресации, тиража: от газеты объявлений «Все для вас» до гуманитарных журналов «Здесь и теперь», «Вопросы философии» и «Социологические исследования», от московских изданий до парижской «Мулеты» и иерусалимского «Время и мы» (печать Петербурга, других крупных городов и регионов в круг источников не вошла). 116 словарных гнезд в алфавитном порядке вводят в исследовательский обиход и кодифицируют толкование нескольких сотен новых словесных реалий; самая поздняя по времени среди них – «октябрьские события 1993 года». Книга снабжена указателями использованных печатных источников, трактуемых предметов и упоминаемых имен (лидеры популярности – Ельцин и Жириновский).
Черпая словарный материал и текстовые иллюстрации, среди прочего, в изданиях для специалистов (литературоведческих, культурфилософских, политологических и т. п.), составитель ограничивается в них пластом «общей» лексики социальных коммуникаций, а его – по особенностям недавней фазы социокультурного развития и доминировавших в этот период инициативных групп – образует лексика идейно ангажированная, даже поляризованная, публицистически-суггестивная. Понятно, что иррадиция этой максимально заряженной зоны языка захватывает куда более широкие его слои (сами названия газет, журналов, передач, собственные имена и производные от них и т. д. становятся компонентами подобного нарицательного словаря времени). В этом смысле политические («демократия», «либерализм»), экономические («ваучер») и другие элементы специальных терминологических лексиконов в данном словаре – это далеко отошедшие значения или даже омонимы тех же словесных единиц в словарях, скажем, деловой или политической лексики, в изобилии лежащих сегодня на городских книжных прилавках; замечу, что издание многочисленных специализированных словарей и справочников, пособий по разным «языкам» – от естественных до компьютерных, равно как массовый спрос на них, – одна из характерных черт последнего времени, сегодняшней урбанизирующейся, наверстывающей образовательные пробелы цивилизации, снова приоткрывающейся «большому» миру.
В развернутом Введении (оно датировано февралем – мартом 1993 г. и опубликовано на немецком языке, материалы же словаря – по-русски с немецкими эквивалентами заглавных слов, выверенными Хартмуте Треппер) Г. Гусейнов дает обобщенную характеристику нынешнего этапа в движении русского языка. Он связывает его с одним из не раз возникавших в истории страны критических моментов (Петровская эпоха, Октябрьская революция), всегда сопровождавшихся масштабными языковыми сдвигами и, далее, попытками нормативно упорядочить их средствами государственной власти или хотя бы обозначить их сверху, задав образец либо перехватив инициативу («горбачевизмы» и др. в Словаре и отведенная им главка в составительном предисловии; из неотмеченных неологизмов М. Горбачева я бы указал на «реальности» во множественном числе). В самом общем плане первый год постсоветской жизни языка описывается как «торжество ненормативности»; само в высшей степени идеологически нагруженное понятие «нормы» и производные от него внимательно обследуются в Предисловии (тонкие соображения на этот счет были, добавлю, высказаны на международной конференции «Россия между Востоком и Западом» в Ливорно в октябре 1992 г. французским историком и социологом А. Береловичем [211]211
Berelowitch A.L’Occidente о l’utopia di un mondo normale // Europa, Europea. 1993. № 1. P. 31–43.
[Закрыть]). Ненормативность же связывается с вторжением «освобожденных от идеологического надзора элементов западного политического языка» и «освобожденного от цензуры и государственного ханжества <…> собственно русского теневого словаря», «встречей „иностранщины“ и „блатной музыки“». К первым, «вестернизаторским» элементам добавляются – как в электронной почте – все более ощутимые в языке печати, уличной рекламы, граффити и т. д. вкрапления иноязычных (и транслитерированных русских) слов на латинице, включая опять-таки символические и «культовые» имена собственные. Основу вторых образуют прежде всего матерная речь и подпитывающие ее маргинальные лексические пласты. Две эти «волны» – вполне в духе «традиционалистской модернизации» в России и СССР – дополняются очередным «возвращением» к прошлому, идеологическими «архаизмами» типа «смуты» либо стилизации под исконность и старину (неологизмы А. Солженицына, понемногу внедряемое через массмедиа «господа» и т. д.). Пестрое соседство разнородных по происхождению и окраске элементов хорошо передают несколько наудачу выбранных страниц Словаря, скажем, на букву «с», где рядом оказались «СКВ» и «скоммуниздить», «соборность» и «совок».
Кроме обсценных «нововведений» и переозначенных, переосмысленных элементов из обихода привычных для Запада социальных и политических реалий, пока что ведущих в отечественном контексте существование фантомное и «неуправляемое» (еще один тонко найденный составителем неологизм), ядро Словаря составляет сравнительно небольшая группа слов, с помощью которых пресса пытается как-то обозначить характер, строение и состояние нынешнего российского сообщества. Реестр позитивных или хотя бы нейтральных обозначений небогат. Это «ближнее» и «дальнее зарубежье», поколенческие характеристики («шестидесятники» и др.), «казачество», «нация» (и «этнос»), «интеллигенция» (самая развернутая из словарных статей). Несколько, хотя и ненамного, шире лексикон отрицательных определений, включая снижающие самоназвания, диффаматорские образы «чужака» и «врага»: «совка» я уже упоминал, добавлю «людей кавказской национальности» («чеченцы» в Словарь не попали), «красно-коричневых», «мафию», «лобби», а из характеристик состояния, оценок взаимодействия людей и групп – конечно же, «катастрофу», «беспредел», «разборку» (естественно – «крутую»). Из метафор общества в Словаре практически присутствуют лишь «органические», «генетические», они же, как правило, преобладают и во все более рутинном, бедном и затертом языке ангажированной печати последних лет.
Замечу, однако, что пресса (тем более – идеологически возбужденная, «партийная») – после газетно-журнального бума 1988–1990 гг. в крупных городах и его спада уже с 1991 г. – сегодня лишь одна и не самая популярная из коммуникативных систем, действующих в нынешнем российском обществе. Поданным общероссийских и локальных опросов, регулярно ведущихся Всероссийским центром изучения общественного мнения с 1988 г., роль «всеобщей» коммуникативной системы сегодня играет телевидение, а среди его передач – наряду с новостями – телесериалы, эстрада, шоу и лотереи, криминальная хроника, встречи с известными людьми в прямом эфире, передачи о доме, семье, повседневности (в мире печати же набирают популярность такие издания, как «СПИД-Инфо», «Совершенно секретно», «Сплетни», «Женские дела», рывком вышла вперед местная и региональная пресса с ее собственными горизонтами событий, новостями и объявлениями). Мощнейшим образом на формирование актуального слоя языковых реалий воздействует в последний год реклама; можно сказать, что ее лексика, имажинарий и герои становятся теперь – особенно для молодежи, женщин, в том числе матерей, – таким же доминантным кодом общения, каким были для масс в предыдущие периоды языки радио, кино, массовой песни, байки и анекдота, позже – политической мобилизации (более глубокие слои языковой культуры, исторической памяти еще и сегодня формируются школой.). В условиях кризиса и распада традиционной интеллигенции, при ослаблении столь же традиционного государственно-властного контроля над коммуникативными каналами, сегодня стоило бы говорить об экспансии массмедиа в начавшее формироваться поле публичности в российском обществе, прослеживая далее воздействие симболариев и лексиконов разных групп коммуникаторов на складывающийся межгрупповой язык. При этом внутрикружковые, локальные языковые компетенции, как правило, не отмечены знаками надгрупповой авторитетности, символически, кроме как идеологической маркировкой, не обеспечены, не признаны публично, а то и попросту вытеснены из сферы самопредъявления и коммуникации с другими. Это, в частности, закрепляет у ряда социальных групп и культурных общностей, но уже на бытовом уровне, чувство изолированности, знакомую по прежним временам ситуацию двоемыслия и двуязычия (среди многих дефицит символов и средств общения ощущают на себе самые молодые и, напротив, пожилые россияне). Поэтому круг источников в будущем, в последующих за рецензируемым словарях желательно было бы в эту сторону по возможности расширить.
При завтрашней коллективной и междисциплинарной работе (а данный Словарь, как и большинство упомянутых в начале, – плод большого и скрупулезного труда одного автора) можно было бы, вероятно, использовать и более строгие методики отбора, описания и исследования материала (частотные словари, техники кон-тент-анализа и т. п.). Имело бы, вероятно, смысл и отграничить друг от друга разные по функциональному смыслу уровни языка («ваше» и «дольчики» – от «Евразии» и «централизма»), отчленить сменяющие друг друга хронологические слои речевых новообразований («хрущобы» и, скажем, отсутствующее в Словаре «духовный» – от «апофегея» и «стеба»), выделить в них ядерные (общие, долговременные) и периферийные (окказиональные, локальные, наподобие «сына юриста» и «вианов») элементы. Тогда, может быть, стало бы видней, что значительная, если не преобладающая по «весу» часть неологизмов введена в язык, по крайней мере, на групповом уровне, в предыдущую эпоху – несколькими предшествующими поколениями (шестидесятников, олдовых хиппи), в рамках более масштабных и долговременных процессов, чем измеряемые одним-двумя годами. Встал бы, соответственно, вопрос о языковой и культурной системе в целом, возможностях, направлениях и формах ее динамики, исторических агентах и т. д. Но, сколь бы далеко от сегодняшнего момента ни ушли специалисты по этим проблемам в будущем, отправной точкой для их работы, думаю, останутся все же кропотливые труды и пионерские обобщения собирателей нынешнего дня, ощутимый вклад в которые вносят скромно поименованные «Материалами» разыскания Гасана Гусейнова [212]212
Позднее эта работа была продолжена автором; см.: Гусейнов Г.«Карта нашей родины»: Идеологема между словом и телом. Helsinki, 2000.
[Закрыть].
1995
Интеллигенция и профессионализация [*]*
Статья была опубликована в: Свободная мысль. 1995. № 10. С. 41–49.
[Закрыть]
Об идеологеме «интеллигенция» и ее месте в самосознании образованных слоев – в ходе их внутреннего сплочения, самоутверждения и демонстрации своих символов других группам и инстанциям советского общества – за последние годы писали не раз. В данном случае речь пойдет о более узком предмете – социальном и профессиональном статусе, оценках ситуации и видах на будущее группы россиян с высшим образованием, относящих себя к «специалистам» (но не занимающих властных позиций, не принадлежащих к «руководителям», – именно такие классификационные признаки используются в эмпирических опросах ВЦИОМ, данные которых за 1994–1995 гг. положены в основу статьи).
В принципе современное состояние этой группы и его динамику можно прослеживать по нескольким проблемным осям:
– распад идейного кодекса образованных слоев (расхождение ценностей, ориентаций и самооценок у групп, различающихся по возрасту, профессии, сфере занятости и т. п.);
– социальный подъем и понижение различных подгрупп внутри слоя;
– прожективные оценки и репродуктивные установки в системе групповых ориентаций – образы будущего (своего и своей семьи), представления о желаемом статусе, планы относительно типа и уровня образования детей, их будущей профессии;
– престиж интеллектуальных профессий, ценностей и символов интеллигенции в других группах общества.
Но главное, что будет занимать нас сейчас, – это готовность интеллигенции к социальной и профессиональной мобильности, ее способность найти свое место в ходе идущих перемен, затрагивающих сложившуюся прежде систему стратификации, совокупность устоявшихся представлений об обществе и его институтах, о человеке, его мотивах и возможностях.
Естественно, «внешние» императивы профессионализации, сам ее ход и неизбежно связанная с этим «внутренняя» переоценка себя и других сталкиваются в образованных слоях с несколькими комплексами обстоятельств. Прежде всего это ценностно-нормативный, идеологический кодекс самой интеллигенции. Далее, это представления о ценности знания, образования, профессии вообще и интеллектуальных профессий в частности у других социальных групп. А тем самым, наконец, – вся структура общества и его институтов, которая сложилась к середине 1980-х, но до известной степени продолжает сохраняться и поныне.
Самопонимание интеллигенции в его идеологически нагруженных, оформленных и демонстрируемых аспектах, как оно сформировалось и функционировало на определенном историческом отрезке времени (примерно с конца 1950-х до начала 1970-х), отчетливо противостояло нескольким иным ценностным сферам. Иначе говоря, как система оно было полемически адресовано нескольким значимым инстанциям – обобщенным персонажам и социальным группам, – было ценностно заострено против них, снижая или отрицая значимость их символов, образов жизни, представлений о реальности.
Во-первых, в кодексе интеллигенции подчеркивалась малосущественность всего связанного с императивами профессиональной специализации (при настойчивом педалировании «человеческих», морально окрашенных качеств «честности», «порядочности» и при столь же диффузном, в принципе не рационализируемом и также демонстративном пиетете перед «знанием» как персональной «мудростью»).
Во-вторых, диффамации подвергались ценности социального продвижения: понятия «карьера», «успех», «доход» и т. д. были в интеллигентском кругу если не бранными, то по меньшей мере неприличными и могли относиться только к «чужим». Изъятое из этого ряда понятий демонстративное требование самореализации зачастую превращалось для образованных слоев в орудие чисто идеологической самозащиты – и по законам «двойного сознания» сосуществовало с максимой «не высовываться», требованием (даже со стороны наиболее рафинированных кругов) быть «как все», по известному выражению Бориса Пастернака, с напором повторенному позднее Лидией Гинзбург и поставленному под сомнение Сергеем Довлатовым (сравните резко критическую оценку подобного «стремления к заурядности» у Варлама Шаламова, на собственном опыте увидевшего, чего она может стоить обществу и человеку).
В-третьих, из числа положительных ценностей исключались политическое действие, практическая политика (постановка целей, учет интересов, воля к осуществлению и неизбежные компромиссы реализации) при одновременном демонстрировании идеологической ангажированности в противопоставлении себя власти и в кулуарном обсуждении ее очередных предприятий и анекдотических провалов.
И, наконец, ценностно незначимым и даже отрицательно окрашенным считалось все связанное с повседневностью и современностью: текущим проблемам и навыкам их рационализации, рутинной деятельности первичных институтов (родства, семьи, соседского сообщества) и задачам их осмысления, оцивилизовывания, необходимости ежедневного результата и практического расчета противопоставлялся – опять же в актах демонстрации и самодемонстрации, в самой «легенде» интеллигенции – радикализм «вечных» или «проклятых» вопросов, идеологическая сосредоточенность на идеализированном прошлом или утопические проекты перестройки столь же идеализируемого будущего.
Параллельно с кристаллизацией интеллигентского самосознания в 1960–1970-е разворачивались более масштабные процессы урбанистической, технологической, образовательной, масскоммуникативной «революций». Помимо всего прочего, они привели к значительным переменам в типах расселения и жилья, в технической оснащенности быта и обихода, в массовых оценках иерархии профессий и престижа образования, в представлениях о досуге и желаемом образе жизни. В ходе этих процессов – и став их «незапланированным» следствием – началось снижение престижа интеллигенции как образованного слоя рядовых специалистов и служащих. Это и понятно. Разрыв образовательных уровней населения (и значимость этого разрыва для разных групп) при переходе ко всеобщему образованию, оттеснении (или добровольном отходе) интеллигенции от большинства значимых каналов социального продвижения и ведущих позиций в социальной структуре год от года сокращался. Критический потенциал интеллигенции тоже снижался, претензии на независимость мысли оказывались социально не подкрепленными, падал авторитет группы как моральной инстанции (парализация правозащитного движения, высылка и эмиграция наиболее крупных и активных фигур, разрастание двоемыслия и цинизма в обществе).
Показательно, что с начала 1980-х притягательность вузовского образования, на протяжении всех послевоенных лет неуклонно возраставшая, начинает заметно падать. Если в 1950–1951 гг. на десять тысяч жителей России приходилось 77 студентов, а с 1978 по 1982-й, в годы пика привлекательности высшей школы, – 219, то в 1990–1991 гг. их стало уже 190, а к 1994-му – 171 (критическими для обучавшихся на дневных отделениях стали 1987–1989 гг.). Этот процесс затронул вузы практически любого отраслевого профиля, за исключением кинематографии и просвещения (но и в издавна престижных киновузах в эти же годы начинает уменьшаться конкурс при поступлении, а в педагогических вузах отток абитуриентов сдвигается на начало 1990-х). Соответственно, с 1984–1985 гг. ежегодно сокращается и выпуск в вузах различного профиля и типа обучения; тенденция к некоторому росту выпуска специалистов промышленности и строительства, сельского хозяйства и просвещения дневными отделениями вузов России снова наметилась лишь в 1992-м.
Не менее важным для статуса и судеб интеллигенции стало и другое. Значительное усложнение структуры – фактическая реструктурация – советского общества в 1960–1970-х, усиленное дефицитностью основных рынков символических благ, развитием статусного перераспределения, умножением уровней официального и закулисного взаимодействия, влияния, авторитета, парадного и повседневного существования, привело к серьезным напряжениям между различными системами ценностей в обществе, между параметрами самооценки и соотнесения себя с другими у большинства социальных групп.
В силу описанных социальных обстоятельств и особенностей своего идеологического самоопределения интеллектуальные слои фактически не смогли взять на себя задачу сопоставления, опосредования и интеграции различных ценностных порядков, принятых и фигурирующих в обществе, на разных его уровнях, в различных секторах и зонах, в разных группах и поколениях. Между тем и в истории, и в «миссионерской легенде» интеллигенции эта опосредующая, интегративная и обобщающая, универсализирующая функция неизменно занимала одно из самых почетных мест. Без ее реализации невозможно воспроизводство общества, несущих конструкций его ценностно-нормативной системы, а кризис институтов формального образования, равно как и деформация функциональной структуры любого репродуктивного института – семьи – становятся практически неизбежными.
Нельзя, конечно, сказать, чтобы макросоциальные процессы 1960–1970-х проходили мимо интеллигенции. Однако в соответствии с основными параметрами ее идеологии они осознавались изнутри и предъявлялись вовне в виде оппозиций: физиков/лириков, города/деревни, России/Запада и т. п. В большой, если вообще не в подавляющей мере подобные противопоставления и дискуссии вокруг них были слабо рефлектируемой реакцией на собственные тревоги и страхи интеллигенции, связанные с импульсами структурного усложнения общества, идущими, несмотря ни на что, процессами дивергенции, расхождения, полемики внутри самих образованных слоев (их скрывали, чтобы не нарушать единства, обращенного против внешних сил). Отсюда идеологические тени «интеллигентов» и «мещан» (позднее – «дельцов»), «интеллигенции» и «образованщины» в домашних спорах, ангажированной прозе и публицистике.
Все это повлекло за собой резкое рассогласование, а затем и распад различных смысловых порядков культуры, соответствующих фокусов социальной ориентации, уровней и осей достижения и признания, продвижение по которым воплощается в системе социальной стратификации любого конкретного общества с его иерархией приоритетов, ценностей и позиций – таких, как образование, квалификация, информированность, доход, статус (престиж), образ жизни и его цивилизованность (социальность) и, наконец, власть (различных уровней и типов).
Фактически единственным началом, как-то объединявшим позднесоветское общество, упорядочивавшим социальную жизнь в целом и открывавшим возможности социального продвижения (вместе с тем жестко контролируя их не только в идеологическом, но и в кадровом плане), становилась в этих условиях иерархическая власть (как официальная, так и неофициальная – телефонная, теневая и т. п.), пронизывавшая деятельность основных подсистем общества – экономической, политической и др. Степень зависимости от нее (во-первых), объем предоставляемых ею – как объявленных, так и скрытых – возможностей (во-вторых) при наличии все-таки известного запаса не контролируемых властью ресурсов выживания, повседневной жизни (в-третьих) задавали и регулировали основные формы социального взаимодействия в советскую и раннюю постсоветскую эпоху, порождая весьма громоздкое и во многом неявное, но подразумеваемое участниками и известное им, привычное и даже до какой-то степени удобное устройство социального целого.
Характерно, что ведущие позиции на иерархической лестнице общественного положения еще и в 1990-е отдаются респондентами, по опросам ВЦИОМ (1991, 1993), представителям номенклатурной власти – партийной и административной (секретарь обкома, министр). Приближавшийся к ним в 1991-м профессор университета через два года уступил место еще двум представителям управленческого слоя – директору коммерческого банка и руководителю государственного предприятия, сам спустившись по престижности к уровням продавца и начинающего кооператора. Врач, инженер, учитель котируются сегодня ниже, чем владелец магазина, и их статус продолжает снижаться.
И действительно, максимум позиционных преимуществ в сравнении с предыдущим поколением россиян (поколением родителей тех, кто находится сегодня в поре социальной и профессиональной зрелости) из всех социально-демографических групп извлекла только одна, и это именно руководители. Они, согласно их собственным оценкам, заметно выше своих родителей по статусу, образованию, положению в обществе, доходам, образу жизни и досуга и т. д. По майским данным 1995-го, 48 % руководителей (вдвое больше, чем специалистов, и втрое больше среднего показателя по стране) бывали за рубежом.
По данным опроса ВЦИОМ в июне 1994-го, 46 % россиян видят залог жизненного успеха в обладании властью, 30 % – в богатстве и лишь 8 % – в образовании. При этом ниже других возможности образования как социального капитала оценивают именно специалисты, а относительно высок его престиж в этой связи лишь у учащейся молодежи: она ставит образование в шкале факторов успеха даже выше власти (хотя и ниже богатства).
Интеллигенция в последние десятилетия оказалась в фокусе нескольких разнонаправленных тенденций и процессов. С одной (и наиболее чувствительной для нее) стороны, интеллигенция постепенно утрачивала свое образовательное превосходство, социальную привлекательность, моральную авторитетность для других групп. Но с другой – она все эти годы выступала и для менее образованных и квалифицированных слоев, и для высших рангов новой бюрократии в качестве группы, весьма престижной в чисто культурном плане – как носитель образцов цивилизованного поведения в публичных местах, в быту и семье, отношения к работе и отдыху, художественной культуре (книгам, театру, кино). Образованные группы диффузно воздействовали на более широкие слои общества, выступая для его немодернизированного большинства общецивилизующим началом – трансформируя поведенческие коды и их иерархию, образ жизни и домашней обстановки, представления о привлекательности профессий и т. п.
Так, трактовка понятия «положение в обществе» для широких категорий урбанизируемого населения, насколько можно судить по косвенным признакам, именно под влиянием образованных слоев стала связываться не с успехом, призванием, доходом, влиянием, а с «культурностью, образованностью» в специфическом смысле общей воспитанности, противопоставленном и «грязной» физической работе, и «грубой» жизни дома, в семье.
Сам этот непредусмотренный эффект «просвещения» в явном виде, кажется, не понят ни слоями-рецепторами, ни самими донаторами. Он оказался для интеллигенции неожиданным и при всей его социальной и культурной важности ею не опознан и в качестве собственной заслуги не признан (хотя сегодня мог бы стать основой для более спокойной, не миссионерской самооценки образованных слоев, для нормального, неидеологизированного взаимодействия их с другими группами).
Можно сказать, что завышенная оценка интеллигенцией собственной критической и реформаторской функции (своей идеологической «легенды») вкупе со скрытым сознанием своей социальной нереализованности, да еще при негативной оценке со стороны и власти, и массы, заслонила от образованных слоев их реальную цивилизаторскую роль.
Спад политической мобилизации вокруг интеллигентских лозунгов и символов к началу 90-х и разворачивание экономических реформ с 1992-го обнажили и обострили эту ситуацию исчерпанности конструктивных возможностей интеллигенции, ее растущей социальной изоляции, эрозии самой роли прежних интеллектуальных слоев в нынешнем обществе.
По данным июньского опроса 1994-го, 28 % специалистов отнесли себя к бедным, малообеспеченным людям и 65 % – к людям среднего достатка. Причем 20 %, по их собственной оценке, все же сумели повысить к моменту опроса свой уровень жизни (67 % этого сделать не удалось). Естественно, более четырех пятых этой группы (82 %) проявляли недовольство материальным положением своей семьи. Однако при этом три пятых специалистов были удовлетворены своей работой, столько же – положением в обществе, половина – образованием и практически столько же – своей жизнью в целом. Иначе говоря, требования к работе, уровень образования и статусная самооценка (с одной стороны) и социальное признание этой квалификации в виде уровня доходов (с другой) в сознании респондентов как будто не связаны.
Точно так же как и успех, по оценкам специалистов не зависящий от них самих, уровень социального признания и гратификации (вознаграждения) тоже как бы не определяется их собственными усилиями и для большинства этой группы вообще не выступает ни мотивом, ни результатом их профессиональной деятельности. И если важность профессии, дела и денег, обеспеченной жизни признают в этой группе едва ли не все (84 % людей с высшим образованием и 87 % – специалистов), то ценность успеха – лишь чуть больше половины (54 % и 55 % соответственно; практически столько же среди и тех, и других представителей наиболее квалифицированных из россиян предпочли бы доходы невысокие, только бы гарантированные).
Большая часть опрошенных специалистов (40 %) не согласна с тем, что сейчас есть хорошие возможности проявить инициативу в работе (38 % – согласны, остальные воздержались от ответа). И если четверть опрошенных признает, что для успехав жизни им не хватает именно «инициативы, активности», то главную причину собственного неуспеханаибольшая доля респондентов (37 %) предпочитает видеть в недостатке у себя «нахальства и ловкости», как бы снимая этой отрицательной оценкой ценность достижения и признания как таковых (еще 15 % признали, что вообще не стремятся к успеху в жизни).
Характерно предпочтение типов труда более подготовленными группами населения. Если бы смогли выбирать, предпочли бы (май 1995-го, в процентах к соответствующей группе):

Уровень обеспокоенности своей социальной и профессиональной применимостью у специалистов весьма высок. Две трети специалистов (65 % по данным январского опроса 1995-го) считают вполне вероятной потерю работы такими людьми, как они, при переходе к рынку.
При этом желание открыть собственное дело выражено у специалистов достаточно низко, на том же уровне, как и у неквалифицированных рабочих: 26 % первых и 24 % вторых хотели бы это сделать, но 56 % тех и других – не хотели бы. Столь же пессимистичны и прожективные оценки (ответы на вопрос, способна ли открыть свое дело сегодняшняя молодежь): точки зрения, что среди молодых на это сегодня способны многие, придерживаются лишь 27 % специалистов (среди самой учащейся молодежи – 38 %).
Понятно поэтому крайне негативное отношение специалистов к тем, Кто сумел за последнее время увеличить свои доходы, к преуспевающим предпринимателям. Такое личное качество, как «настойчивость, предприимчивость», в списке необходимых свойств бизнесменов специалисты в июне 1994-го (в отличие, например, от учащейся молодежи и руководителей) поставили лишь на третье место (21 %) после «денег» (их отметили 33 %) и «связей, знакомств» (28 %).
Отвечая на вопрос, у кого в последнее время были более благоприятные условия для увеличения заработков, специалисты в полном согласии с большинством остальных групп общества выделили прежде всего (данные январского мониторинга 1995-го) «жуликов» (мнение 61 % специалистов), а уже затем – «новых предпринимателей, банкиров» (57 %), «руководителей государственных предприятий» (41 %), «чиновников госаппарата» (34 %) и «уличных торговцев» (30 %).
Но исходно-негативная оценка новых, фактически впервые приоткрывшихся сфер возможной самореализации не ограничивается сегодня у более образованных и квалифицированных слоев общества только экономикой. Не менее отрицательно относятся специалисты и к профессиональным политикам, опять-таки в большой мере примыкая здесь к остальным группам населения. Для большинства политиков, по данным июльского опроса 1995-го, характерны стремление к власти любыми средствами, включая грязные (мнение 39 %), неуважение к рядовым гражданам (34 %), пренебрежение к законам (31 %), корыстолюбие и непрофессионализм (по 26 %). Причем специалисты чаще других групп выделяют среди этих качеств именно корыстолюбие.