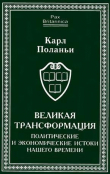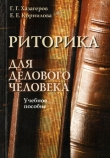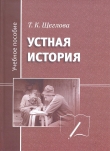Текст книги "Слово — письмо — литература"
Автор книги: Борис Дубин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
История как привычное наваждение: очерк популярной историософии
Для сознания, которое питает российские историко-патриотические романы и к которому они, в свою очередь, обращаются, история в мифологизированной форме повторяет структуру основного и привычного конфликта идентификации – неспособности стать хозяином собственной жизни. Поэтому историей здесь признается лишь то, что соединено с символами непрерывности, неизменности существования. А это возможно только для надындивидуального целого (истории повседневности и индивида, кулинарии или сексуального поведения для такого сознания не существует). Соответственно, история как вечность – это то, что вечно повторяется и что в этом повторении только и узнается. «История» в описываемых романах – это то, во что мы «попали» и попадаем «всегда»: в России всегда непорядок и фаворитизм, всегда воруют, всегда бездорожье и проч. Повторение удостоверяет значительность случившегося, и наоборот: случившееся не только повторяется, потому что важно, – оно важно, потому что повторяется. Ни драматическая семантика изменчивости и непредсказуемости общего миропорядка, ни напряженное сознание личного участия в происходящем, а потому индивидуальной ответственности за каждый свой шаг (именно они легли в основу «открытия истории» для европейских интеллектуалов XIX в., для тогдашних литературы и искусства, для нарождающейся исторической науки), в наших условиях с понятием истории не связываются.
Можно сказать, что повторение – это своеобразное символическое устройство (шифр, ключ), которое включает индивида в особое действие, общее по характеру и интегрирующее по смыслу и эффекту. Если говорить об историческом романе или о вполне соотносимом с ним в этом костюмно-историческом фильме либо рекламе, построенной на национально-исторической, как правило – имперской, символике (нынешняя историко-патриотическая романистика – один из придатков к системе массовых коммуникаций, она живет взаимодействием с другими масскоммуникативными каналами и обращается к потребителю этих каналов, активному телезрителю, читателю «желтой» и патриотической прессы и т. п.), то чем более знакомо показанное на экране или описанное в романе, тем выше его символический, можно сказать – ритуальный, смысл. И, как ни парадоксально это звучит для квалифицированного, изощренного ценителя и знатока культуры, тем эмоциональнее переживание подобного акта и факта повторения в его тождестве себе, в его тавтологичности. Эмоциональнее именно потому, что символичнее: таков, например, аффективный механизм сплачивающего и мобилизующего воздействия парада на участников и зрителей, таково действие маршевой музыки военных оркестров (а во многом и просто массовой песни, особенно когда исполнители – «все»).
Отрицательный модус приведенных выше высказываний о русской сути (разлад, беспорядок и проч.) тоже не случаен, он опять-таки воспроизводит, еще раз символически дублирует исходный, позднее мифологизированный конфликт внутренней несостоятельности. Максимально значимые смысловые точки, которые связываются и обозначаются в данных примерах метафорой или мифологемой пути (особого, русского), – будь это состояния предельной униженности, с одной стороны, или предельной, невозможной высоты, с другой, – вероятно, только и могут быть обозначены для данного сознания таким негативным способом, с помощью «фигур умолчания», знаков отсутствия, в модусе утраты того, что было, либо томления по тому, чего еще нет, а чаще того и другого вместе. Эта семантическая композиция, собственно, и составляет конструкцию ностальгии [266]266
См. об этой категории: Starobinski J.The idea of nostalgia // Diogenes. 1966. №. 54. P. 81–103; Davis F.Yearning for yesterday: A sociology of nostalgia. N.Y., 1979.
[Закрыть].
Можно сказать, история, точнее – представление о прошлом в данном и других, похожих на него случаях, приобретает структуру медицинского «симптома». К «истории» относится здесь именно то, что не прожито как опыт и не разрешено как проблема, а потому постоянно повторяется. Подобная «история» есть миф вечного возвращения. В высокозначимое и утраченное «прошлое», «историю», «славные традиции» при этом всегда попадает то и только то, что повторяется. Иными словами, то, что совпадает с конструкцией основного, неразрешимого в каком бы то ни было практическом плане и потому мифологического конфликта: неполноправности, неспособности сделать выбор, стать собой и раз навсегда извлечь урок из сделанного, причем сделанного тобою лично (а не просто случившегося с тобой, свалившегося на тебя).
В таком случае «путь» и есть функциональная конструкция истории как повторения, истории как мифологии, – конструкция постоянного переноса, бесконечной отсрочки. В этом смысле подобный «путь» всегда открыт. Он, можно сказать, вечен, поскольку представляет собой ностальгическую проекцию того же искомого целого, только развернутую во внеэмпирическом, над-временном и внепространственном плане – своего рода априорную «пустую форму» (как бы вакуум, засасывающий любые определения). Поскольку внятный, артикулированный уровень предельных ценностей и идеальных значений в русской, советской, теперь и современной российской, постсоветской культуре отсутствует, а сколько-нибудь содержательного, осмысленного отношения к конечности человеческого существования, к смерти в ней нет, то подобная сверхзначимая конструкция, видимо, занимает место или симулирует функцию запредельного как обобщенного значимого партнера, как принципиального «другого» (в социологическом смысле – как основы развитой социальности) [267]267
Можно сказать иначе: это протез отсутствующего запредельного, а значит, и предела – в чем бы то ни было. Что такое протезы отечественного производства и стоящая за ними антропология, мы знаем. Ср. в лекции Мераба Мамардашвили 1986 г.: «…для человека, который готов вечно страдать, не существует реальности смерти <…> культуру, в которой мы живем, трудно назвать <…> историческим образованием, поскольку она полна несвершившимися событиями, в ней не происходила последовательность свершений, мы вечно решаем одну и ту же проблему <…> Значит, мы все еще не родились, раз не решены проблемы, которые давно уже должны были быть решены и из них должен был быть извлечен смысл <…> Это и значит, что у нас нет исторической мощи стать, сбыться, выполнить что-то до конца» (Мамардашвили М.Эстетика мышления. М., 2000. С. 47–48).
[Закрыть].
Поэтика банальности
В приводившихся выше цитатах характерны частые эпитеты «всякий», «каждый», «любой». Кроме них в популярных исторических романах чрезвычайно распространено местоимение «все», сочетание «все люди» и т. п. И это не случайность, не неряшливость автора: подобная номинативная фигура относится к числу постоянных приемов историко-патриотического романиста. В контексте сказанного выше о повторении подобные мыслительные и речевые особенности, как и другие словесные «тики», клише, навязчивые мысли, «слова-паразиты», весьма интересны для аналитика.
Дело не просто в том, что рассматриваемые здесь романисты машинально заимствуют или беззастенчиво крадут этот словесный ход у Л. Толстого (а вернее, у писателей советской эпохи, уже когда-то заимствовавших их у Толстого, – скажем, Фадеева или Л. Леонова, Шолохова или Симонова), – обсуждение литературного эпигонства в терминах заимствования бессмысленно и бесперспективно, в описываемых здесь рамках, собственно говоря, нет автора как индивидуального лица, отвечающего репутацией за свое словесное поведение, свои «поступки». Речь о другом. С помощью подобного приема историко-патриотический романист вменяет «доисторическим» родоплеменным сущностям (племени, земле, народу) универсальные нормы поведения человека эпохи Просвещения – здравый смысл, разумную природу и проч. Он как бы дотягивает, надставляет своих персонажей до идеальной нормы того, что сам – человек, хочешь не хочешь живущий сегодня, – считает «человеческим». Я бы назвал это моралистическим компонентом романного письма данной разновидности и видел в нем элементарное символическое выражение ценности современного (зачаток или рудимент возможного универсализма).
При этом верхний предел обобщенной реалистичности изображенного в романе автору и его читателю часто задает, как в данном случае, знакомая им обоим по средней школе поэтика эпигонов высокой классики (не случайно «великая русская литература» выступала у опрошенных ВЦИОМ россиян одним из символов той великой России, которой они «гордятся» и которую «потеряли»: эта литература как своеобразный оптический прибор выступает теперь и ценностной мерой истории в ее ретроспективной реальности [268]268
О воздействии формирующейся литературы (и исторического романа) на картину мира в трудах современных ей историков см., например: Neff E.The poetry of history: The contribution of literature and literary scholarship to the writing of history since Voltaire. N. Y.; L., 1947; Реизов Б. Г.Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958. В 1960–1970-е гг. это стало теоретико-методологической проблемой для Р. Барта, Ф. Кермоуда, М. де Серто и др.
[Закрыть]). Но это могут быть и вкрапления фольклорного, былинного, песенного, расцвеченного стиля уже в современной, «выразительной» функции. Обычно он применяется для описания черт народа или природы: «Велика земля Российская, а людом небогатая: едет ли смерд, либо гридин скачет, все больше починки встречает…» (Тумасов Б. Княжеству Московскому великим быть. М., 1998. С. 5) или «В мае-травне в бело-розовое кипение оделись сады ордынской столицы» (Там же. С. 454) [269]269
На данном материале можно говорить о нескольких функциональных разновидностях «русского стиля» – улично-просторечном (обычно мужском), домашне-чувствительном (женском или в разговоре с женой), сказово-былинном, державно-озабоченном (властном) и проч.
[Закрыть].
Впрочем, гораздо чаще уровень общего в его высоком, героико-эпическом или сентиментально-лирическом модусе идеальной нормы поведения, чувств, мотивов действия и т. п. задается в романе интересующего нас типа куда менее почтенными образцами. Это может быть, например, игриво-чувствительная интонация почти анонимной женской прозы из советских женских журналов «Работница» и «Крестьянка» (даже если образ женщины приписан здесь мужскому взгляду): «Все, что ни совершает в жизни мужчина, он совершает ради одной-единственной женщины <…> И если у мужчины нет любимой женщины, все его победы и достижения меркнут. Даже богатство, даже власть <…> Ах, Анастасия! Что же нам с тобой делать?» (Зима В. С. 67) или «Зихно окинул ласковым взглядом ее стройную, чуть располневшую фигуру…» (Зорин Э. С. 121) [270]270
У Фаины Гримберг эти интонации связаны с поэтикой переводного лавбургера, которую она вносит в историческое повествование об императрице Елизавете: «…нежная девичья головка в белом, украшенном алмазами уборе» (Гримберг Ф.Гром победы. М., 1996. С. 14); «Ее смущала эта настойчивость его взгляда» (Там же. С. 39) и т. п.
[Закрыть]. До столь же знакомых нот, но теперь уже в тональности державной озабоченности, может поднять героя (и стилевой регистр повествования) язык газетной передовицы, лексика телевизионных новостей: «Работа над новым договором потребует намного больше времени…» (Серба А. Быть Руси под княгиней-христиан-кой. М., 1998. С. 9), «Игоря (имеется в виду князь Игорь. – Б.Д.) не устраивал ни один из этих вариантов…» (Там же. С. 16) или «Шел тревожный декабрь 6679 года» (Зорин Э. С. 19). Но в этой же функции общего и высокого могут выступать и штампы путеводителя или рекламы: «…хотя назывался халиф багдадским, с 836 по 892 гг. (так в тексте романа! – Б.Д.) двор халифа помещался не в Багдаде, а в Самарре <…> Этот город протянулся на 33 версты по берегу Тигра. Там были аллеи и каналы, мечети и дворцы из кирпича, площади и улицы. Все новое, с иголочки, дорогое и добротное…» (Зима В. С. 130). Знакомые клише высокого и отдаленного, экзотического и красивого – причем именно в их ощутимой шаблонности, «суконности» – выполняют здесь еще и аллегорическую функцию. Они как бы переводят прошлое на язык настоящего. А это обеспечивает читателю необходимый смысловой перенос, работу обобщающих механизмов идентификации.
Напротив, нижний предел «похожести», «жизненности» людей прошлых эпох представлен языковыми эквивалентами того минимального социально предписанного разнообразия, которое представлено в типажах романов и о котором шла речь выше. Неотрадиционализм присутствует в романе не просто как идеологическая максима (в языке автора), но как черта характера, свойство человека – в самой структуре персонажа. Функцию разнообразия могут выполнять, скажем, имена-клички персонажей (вроде какого-нибудь Житоблуда у Э. Зорина). Их, например, несет просторечие – все эти «кажись», «едрен корень» и проч., либо локализмы, отысканные в словаре Даля, его же «Пословицах русского народа» и других подручных пособиях.
Но самое важное здесь – дистанциямежду этими языковыми регистрами повествования, между разными уровнями социальной характеризации его героев, которые кодируются подобными стилевыми пометами. Разрывы между разными социальными планами характеризации (различия статусно-ролевых потенциалов героев) порождают и поддерживают повествовательное напряжение, предопределяют конфликты, управляющие движением сюжета, вводят в него внезапные, как бы «немотивированные» изменения («переломы судьбы»). Стилевые перепады, со своей стороны, задают известное разнообразие портретных характеристик. Все это в переплетении, столкновении, контрапункте обеспечивает автору и его читателям узнаваемость, жизнеподобие описанного, «реализм» романов данного историко-патриотического типа.
Механизмы идеологического шлюза: случай историко-патриотического романа
Неотрадиционализм представляет собой стратегию символической консолидации общества в условиях, которые опознаются массовым мнением, профессиональными идеологами, значительной частью средств массовой коммуникации в терминах изоляции от внешнего мира и внутреннего разложения, распада или их воображаемой угрозы. В собственно культурном плане это стратегия упрощения, которая задает редуцированную картину социальной реальности. Ее осуществляют группы идеологических эпигонов, теряющих контроль над ситуацией и мобилизующих в своей публичной риторике идеи и символы вчерашних авторитетов (временной барьер в данном случае указывает на периферийное положение данных рутинизаторских групп и соответствующее снижение, адаптацию заимствованных образцов как условие их отсроченной реализации). Историко-патриотический роман – лишь частный случай подобной стратегии; рабочей задачей исследователя-эмпирика было бы рассмотреть, как такая консолидация с большинством осуществляется, например, на различных каналах телевидения, и проследить траектории соответствующих изменений в изобразительном и словесном материале, подборе ведущих, жанровой стилистике передач, риторике дикторов и комментаторов. Покажем в самом типовом виде, как коммуникация, построенная на неотрадиционалистских стереотипах, осуществляется языковыми и стилистическими средствами массово-патриотической романистики.
Заказчики, авторы, издатели этой формульной словесности представляют собой запоздалых волонтербв идеологического призыва – арьергардные фракции советской и наследующей ей постсоветской интеллигенции. Беря в работу и без того отработанные до стадии щебня, потерявшие смысловую остроту давнишние идеологемы, все эти символы утраченных целостностей, следы призрачных страхов, симптомы фантомных болей, они еще более упрощают заимствованное эпигонскими способами обработки подобных слежалостей символико-семантического материала. Вот как, например, описывает свой метод такой историко-патриотический романист-рутинизатор (сравни его стратегию с тыняновскими представлениями, что бумаги врут как люди и что он начинает там, где кончается документ): «Автор исторического романа берет на себя труд изучить славянские летописи и заметки зарубежных хронистов, труды современных археологов и историков, затем облечь достоверные исторические факты в литературные образы и предложить вниманию ученых. Лишь после того, как роман выдержит скрупулезную экспертизу профессиональных историков, можно предлагать его широкому кругу читателей, головой ручаясь за историческую достоверность» (Зима В. С. 6).
В соответствии с подобными представлениями он строит образ своего предполагаемого читателя. Это, по характеристике автора, «настоящий патриот», неспособный преодолеть «языковой барьер» (Зима В. С. 6). Но при этом недоучка поднят автором до «мировых проблем», о чем свидетельствуют вопросы, которыми он по воле автора задается: «Под влиянием каких причин совершается внутреннее развитие человеческих скоплений, именуемых государствами?.. Почему во главе всемирного процесса в разные эпохи оказываются разные народы? И есть ли во всех исторических событиях хоть какая-нибудь последовательность и закономерность?» (Там же. С. 120–121) [271]271
«Всякому мыслящему человеку… необходимо иметь целостную картину мира», – развивает свое кредо такой автор ( Зима В.С. 201).
[Закрыть]. Автор тут, можно сказать, слегка опускается до своего читателя, как бы наклоняется к нему с неким учебником («учебником жизни»). Тот, со своей стороны, как будто встает из-за парты. И вот они почти одного роста. Так действует механика идеологического шлюзования.
Коммуникатор включает в подобную работу такие символические формы и их радикалы, которые отсылают к самым широким антропоморфным целостностям. Вместе с тем он своим рутинизаторским письмом доводит традиционные, предписанные социальные отношения до степени значимых, наделенных семантикой, «человеческих» качеств: пользуясь не раз использованными раньше ходами мысли и речи (в чем для эпигона состоит их добавочное достоинство), он делает их знаками идеальной социальности, со-циабельности, взаимности, как в цитате из Э. Зорина с «ласковым взглядом» героя, которым он окидывает «стройную, чуть располневшую фигуру». Эта формула взаимности и обратимости перспектив героев кодирует в данном и всех подобных случаях взаимность и обратимость перспектив имплицитного автора и его внутритекстового адресата. Читателя учат читать (как зрителя ТВ – видеть, как слушателя эстрадной попсы – слышать) простейшие, сведенные до родо-племенных, семейно-родовых, половозрастных отношений знаки «первичного другого». А он эти знаки – в их совокупности «верхнего» и «нижнего» регистров, проанализированных выше, – берет уже в качестве воображаемых обобщенных рамок собственной оценки окружающего, ценностно-нормативных кодов собственного правильного поведения. Поведения властителя и слуги, юноши, мужчины и женщины.
Дело не в том, что подобные романисты-эпигоны, как сказал бы литературный критик, «не умеют писать» или «не обладают вкусом», когда пишут что-нибудь вроде: «– Как для чего, – оторопел Игорь» (Серба В. С. 226; о князе Игоре), «Решительный вид девушки охладил богомаза» (Зорин Э. С. 74) или «Ему светила возможность отличиться…» (Усов В. С. 10; о Малюте Скуратове). Конечно, сама их позиция – эпигонская претензия на наследие реализма русской классики – пародична. Конечно, при подобном следовании традициям жена – всегда хлопочущая, ключница – ворчливая, колени преклоняют – благоговейно, потупляются – скромно, вздыхают – горестно. «Анастасия кокетливо улыбнулась», «щурясь под жаркими лучами восходящего солнца», «ласково провел сильной рукой по нежной коже живота», «хруст морозного снега под копытами» (Зима В. С. 51, 75, 88, Патакой семантический шлак из наших образцов можно отгружать тоннами. Но не о том сейчас речь. Перед нами случаи, когда важна не столько форма, сколько функция, а она (опять-таки символическая консолидация) явно есть. Поэтому дело здесь как раз в том, что читатели-эпигоны встречают, к примеру, в одном из романов: «Княгиня с нежностью смотрела вслед сыну, украдкой смахивая с ресниц слезинки» (Мосияш С. Ханский ярлык. М., 1998. С. 14), «– Не надо, Миша, не надо, – уговаривала его Анна Дмитриевна» (Там же. С. 435; речь о великом князе Михаиле Ярославиче Тверском и его жене) после слов: «И этого засранца я когда-то на кукорках таскал» (Там же. С. 41) или «Выезжал на ночь, чтоб не так соромно было пред мизинными» (Там же. С. 161), либо, наконец: «Страна в разоре великом…» (Там же. С. 425) – и узнают в этом важную для них «жизненность».
И когда после уже цитировавшихся слов о скрупулезном авторском изучении «славянских летописей» и «зарубежных хронистов», «современных археологов и историков», о придирчивой экспертизе написанного романа «профессиональными историками» описанный типовой читатель буквально на следующей странице видит: «Патриарх недовольно засопел» (Зима В. С. 7), а еще страницей ниже: «..промямлил великий логофет» (С. 8), – он понимает: ошибки нет. Он нашел своего автора.
Ноябрь 2000
Сюжет поражения [*]*
Заметки были опубликованы в: Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 120–130, где завершали дискуссию по теме «Социология литературного успеха» (отсылки к статьям других участников обсуждения см. в тексте).
[Закрыть]
1
Для социолога категория успеха фиксирует особое, сверхнормативное достижение в той или иной общественно значимой сфере. Понятно, что это достижение должно быть некоторым, достаточно общепринятым и широко понятным способом признано теми или иными авторитетными в данном социуме инстанциями, группами, репрезентативными фигурами, санкционировано ими и символически (в смысле – условно) вознаграждено как генерализованный, достойный общего внимания и подражания образец. Но не всегда столь же понятно другое: мотивация к тому, чтобы такого, более высокого уровня действий и умений достигать, и сама должна быть при этом признана обществом в качестве не только законной, но и поощряемой. Причем она – а соответственно, и объединенные такой мотивацией группы, носители успеха, вместе с теми, кто их и их успех так оценивает, – выступает значимой для всего социального целого, для его сохранения и развития (в этом смысле социологи говорят не просто об отдельных достижениях разрозненных индивидов, а о «достижительских» – и «недостижительских»! – обществах [273]273
См.: MacClelland D.C.The achieving society. N.Y., 1961.
[Закрыть]). Иначе говоря, признание того или иного действия(его ориентиров, хода, но прежде всего – результата, продукта) успешным удостоверяет его как общезначимое, подтверждает и одобряет его в высшей степени социальный характер. Любой успех укрепляет нормативный порядок данного общества, он – выражение этого порядка; как нормативный порядок, со своей стороны, обеспечивает любой успех, он – как бы гарантия данного успеха.
Во-первых, индивидуальный факт – и без того, конечно же, ориентированный на социальных «других», групповой по своим ресурсам и горизонтам (для себя не пишут, и на каком языке тогда писать?) – реально включается в структуру социума, во взаимодействие ценностно-нормативных систем различных его групп, в игру множества разноприписанных и многоадресных смыслов. (С одной стороны, например, с точки зрения самого действующего лица, проблематичность его действия, полнота заложенного в него смысла при этом как бы снимается или, по крайней мере, заметно понижается: если речь идет, скажем, о тексте, то его «перевирают», «усредняют», «популяризируют» и т. д. С другой, общественный резонанс, напротив, «разворачивает» и «укрупняет» текст, многократно усиливает его заряд, активизирует в нем неочевидный смысл, просто насыщает новыми значениями.) Во-вторых – этот факт, в какую бы особую область он ни входил, соотносится со структурой общественного целого,с активными процессами его поддержания, в свою очередь, стало быть, заслуживающими особого одобрения и поддержки. А это значит, что сам акт подобного единичного признания всякий раз есть работа всейсистемы, которая в нем, конкретном, снова и снова таким образом воспроизводится, пусть даже это делается через десятки опосредующих звеньев и «открыто» непосредственным участникам лишь в ограниченной степени, доходя до них уже в виде ближайших ощутимых санкций – от поощрения до остракизма. Динамическая структура дифференцированного целого входит, встроена, ввернута в каждый такой единичный элемент (он всегда – элемент общей конструкции), и, выделяя его при анализе как отдельный, «простой» узел, нельзя об этой «сложной» системной стороне дела забывать. Строго говоря, никакого успеха в кружке «своих» не бывает: для этого должен быть общественно признан, даже оставаясь сколь угодно узким, сам кружок (группа).
«Вертикальной», иерархической и структурообразующей осью системы выступает при этом власть(общесоциальное и собственно литературное господство, влияние, авторитет). В качестве поля сопоставления, приравнивания и универсальной оценки групповых образцов (любых «партикулярных» действий – текстов, жестов, программ и т. д.) в Новое время, когда только и существует литература как автономная и профессионализированная подсистема общества, работает рынокс его условной мерой – деньгами. (Вне властных полномочий, равно как и вне прямого богатства, персонифицированным воплощением успеха может выступать слава,известность, репутация, престиж.) Таковы самые общие концептуальные рамки проблематики литературного успеха и краха как социального явления. Оно – стоит, возможно, напомнить – возникает в силовом поле, образованном для Запада крупномасштабными процессами модернизации традиционного или сословного целого, становления гражданского («буржуазного») общества с интенсивной дифференциацией его подсистем и кодификацией правовых рамок общего существования.
Среди этих процессов – и динамика группообразования и социального продвижения различных слоев, групп, элит [274]274
Связь между положением и признанием писателя в обществе, структурой литературной культуры, с одной стороны, и составом национальных элит, их взаимоотношениями, динамикой и циркуляцией, с другой, – предмет многолетних исследований Присциллы Кларк; см., например: Clark P. P., Clark T. N.Patrons, publichers, and prizes // Culture and its creators. Chicago, L., 1977; Clark P. P.Literary culture in France and United States // American journal of sociology. 1979. № 5. P. 1057–1077; Clark P. P.Literary France: The making of a culture. Berkeley, 1991.
[Закрыть], и соответствующие конфликты и трансформации в пространстве жизненных ориентиров, поведенческих регулятивов, в ценностно-нормативных системах различных групп. В их развитии складывается «пространство общественности», «публичная сфера» [275]275
Habermas J.The structural transformation of the public sphere. Cambridge (Mass.), 1989. В противопоставлении области «публичного» только и обретает смысл категория «приватного» (которое не надо путать с индивидуально-идиосинкратическим), как, с другой стороны, «публичное» не сливается с «социальным», а оба они, в определенном смысле и каждое по-своему, противостоят «государственному» и т. д.; все эти категории работают лишь в системе (работает или не работает опять-таки вся их система).
[Закрыть], завершается выработка просвещенческой программы (верней, конкурирующих программ) культуры как особого универсального измерения общественной жизни, формируются каналы и системы приобщения к письменно-печатным образцам культуры – в первую очередь, к классике (распространение чтения, преподавание литературы в школе и университетах и т. д.). Для литературного Запада начало обсуждения всего этого комплекса проблем относится к рубежу 1830–1840 гг., оно широко разворачивается в 1850–1870 гг. (между статьями Сент-Бева и программными выступлениями Золя во Франции, Мэтью Арнолда в Великобритании), а точку в нем ставит в середине XX в. и уже в Новом Свете запоздалая полемика американских либералов о массовой культуре. Дифференциация общества, его социальный динамизм, универсалистски ориентированные элиты как источник динамики и носители признанных образцов, публичная, опять-таки универсалистскими средствами регулируемая сфера, в которой выявляются, сталкиваются, выговариваются и так либо иначе приводятся к согласию интересы и ценности этих и других групп, – таковы социальные рамки самой западной идеи, идейного кодекса успеха, включая успех в литературе. Отсюда, соответственно, и опорные точки концептуального поля, в котором эту проблему или другие проблемы с помощью данной категории имеет смысл (и вообще сколько-нибудь продуктивно) обсуждать.
Если говорить сейчас только о России, то ценностные коллизии и групповые споры вокруг проблем литературного успеха возникают здесь при каждой новой попытке подобного общесоциального модернизационного сдвига, точнее – как симптом его очередного «спазма». Однако межгрупповыми склоками и внутригрупповыми разборками работа по прояснению ситуации, насколько могу судить, по преимуществу и ограничивается. Так – разумеется, на самый общий взгляд не литератора и не историка литературы, а социолога – обстояло дело с отечественной полемикой 1830-х гг. относительно «словесности и торговли» при самом начале профессионализации российской литературной жизни. Таким, в эпигонской и потому ослабленной форме, оно мне видится в завершающее тридцатилетие XIX в., о чем подробно пишет в своей статье о литераторах этого периода А. Рейтблат. И ровно тем же, по-моему, остается в сегодняшних пресс-багалиях о власти чистогана и диктатуре рынка, которые – в общем контексте современного постсоветского искусства и с одной последовательно проведенной сквозь этот контекст позиции – точно реконструирует в своей статье Михаил Берг.
Прежде всего, трудно отделаться от мысли, что всякий раз имеешь дело с неизменной и лишь назойливо повторяющейся структурой исходного болезненного конфликта – со своего рода травмой не продолженного начала. Причем столь же неотвязные попытки эту травму, начало и непродолжение как будто публично обсудить, при всем градусе сопровождавших и сопровождающих данные потуги аффектов, до нынешнего дня, кажется, ни на йоту не прибавили участникам понимания: оно им вроде бы даже и не нужно. Первые, еще очень торопливые, наугад и перед концом сделанные теоретические наметки в этом направлении у опоязовцев во второй половине 1920-х – кстати, еще один период «вторичной европеизации», по формуле Б. Эйхенбаума, – оказались (опять-таки) и последними, были оборваны среди прочего их собственным внутригрупповым разладом и развития не получили [276]276
См. в настоящем сборнике статью «Литературный текст и социальный контекст». Без специальной теоретической разработки собирательно-описательная категория «литературный быт» практически лишена объяснительных потенций, а желания разворачивать тут аналитическую работу, насколько можно судить, по-прежнему нет. Я бы предложил различать, например, такие значения «быта» для исследователя литературы и искусства (речь идет об аналитических «чистых» типах, в исторической практике их семантические элементы будут, понятно, перемешаны):
1. Быт как совокупность жизненных обстоятельств литератора, писательской группы. В этом смысле, он – предмет социальной, экономической и др. истории, в т. ч. истории литературы, включая «биографический подход», хотя никаких кардинальных отличий «литературы» от политики и экономики, спорта и эстрады, как и любой другой сферы человеческой деятельности, я здесь не вижу.
2. Быт как набор специфических коммуникативных ситуаций, которые исследователь в конечном счете ставит в связь с поэтикой данного текста, автора, группы, направления. При этом или «быт» наделяется качествами источника либо стимула текста, группы текстов, манифестов и др., или действительность в глазах исследователя, напротив, «подражает литературе», ведет себя как модель.
3. Литературный быт как прямая тема литературы, предмет ее изображения – ср. очерки нравов, автобиографии, романы «с ключом».
4. Быт как особая точка зрения на литературу – «прозаическая», «повседневная», противопоставленная, с одной стороны, героико-мемориальной, панорамной оптике музеев, юбилеев и вершин (классикализирующей «истории генералов», по Тынянову), а с другой – индивидуальному и уникальному романтическому прорыву «гения», «проклятого поэта» к истине, смыслу, целому. Так понимаемый «быт» – структура открытая, минимально заданная «внешними» критериями и инстанциями, тавтологическая (мера самой себя, автометафора литературы, символ ее автономии). В этом качестве идея «повседневности» («быта») может быть особым ресурсом как рутинного литературного сохранения и воспроизводства (точка зрения «малых сих», взгляд «с галерки», «из задних рядов»), так и литературного изменения, новации («небрежная» поэтика розановских записей для самого себя и т. п.).
Возможны разные стратегии воплощения такого постклассического и постромантического взгляда на литературу и писателя в конкретных текстах и группах текстов. Полярными точками тут, вероятно, будут миметическая установка, «фотографический реализм», например, натуралистов (не случайно они дают и свой вариант «романа о художнике» – Золя, Гонкуры), и, напротив, дистанцированное от любой готовой реальности коллажное метаписьмо (допустим, имитация «неразборчивого» взгляда в сюрреалистской прозе Бретона, молодого Арагона, Лейриса). Этот последний случай обозначает и границу проблематики «быта», делая его фикцией, литературой (гетеронимы Пессоа и Мачадо, т. н. «Автобиографические заметки» Борхеса, «Дальнейшее – молчанье» А. Монтерросо, «случай Ромена Гари» и др.). Вместе с тем сюрреализм, поп-арт и т. д. характерным образом сдвигают или условно стирают рубеж между «бытом» и «искусством», рамку (не путать с футуристическим жизнестроительством): в хеппенинг или акцию может быть втянут любой человек и бытовой предмет. Изображению, разыгрыванию здесь подлежит сам радикальный или иронический художественный жест (своего рода поза прозы), жест негативной самоидентификации художника или даже «самого его искусства», задающий открытое, виртуальное пространство смыслопорождения, индуцирования возможных (или вызывания невозможных) смыслов.
[Закрыть].
Характерно, что при попытках все же как-то обсуждать проблематику успеха она немедленно оборачивается темой краха (в эту траекторию входит, по-моему, и тыняновский замысел «Отверженных Фебом»). Вместе с тем она тут же переводится в план моральных оценок, пусть даже благовоспитанно-сдержанных или тактически приглушенных. Можно сказать, что неумение, нежелание, отказ объяснять успех и стоящую за ним норму– включая признан-ность классики, где собственно аналитические возможности традиционного историка литературы парализованы сверхценностью объекта, а объяснительные модели если и применяются, то крайне бедные – компенсируются здесь моральной оценкой (дисквалифицирующей переоценкой). А уже эта оценка заставляет историка (тем более – «продвинутого») сосредоточивать интерес исключительно на негативных феноменах – отклонениях, выпаде из системы, маргинализме, творческой неудаче и т. д. Социологу во всех таких случаях приходится расставлять кавычки, а стоящие за высказываниями позиции брать в аналитические скобки.
2
Около полутора столетий от Гофмана и Бальзака до Бернхарда и Кортасара «поражение художника» (оборотная сторона художественного «призвания») было сквозным и неустранимым сюжетом западной словесности. Для литературы этот сюжет, или мотив, входил в более широкий круг образцов самосознания и самопредставления («автопортрета» среди «портретов» других социальных типажей). Открывает подобную галерею раннеромантическая фигура социального маргинала и непризнанного гения, обреченного на преждевременную и безвестную смерть или жертвенную гибель, а замыкают – уже теряющие всякую социальную и антропологическую определенность образы неадекватности и невозможности «письма», символические фигуры «последнего писателя» и изображения «смерти автора» в позднеавангардной прозе, искусстве вообще. (Образно-символические, «художественные» поиски дополняются при этом параллельными разработками соответствующей литературной идеологии и философии литературы, из наиболее поздних и зрелых вариантов которой упомяну здесь подытоживающую опыт модернизма эссеистику Мориса Бланшо, Ролана Барта и Сьюзен Зонтаг.)
Тема краха и непризнания художника проходит, естественно, и сквозь русскую литературу от Гоголя и Одоевского до Битова и Довлатова. Отечественная историко-литературная мысль – как правило, пытаясь при этом теоретизировать чисто описательный подход к словесности, ища средств исследовательской генерализации, – чаще всего помещает авторскую неудачу в контекст литературного «быта», этого ресурса (и вместе с тем запасника) литературной эволюции, как это делают опоязовцы. В других случаях ее, по образцу И. Розанова, рассматривают в связи с писательской «репутацией» [277]277
См. в настоящей книге статью «Биография, репутация, анкета».
[Закрыть], видя здесь материал для актуальных очерков новых, выламывающихся из привычной нормы явлений, подглавки своеобразной «истории нравов». В принципе обращение к текстам, не получившим одобрительной экспертизы современников, будь то салонные знатоки или, позднее, профессиональные критики и рецензенты, к произведениям, оставшимся вне круга их внимания, а далее, в исторической перспективе – к «забытым», «вычеркнутым», «репрессированным» авторам, как будто бы должно во всех случаях такого рода дать (пусть в виде негатива) более полное представление о господствующей на тот момент, в тех обстоятельствах норме литературного суждения, групповой оценки, общественного вкуса. Либо же этому обращению предстоит опять-таки дополнить картину периода и пантеон его эмблематических фигур за счет вменяемых задним числом – и с известным, замечу, основанием – той же эпохе, доминировавшим группам, крупнейшим деятелям не только признанных достижений, но и смысловых «дефицитов», неучтенных запасов, нереализованных ресурсов (ответственности не только за сделанное, но и за несделанное).