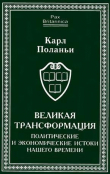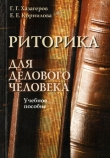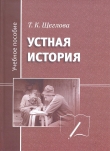Текст книги "Слово — письмо — литература"
Автор книги: Борис Дубин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Низкую в целом оценку предпринимательских и особенно политических кругов со стороны большинства групп российского населения разделяют и представители «элиты» – например, влиятельные работники массмедиа, во многом формирующие общественное мнение, стандарты суждений и оценок (экспертный опрос 148 высокостатусных журналистов, проведенный ВЦИОМ по заказу Фонда Эберта в апреле – мае 1995-го). Лишь у 5 % опрошенных политики вызывают хоть какое-то уважение, для 93 % – они его практически не заслуживают (близки к ним в глазах экспертов представители органов правопорядка и армейский генералитет). Оценка бизнесменов (в целом также отрицательная) все же выше и приближается к оценке директората госпредприятий: соответственно 35 % и 37 % считают две эти группы так или иначе достойными уважения, 52 % и 57 % – не заслуживающими. Наибольшим уважением абсолютного большинства экспертов (мнение соответственно 68 % и 62 % опрошенных) пользуются сегодня православные священники и такие «звезды» публичной сферы, как актеры и художники.
В целом оценки своего положения, диагностика ситуации и виды на будущее (равно как и стоящие за ними стандарты) у большинства представителей образованного слоя и квалифицированных специалистов весьма близки к оценкам наименее обеспеченной части российского населения, переживающей серьезную фрустрацию и низко оценивающей свои инициативные возможности. Показательны здесь оценки своего положения в обществе и их динамика за последнее время. Вот как оценили свое нынешнееположение наиболее квалифицированные группы современного российского общества, когда респондентам предложили поместить себя на одной из 10 ступеней социальной лестницы в прошлом (два года назад), в настоящем и в будущем (через пять лет), – данные в процентах к соответствующей группе:

Как видим, оценка своего нынешнего положения специалистами и квалифицированными рабочими устойчива и невысока. Однако при более пессимистической, в сравнении с другими, самооценке настоящего у рабочих соотношение оценок прошлого и видов на будущее у них (как и у руководителей) в 1995-м гораздо спокойнее, чем в 1994-м, тогда как среди специалистов разрыв между более светлыми оценками прошлого и более мрачными прогнозами на будущее стал за год еще резче.
Иначе смотрит на себя, на общество, на собственные силы, положение и перспективы лишь сравнительно небольшая часть слоя специалистов. Она составляет примерно до одной пятой данной группы и включает прежде всего более молодых людей в крупных городах и столице, чаще представляющих «новые» для российских условий профессии (коммерция, финансы, новая независимая журналистика, особенно – в электронных СМИ, компьютерное обслуживание и т. п.). Они так или иначе вписываются (по крайней мере, стремятся вписаться) в нынешнюю экономическую и социальную реальность, имеют высокий уровень жизненных притязаний, ценят успех и добиваются признания своих усилий, сумели улучшить за последние годы свое положение и без рессантимента и фрустрации оценивают достижения других.
«Интеллигенции» (специалистам с высшим образованием без руководящих функций, особенно находящимся в фазе профессиональной зрелости, на возрастном пике карьеры между 40 и 55 годами) по большинству приведенных оценок последовательно противостоят две социальные группы.
С одной стороны, это «руководители», уже имеющие и не потерявшие за переходные годы реформ ресурс власти: 23 % их – собственники своих предприятий, 21 % (поданным на июль 1995-го – 25 %) – располагают возможностями дополнительной работы, приносящей более или менее регулярный доход.
С другой – учащаяся (но уже примерно на четверть своего состава работающая либо подрабатывающая одновременно с учебой) молодежь. Она обладает не только возрастным ресурсом энергии, но и известным уровнем унаследованного благополучия, образованности, запасом относительной свободы от социализационных установок и идеологических стереотипов советской эпохи.
Вместе с тем нынешняя расстановка наиболее активных сил в поле социальной и профессиональной мобильности в общем не обещает радужных перспектив. 44 % руководителей опасаются потерять работу в нынешних условиях (столько же, правда, считают эту опасность маловероятной). Не исключено, что при дальнейшем ухудшении экономической ситуации и перспектив инициатива этой группы сосредоточится на защите собственных позиций и привилегий. От трети до половины учащейся молодежи (в ответах на разные вопросы) разделяют негативные или двойственные стереотипы отношения к инициативе, успеху, преуспеянию, характерные для предыдущих фаз развития нашего общества, и, соответственно, невысоко оценивают собственные возможности, склонны к подопечному существованию и рессантименту в отношении других (чем эта молодежь старше и чем дальше она от столицы и крупных городов, открывающих перспективы выбора и продвижения, тем сильнее такие прежние клише выражены).
Три эти группы (специалисты, руководители, учащаяся молодежь) владеют принципиально разными ресурсами и в случае серьезного напряжения или столкновения их интересов способны до известной степени осложнить ситуацию и ухудшить жизненные шансы друг друга.
Власть, например, в силах – по традиционной советской модели – заблокировать каналы мобильности и отсрочить социальную и профессиональную реализацию более молодых и подготовленных групп.
Интеллигенция образовательной сферы и массмедиа может попытаться лишить новые образцы политического действия, типы экономической мотивации и т. д. их смысловой оправданности, их этического компонента (что – по традиционной интеллигентской модели – нередко делает и сейчас, обличая «дух корысти и чистогана» и стращая «разгулом мафии»).
Все это, в свою очередь, способно (до какой-то степени) воздействовать на молодежь, объективно работая на понижение уровня ее цивилизованности, огрубление представлений о человеке и обществе, отчасти и помимо субъективных намерений – даже подталкивая ее к криминализации.
Тем самым проблема смыслового обеспечения и структурной институционализации новых профессиональных установок и самооценок – а значит, и проблема перевода динамических, инновационных импульсов в структуру общества, в сеть взаимосвязанных каналов и механизмов мобильности, стратификации и, наконец, репродукции социальной системы – в большой мере остается открытой, сохраняя свою напряженность на нынешний день и на ближайшую перспективу.
1995
Новая русская мечта и ее герои [*]*
Статья была опубликована в: Русские утопии. СПб., 1995. С. 281–304.
[Закрыть]
Памяти Виктории Чаликовой
Объявленная в заголовке тема – фокус нескольких проблем. Обозначу их в самом общем виде, выделив три, в наибольшей степени занимающие автора профессионально как социолога здешнего общества и сегодняшних в нем процессов.
1. Проблема общественного перелома, в том числе – разложения рутинного жизненного уклада, эрозии задающих его структурных рамок (подсистем общества, его институтов) и культуры (образцов поведения, норм и ценностей, которые их санкционируют). На «низовом», массовом уровне это проблема нынешнего повседневного существования в некоем новом пространстве, пока еще не слишком определенном в целом, не размеченном ни устойчивыми структурами социума, ни признанными символическими рубрикаторами культуры. Нужно ли говорить, что эту фазу неопределенности переживают сегодня в России, кроме, может быть, самых молодых людей, практически все? Специально обсуждаться здесь этот процесс, предмет общесоциологического интереса, по ограниченности места и условиям жанра не будет.
2. Роль социально-утопических построений – конструкций мысли, идейных программ или стихийных проектов, соответствующих текстов и т. д. – в подобные «промежуточные» периоды; в большой мере это предмет социологии знания, социологии идеологий [215]215
Основополагающие идеи здесь (в частности, предложение различать «консервативную» идеологию и «радикальную» утопию) сформулированы в конце 1920-х гг. К. Манхеймом. Богатейший материал о дальнейших трансформациях проблемы см.: Социокультурные утопии XX века / Отв. ред. B. A. Чаликова. Вып. 1–6. М., 1979–1988; Шацкий Е.Утопия и традиция / Общ. ред. и послесл. B. A. Чаликовой; Утопия и утопическое мышление / Сост., предисл. и общ. ред. В. А. Чаликовой; Чаликова В. А.Утопия и культура. Эссе разных лет. М., 1992. Т. 1.
[Закрыть].
В истории, по крайней мере Нового времени, социальные утопии как раз и возникают на общественных разломах. Они находят себе место, то есть становятся функциональными, работающими, на тех участках коллективного существования, которые вычленяются из распадающегося целого – из прежде единого, безусловного и скреплявшегося традицией (единым и неизменным, необсуждаемым, не подвергающимся рефлексии образцом) бытия. Можно сказать, утопическая конструкция – это симптом, говорящий, что та или иная сторона жизни людей приобретает самодовлеющую значимость, автономизируется в качестве особого плана совместного существования, – признак первых фаз разворачивающегося процесса.
Как способ осмысления, как знаниевая структура и идеологическое построение утопия «упрощает» реальность именно в перспективе этой, претендующей на автономность, сферы. Тем самым обосновывается значение данной сферы в качестве «решающей», «ведущей» и вместе с тем самодостаточной области существования (самой «природы», больше того – вообще самостоятельности и рациональности поведения как «новой природы» человека). В плане же социальной прагматики утопия – это своеобразный способ адаптироваться к подобным новым условиям существования, переструктурировать и мобилизовать смысловые и энергетические ресурсы, освоить для себя, как-то урегулировать, упорядочить эту непривычную реальность, в которой (уже? еще?) не действуют или неэффективны сложившиеся, освященные традицией, высшим авторитетом или просто рутинные, ставшие привычкой системы и образцы, которые могли бы задавать и стабилизировать поведение. Соответственно, проспективным значением спасительного средства наделяются, если брать утопические программы прошлого, наука, техника, культура, наконец, само общество, организация сосуществования и взаимодействия людей как таковая (чисто политические утопии, «утопии власти»).
Несколько слов о том, в каких смыслах будет пониматься ниже социальный утопизм. Это установки людей на ожидание, во-первых, особого хода вещей, приводящего к экстраординарному результату для всех и каждого (абсолютной устойчивости, непоколебимому благополучию, твердому месту в общем строе существования). Но гармония эта – рукотворная, ничего сверхъестественного в ней нет. Напротив (и это – во-вторых), способом достичь подобного высокоценимого состояния является для данного склада мысли сама возможность человека простейшим образом упорядочить жизнь, контролировать ее с помощью элементарных и общепонятных, «очевидных» и потому как бы безальтернативных средств – максим и образцов правильного поведения, неукоснительной последовательности благих событий, когда за поступком следует неотсроченное вознаграждение и т. п. А гарантом такого развития ситуации становится, в-третьих, некий, наделенный повышенными возможностями и полномочиями, но тоже вполне «земной» авторитет.
Короче, речь пойдет об утопии социального порядка (упорядоченности коллективного существования посредством прежде всего – и даже исключительно – организации одной или нескольких, но наиболее значимых сторон частного, обыденного существования всех и каждого, «людей с улицы», получающих вдруг некий «шанс» от авторитетной для них социальной инстанции). Надо ли опять-таки говорить, что это желание порядка и потребность как-то – хотя бы мысленно, условно – контролировать ситуацию теснейшим образом связаны с неопределенностью, переходностью нынешней жизни многих, что это – ответ на их реальные обстоятельства, на их понимание и оценку этих обстоятельств? Всякая утопия – это модель секулярного спасения, экстренного посюстороннего выхода. В данном случае я возьму лишь один из ее вариантов – по устной формулировке Ю. Левады (1988), «пешечную утопию» – антииерархический образец лучшего мироустройства для (или с точки зрения) всех и каждого. Кроме прочего, для меня важно здесь уловить смену инстанций авторитета, равно как и представлений о самих себе на него рассчитывающих. Иными словами, увидеть переход, о котором упоминалось выше, в материале утопии, в ее конструкции, а тем самым – в повседневном сознании живущих ею людей.
3. Последняя проблема – собственно культурологическая. Как утопические представления воплощаются или разыгрываются символическими средствами культуры, в виде текстов признанного ли искусства, средств ли массовой коммуникации – любых каналов, по которым образно представленные сюжеты с соответствующим смысловым наполнением доходят сегодня до заинтересованных читателей, слушателей, зрителей? Опираюсь здесь на уже описанные ранее обстоятельства: если говорить о заявленной теме, то реально работают на нее в нынешних условиях именно массовые коммуникативные каналы и жанры, и прежде всего самое доступное и распространенное среди них – телевидение. Для данных целей ограничусь лишь одной его жанровой разновидностью – рекламой, и даже еще уже – семейством рекламных текстов пресловутой «пирамиды» АО «МММ», объединенных фигурой самого популярного сегодня в стране лица – их героя, начинающего частного предпринимателя Лени Голубкова.
И сама тема, и раскрывающие ее аспекты намечаются здесь лишь в самом предварительном, фактически – тезисном порядке. Я попробую описать общую схему предлагаемого телевизионной публике образца и обозначить направление, в котором его можно, с моей точки зрения, понимать (разграничивая, по возможности, текст рекламы, поведение стоящей за ней фирмы и ее вкладчиков и, наконец, реакцию на все это других средств массовой коммуникации и политических сил). Остальное – дело дальнейшей работы.
* * *
Success-story нашего героя стала в последние месяцы результирующей, по меньшей мере, трех процессов разного уровня, но одинакового – всеобщего – масштаба. Вне их сам рекламный сюжет вряд ли был бы возможным и понятным, а его мобилизующее воздействие – эффективным. То, что практически девять десятых населения относятся к телерекламе с раздражением, ее эффекта, как видим и как давно известно практикам и исследователям, не снижает (иллюстрации см. в газетной и телевизионной хронике июля – августа 1994 г.; стоит с особой силой подчеркнуть, что все эти процессы выражаются, опосредуются, провоцируются, а зачастую и порождаются мощнейшим, скоростным и единовременным воздействием массовых коммуникаций, в этом – особенность нынешней ситуации, когда массмедиа демонополизировались, свободны от официальной цензуры, сами ищут и мобилизуютсвою публику).
Первый – обвальная и прогрессирующая затем инфляция сначала советских, а затем и российских денежных средств. Отсюда – вполне реальное обесценивание зарплаты и накоплений, с одной стороны, но и не менее важная символическая девальвация денег как таковых (как бы «смывание дензнаков», увеличение числа нулей на них имеет, понятно, тот же смысл), с другой. Вне этого контекста и готовность масс населения вкладывать «последние» средства в акции «МММ» (и сотен других никому не ведомых – да и откуда бы о них узнать? – предприятий), и возможность сознания годами живших от зарплаты до зарплаты людей, аттестуемых и аттестующих себя «бедными», вмещать астрономические цифры сулимых доходов, а пропаганде и рекламе – такими цифрами манипулировать, и постоянные подделки денег, ваучеров, ценных бумаг вряд ли стали бы повседневной реальностью. Еще три года назад идея общедоступного и гарантированного успеха, будь то для самого Лени и любого человека с улицы, будь то для «дорогого Сергея Пантелеймоновича» (Мавроди), не только, по известной формуле, не овладела бы с такой легкостью массами, но и попросту отсутствовала в их головах. Для краткости обозначу эту как бы новую, но на деле вновь и вновь повторяющуюся ситуацию моментального обогащения и переворота в судьбе «петушиным» именем Хлестакова (а можно и Бендера, само появление такого рода удачливых авантюристов и демагогов, безликих людей «в случае» и никому не ведомых еще вчера ловцов минуты на российской сцене последнего времени, включая декабрьские выборы 1993 г., – еще один характеристический признак нынешней фазы). Но в тени этой очевидности, на мой взгляд, скрывается другое: подобное отношение к деньгам, выгоде, предпринимательству и т. д. есть косвенный, трансформированный уже иным временем и массовой средой ответ на программу и реформы гайдаровского кабинета, включая недоделки и внутренние противоречия гайдаровского проекта, форм и темпов его реализации. Ответ этот почти неузнаваем, он послан уже в никуда и как бы даже не по существу, но это – ответ, а потому, вне зависимости от отпугивающей формы, – реальный сдвиг и в сознании, и в поведении людей.
Второй процесс относится к сфере самой массовой культуры в ее нынешнем и здешнем бытовании. Речь идет о необычайно расширившемся опять-таки за последние несколько лет интересе самых широких кругов населения к доходным играм и их изображению на телеэкране, распространенности их на городских улицах и перекрестках. Уточню: чаще всего это игры не расчета, а случая либо мгновенной реакции («эрудиции»), – перед нами, собственно, «игра случая». Не говорю о многочисленных «Спортлото», «Лотто Миллион» и т. п. и напомню лишь один пример. Супершоу-лотерея «Поле чудес» уже в 1992 г. далеко обогнала по зрительской популярности не только talking-show по общим вопросам – «Тему», но и наследников прежних политических телехитов вроде «Взгляда», «Пятого колеса» и др. – «Красный квадрат», «ВиД» и проч. [216]216
См. статьи «Журнальная культура постсоветской эпохи» и «Культурная динамика и массовая культура сегодня» в настоящем сборнике.
[Закрыть]Подчеркну, кроме того, что выигрыши при этом в абсолютном большинстве случаев выдаются безотлагательно, тут же; сокращение временных горизонтов действия, преобладание краткосрочности («срочных вкладов», то есть опять-таки экстренных действий) – еще одна примечательная особенность нынешнего исторического периода. Просто участие, в конце концов, тоже чаще всего вознаграждается, а проигравших как бы не бывает. Вложение средств в акции того или иного предприятия выступает, по-моему, разновидностью такого рода беспроигрышной игры со случаем (массовый интерес к астрологии и хиромантии, отражаемый и телеэкраном, – параллель или дополнение к подобной игровой активности).
Но самое, пожалуй, важное здесь, что предприятия эти (или, по крайней мере, их имидж для публики), как правило, не государственные, а частные. Это, смею предположить, в большой мере залог их привлекательности для населения: вкладчик вступает в игру как частное лицо, и партнер его – фирма частная. В этом смысле дистанции между ними как бы нет, а вот база для отождествления одного с другим (и игры рекламы на этом тождестве) есть. Но об этом – чуть ниже.
Третий, до известной степени фоновый, процесс – распространение в обществе от лица многих известных людей и с помощью тех же массовых коммуникативных средств различных по тональности соображений о нынешнем «дефиците ценностей» в российском обществе, о потребностях в новой «большой идее», а то и в «новом мифе». Разумеется, напрямую эти соображения на реальность влиять не могут. В большинстве случаев они исходят от достаточно узких кругов вчерашней интеллигенции, столь же нередко – от вчерашней же или нынешней бюрократии (близость и совпадения этих ролей и символических фигур здесь обсуждаться не будут, о них мы в соавторстве с Л. Гудковым уже писали [217]217
См.: Гудков Л. Д., Дубин Б. В.Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. М.; Харьков, 1995.
[Закрыть]). Но некоторые (и не всегда безуспешные) попытки массовизировать их с помощью печатных и телекоммуникаций (о шовинистической пропаганде сейчас не говорю) в последнее время есть. Как наблюдается, им в параллель, прямое возвращение – после фазы дистанцирования и пародий – некоторых телепрограмм и заметной части их зрителей к целым пластам прежних массовых образцов «советской» кино– и телепродукции, совершенно, кстати, немыслимое еще совсем недавно, в постненашевские и посткравченковские год-другой. Интересующий нас сюжет вписывается в эти поиски «нового положительного героя», воспринимаясь на фоне реставрируемых типовых символов «простого человека» предыдущей эпохи, по замыслу авторов, играя на них и вместе с тем им противостоя. К самым общим, типоразличительным характеристикам «голубковского сюжета» я и перейду. Ограничусь четырьмя.
1. Он подается – особенно это было заметно вначале – как повседневная история из жизни людей, ничем не отличающихся от обычных. Это случай, произошедший, точнее происходящий, на наших глазах – с отдельными частными лицами. Сколько-нибудь броских и даже вообще уловимых признаков государства, намеков на его институты и символы практически не чувствуется: его как будто не существует. Не стану сейчас обсуждать, в какой мере это соответствует нынешней реальной роли данного государства в жизни данных реальных людей, зрителей, хотя результаты социологических опросов на этот счет – и сопоставимые в динамике – есть. Обращу внимание на другое. Привлекательность героев советской киноклассики, да и просто «кинопотока» 1930–1950-х гг. (и наследующих им в этом секретарско-идеологических романов-эпопей 1970-х, которые тоже, кстати, стали сегодня, после кратковременного забвения, перепечатывать и покупать), то есть – энергия зрительской и читательской идентификации с ними, в первую очередь обеспечивалась как раз однозначной и общепонятной метафорикой стоящего за ними государства с его мифологизированным на экране могуществом, богатством и авторитетом. В этом главная и кардинальная перемена. Не то чтобы прежнего «опекающего» государства в сознании нынешних россиян вовсе нет, это, конечно, не так: поведение тысяч реальных вкладчиков «МММ», в период скандала обратившихся за требованием решить ихфинансовые проблемы именно к государственным органам, кроме многого другого, тому свидетельство. Но характерно, что в самой рекламе эти рецидивы государственно-подопечного сознания совершенно не отразились. Экстраординарный порядок и процветание в ней по-прежнему собирается гарантировать всемогущее частное лицо, в кадре, как ему по статусу и полагается, всегда отсутствующее (Мавроди невидим, поскольку всемогущ и непогрешим, и наоборот). Но символически эта инстанция обозначается всегда: радушным голосом рассказчика-комментатора и аббревиатурой внеиндивидуальной, «фирменной» марки – как бы подписи – в конце.
Исключений, пожалуй, два, и оба они характерны. Государство, держава, страна в «голубковском сюжете» даны, во-первых, негативно, через противоположность образу воплощенной мечты, как «не-Америка» (где «хорошо живут», «смеются» и т. п.; промелькнувшая было квартира в Париже, кажется, отпала: пересолили). А во-вторых, через самый распространенный символ, можно сказать – синоним России и русского (читай мужского). Я имею в виду водку и связанные с ней, достаточно навязчивые подсюжеты, и здесь Америка проигрывает: «водка наша лучше»; добавлю, что водка, пусть зарубежная, но непременно с советской и российской символикой, в сегодняшней рекламе – предмет заметный.
2. Рекламный образец – и это еще одна принципиальная находка его авторов – организуется как жизненная история, биографическое повествование с ведущими и второстепенными, но тоже важными героями, как экранная life-story. Вместе с повествовательностью, эпичностью (даже ее элементами и самой презумпцией, условными знаками того, что перед нами – повествование) в образец вносится и принципиальная аксиоматика повествовательного текста – условные начало и конец, сюжетность, то есть – осмысленность и неслучайность изображенного, связность и обобщенная «типичность» повествования и т. д. Жизнь представлена на экране в движении времени, как бы «естественного», житейского, даже календарного, но подчеркнуто очищена от всего постороннего, способного помешать (неудачи могут постигнуть героев, да и то юных, лишь с другими партнерами, но не с «МММ», которая всегда выручит: «Правильно, Юля, никакого риска»).
Связность повествования, даже при его эпизодичности, достигается тем, что сцены идут одна за другой по единому модулю «поступок – вознаграждение», сменяясь в несокрушимой последовательности полностью подвластных герою событий, его необратимых шагов к процветанию: «сначала сапоги – потом шубу», «в феврале куплю трейлер» и т. д. «Февраль», разумеется, столь же условен, как «Америка»; важно, что время размечено по значимым и понятным для персонажа (и, как полагают авторы, для его зрителей) критериям и однонаправленно задана последовательность этапов. При всех оттенках экстраординарности, «праздничности», «пира» и т. п. в картинах уже достигнутого настоящего и тем более настойчиво сулимого будущего («это только начало!»), перед нами – упрощенный и адаптированный к местным условиям вариант времени калькуляций и расчетов, рационального времени предпринимательства, науки, техники Нового и новейшего времени. Отсюда – демонстрируемые зрителям «график роста благосостояния», «график капиталовложений» и т. п.
Утопические компоненты рекламного образца при этом, видимо, должны обеспечить энергию идентификации с героем, они выступают движущей силой программируемого таким образом поведения зрителей-вкладчиков (замечу, что проблематика и символика «усилия», «затрат повседневного труда», как и вообще утрат, в утопизированный сюжет не включаются). «Простота» персонажа в сумме обозначающих ее символов (типаж, мимика, речь, одежда, обиход, привычки «простака» с характерным отсутствием брутальности, перенесенной позднее на «брата» Ивана) гарантирует саму возможность, доступность этого отождествления для «любого» и вместе с тем как бы «мягкость», «неагрессивность» самого призыва идентифицироваться. А рационализация времени, пусть в самых простых формах, на первоначальной фазе, дает необходимое чувство подвластности жизни индивиду, убеждает его в способности справиться с обстоятельствами. В этом смысле символические навыки расчета времени, игровое их освоение входят в более масштабный процесс нынешнего массового, ускоренного приобщения к умениям владеть собой, строить жизнь, вести цивилизованное и цивильное (в смысле – не чрезвычайное, не военизированное, повседневное) личное, семейное, общественное существование. Задачу этого обучения умениям обходиться с самим собой и «другими», приобщения к нормам социального взаимодействия, от делового до сексуального, приняла на себя массовая культура – печать, радио, телевидение. Характерно здесь ощутимое для исследователя, но вовсе не обязательно опознаваемое участниками противоречие между, казалось бы, установками людей на рациональное поведение и вместе с тем их стремлением опереться на внеобыденные силы и обстоятельства; об этой характерной черте нынешнего промежуточного периода будет речь несколько ниже.
3. Следующая авторская находка в том, что отдельный, частный герой – не один. Перед нами – характерный масскультурный образец family-story, сага о семье и круге людей близких, связанных родством и дружбой, отношениями, построенными на «чувствах» (в привычной для социолога, уже классической терминологии Ф. Тенниса – гемайншафтное сообщество, «община»). Тем самым для авторов, героев и зрителей создается возможность постоянного перевода любых «внешних» – социальных, но в данном случае прежде всего экономических – обстоятельств на привычный язык внутрисемейного взаимодействия, опознавания их в этом более близком и аффективно окрашенном языке «мужского/женского», «старшего/младшего» (разумеется, совершенно условном, стилизованном). В прагматическом плане этот расчет совершенно точен. Он ориентирует рекламный образец именно на большинство, массу – на обычную городскую «малую» семью и ее знакомые пары двух соседних поколений недавних горожан, то есть обеспечивает ему широчайшую, а значит – постоянную аудиторию. Причем «создала» ее (свела между собой героев) только сама реклама, компания «МММ»: опять-таки классический пример маклюэновского принципа массовых коммуникаций «канал и есть стимул» (в другом варианте – «средство и есть сообщение»).
Но точность расчета здесь еще и в том, что функции распоряжения общими деньгами в таких семьях записаны, как правило, за женщиной, которая и будет решать, какой фирме доверять семейные сбережения (характерна четкость разделения мужского и женского: работа, деньги и выпивка – дело мужское, семья и экипировка – женское). В самом тексте это символизировано употреблением первых дивидендов именно «на жену». Позднее ситуация сдвигается в пользу «экскаватора» и «трейлера» героя. Но это «на февраль», а принципиальный вопрос о будущем, иначе говоря – о стабильности ситуации, доходов и т. д., их прогнозируемости, опять транскрибируется в «семейном языке» и решается с обязательной ссылкой на женскую половину. Санкция в фундаментальных для данного случая вопросах об обзаведении семьей, рождении детей и т. п. исходит только от женщины, больше того – от «женщины как таковой», образцовой женщины, «просто Марии» (женско-детская символика как мотивировка темы будущего, наследства и т. п. стала, добавлю, за последние месяцы появляться в рекламе все чаще; в частности, возник образ одинокой женщины с ребенком, роль недостающего партнера которой играет, понятно, рекламируемая фирма) [218]218
О «женском» в современной российской массовой культуре см.: Гудков Л. Д., Дубин Б. В.Указ. изд. С. 103–114.
[Закрыть]. Соответственно, и убедить в правильности своего поведения нужно опять-таки человека своего, «брата». Последний символически представляет в тексте «второе „я“» зрителя (как и героя) – более настороженную, жестко-консервативную, приверженную традиционно-советским стереотипам о заработанном «своим трудом» часть его личности, пласт сознания.
Поэтому вроде бы никак сюжетно не подготовленное и в рамках «реализма» не оправданное знакомство героев с «просто Марией» (в параллель «простаку» Лене) из мексиканского телесериала, лидера недавней зрительской популярности, в пределах утопического образца, напротив, вполне последовательно и, при всей экстравагантности фабульного хода, характерным образом нимало не поражает героев. Оно, я бы сказал, мотивировано самим характером текста, формульной структурой сюжета как мелодраматического образца, имиджем героини [219]219
О подобных структурах см.: Amorós A.Sociologia de la novela rosa. Madrid, 1968; Cawelti J. G.Adventure, mystery and romance: Formula stories as art and popular culture. Chicago, 1976; Chaney D.Fictions and Ceremonies: Representations of Popular Experience. L., 1979; Modleski T.Loving with a vengeance: Mass-producted fantasies for women. N.Y., 1982; Radway J. A.Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. Chapel Hill; L., 1984.
[Закрыть]. По экстраординарности появления она как будто фея, но при этом с такими же, как у наших персонажей, семейными хлопотами, внезапными переменами в судьбе и т. д. (отмечу здесь, в параллель «Америке», условную семантику «Мексики» – или Колумбии, Венесуэлы, Бразилии, они взаимозаменимы, общий смысл сопоставления примерно таков: «У тех-то лучше, но эти нам ближе»), А за этим феноменом – единство адресата рекламы и мелодрамы в сегодняшних российских условиях: это по преимуществу опять-таки женщина, жена и мать семейства, пусть в близком будущем. Важна тут, впрочем, не собственно половая принадлежность, а содержание роли, система ожиданий, оценок и мотиваций (и игра на отношениях мужского и женского, условный обмен этими значениями, как и в случае со «своим» и «чужим» – «Америкой», «Мексикой»).