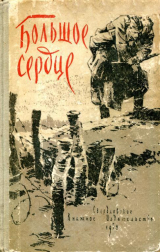
Текст книги "Большое сердце"
Автор книги: Борис Рябинин
Соавторы: Олег Коряков,Олег Селянкин,Ефим Ружанский,Лев Сорокин,Елена Хоринская,Николай Мыльников,Юрий Хазанович,Николай Куштум,Юрий Левин,Михаил Найдич
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
IX
Наши дрались, себя не жалели, но белые все же их теснили. Долго мы отступали. Досадно было и обидно. Займем деревню или завод, а нам командиры приказывают отступать. Ведь если фронт неровный, умеючи воевать надо. Выскочишь за свою линию, тут тебе и карачун будет. Но многие этого не понимали и обижались. Трудно нам приходилось.
У них солдаты обученные и обмундированные, и ели они всласть… У них в руках Сибирь и уральские хлебные места. А мы отступали холодные и голодные… Не было ни корма, ни боевых припасов.
Да что греха таить, измены были. Теперь-то мы знаем, что Троцкий, например, измену делал, а тогда не знали.
Зато уж те, кто шел, себя не жалея, еще крепче да злее делались. Ведь не поверишь, что наши делали. На своих руках орудия по болоту тащили, к лошадям припрягались. Плоты плотили, через реки переправляясь. Слани из жердей через болото клали. Дорогу в дремучем лесу прорубали. По двое суток голодали, а на третьи в бой рвались…
Эх, да что говорить! Не видаючи не поймешь, что может вытерпеть народ за свою родную землю.
По трущобам, по болотам, по каменистым горам шли мы, кровью своей Урал поливая…
Четыре дня пробирались мы через леса и реки от Тагила к Кушве. На дворе стоял октябрь. С нами отступали целые семьи. И вот, когда замаялись наши лошади в кушвинских лесах, не пошли, товарищ Таланкин велел их заколоть и вечером сварить. Мы ведь и махану были рады в то время. Артиллерию командир велел везти на свежих беженских лошадях. Бабы – в слезы. Легко ли им было с ребятами-то?
Андрюша говорит:
– Кому жалко барахла, пусть у белых остается, а мы пойдем дальше.
Бабы с горькими слезами согласились отдать лошадей, бросили свои пожитки и пошли налегке.
Ребят было жалко, кабы не бела армия, сидели бы они в теплой избе, вырезывали бы, осенним делом, из репы да моркови всякие фигурки… Погода стояла страшная. Туман, дождь сечет, дуют из гнилого угла холодные ветры…
Сижу, бывало, дрожу, губы холодные, руки синие. Едва вожжи держу. Проня спросит:
– Жива ли? Отгаркнись.
– Что мне сделается, – говорю я, а у самой зуб на зуб не попадет.
– Промокла?
– Ничего, не облиняю.
– Ты у меня как топор за поясом – везде со мной.
Я говорю:
– Ну, а как ино?
Вида не подаю, что трудно, его не расстраиваю.
Помню перевал, где мы через Урал переходили.
На перевале лес редкий, криули, а не деревья стоят. Вершины обломаны. Местами – голо. Стоят обгоревшие стволы на черных плешинах. Мертво, тихо, только ветер шумит. Горы вдаль уходят, в серый туман. Очень тоскливо.
Время шло да шло. Пересела я с телеги на сани. Выдали нам пимы, полушубки. Я ровно счет дням потеряла в ту пору.
Вот закроешь глаза и вспоминаешь.
Месяц как врезан в небо. Снег словно пеплом посыпан. Кругом пустынные поля. Стоят березы, похожие на траву-мятлику, и кое-где шаперятся голые черемухи. И сама себе кажешься в этой пустыне козявкой.
Игренька закуржавел, холка торчит перед твоими глазами, покачивается. Тебя ко сну клонит.
В санях за мной груда ящиков да закутанный в шубное одеяло «Максим».
Редко нам удавалось попариться в бане и отдохнуть денек-другой. Такой отдых за праздник считали.
В мороз юбки, промокшие от снега, замерзали и до крови резали ноги. Очень жалко было Игренюшка. Мы-то понимаем, за что маемся, нам легче, а скотина страдает и не знает, за что. Игренька плечи сбил, так я выпросила в лазарете вазелина и мажу ему… Хомут переменила, добилась. Скотину я всегда жалела. Из-за этого жаленья чуть в руки белым не попалась.
Хозяйка, у которой мы стояли в деревне Углевой, меня попросила:
– Съезди по сено, будь такая добрая, скотина с голоду подыхает, а я, видишь, не могу.
Ее ревматизмом скрючило.
Я и уехала, ни у кого не спросившись.
Ну, нашла ее покос, навила возище и еду обратно. А белые в то время Углеву заняли и выставили свои караулы. Видят, сено везу, пропустили, даже не спросили, чья такая. А я молчу, конечно, у меня только сердце захолонуло. Хозяйка перепугалась:
– Оставайся, я тебя спрячу.
Я отвечаю:
– Нет, догоню своих.
– Куда ты поедешь? Останься!
А как же я останусь? У меня в санях полно патронов и бомб. Не белым же их отдавать. Она уговаривает, а я Игренька перепрягаю.
Будь, что будет.
Наши отступили к селу Переборинскому. До этого села по тракту десять верст, а проселком и семи не будет. Я решила ехать проселком. Хозяйка мне наказала:
– Поворачивай налево, на второй сверток.
Страха во мне тогда не было. Отчаянность на меня нашла. «Так не достанется же вам!» – думаю.
Подъезжаю к польски́м воротам, вида не подаю, еду как ни в чем не бывало, а гляжу во все глаза. Дорога впереди пустая. От ворот – и под гору. Подъезжаю шажком к заставе, под шалью бомбу спрятала.
– Пропуск!
– Ваша подвозчая, – отвечаю им.
Я одной рукой вложила капсуль и сделала размах.
Бомба зашипела. Я ее как брошу! Да как ухну на Игреньку! Да как ожгу кнутом!
Он и понес.
Слышу – взрыв, выстрелы. Не оглядываюсь. Стоял туман – все равно ничего не увидишь. В тот день так холодно было, что слеза на лету леденилась.
А дорога с раскатами, с нырками. В тот год снег был струистый, а дороги высокие. Так к урожаю гороха бывает.
Мчит мой Игренька, сани на ребро становятся, на отводину. Думаю: «Смертонька!» Стала его успокаивать, тпрукаю, ласково говорю с ним. Смотрю, он пошел тише, водит боками, озирается. Свернула я с тракта на втором своротке. Дорога пошла убродная, малоезжая.
Непохоже на проселок. Все-таки еду.
Въехала в еловый лес, в мертвую тишь. Ветки гнутся под снегом. Еловые семенушки, как сережки, висят. В тот год их было на диво много, да крупные-прекрупные. По добру-поздорову такие семенушки предвещают, что яровые будут ядреные… но уж до яровых ли, когда землю пашет не соха, а орудия?
Выехала на елань. Стога стоят, покосная избушка. Над трубой дымок. Кругом елани лес высокий, белый. От мороза сучки пощелкивают.
А дорога моя кончилась. Дальше следу нету. Только лыжница вьется через всю елань.
Стала думать, что мне делать. Ехать обратно – страшно, может быть, они по тракту выслали погоню. Ехать в Переборинское по целому снегу – боюсь, не доехать. Игренька устал, я замерзла.
Решила, пережду до вечера. Скоро, мол, смеркнется. Тогда выеду на тракт и доберусь до своих.
Взял бомбу с воза и спрятала под шаль. Иду в избушку, надо узнать, кто там греется.
Вошла, со свету ничего не вижу. Говорю:
– Бог помочь!
А мне ответ:
– Да Павла Андреевна! Да ты ли это, Паня?
А это Кольша Бобошин. Он во время наступления отбился, лыжа у него перед самой избушкой сломалась, на пень наехал. Сидит, мается, сращивает лыжу, а сростить не может. И идти днем боится. Отсиживается, сидит.
Ну его-то я не побоялась. Завела Игренька в остожье, развожжала, к сену поставила, покрыла попоной.
В избушке было жарко, но я шаль не скинула, сижу. Когда Кольша немного опомнился, начинает разговор:
– Ну, как здравствуешь?
– А ты как странствуешь, – отвечаю, – не надоела ли чужая сторона?
И спрашиваю в свой черед:
– Ну, как, нашу Слободу не очень позори́ли?
– Ничего, зачем зорить… А твой Прокопий Ефимыч где?
– Жив, здоров, тебе кланяется.
Кольша, помедлив, говорит:
– Все равно моей будешь, рано или поздно.
– Ни в жизнь не буду.
– Не зарекайся, Павла Андреевна, твой Прокопий не вечный.
– А ты вечный? Все на войне, неизвестно, чья голова крепче.
– Только бы мне с ним в бою встретиться. Уж я бы по нему ударил!
– Ну что ж, ударь, попробуй, только как бы отдачи не получилось.
Кольша стал выпытывать, как я сюда попала. Я ему говорю, что везу муку и отстала от своих. Кто его знает… любовь – любовью, а скажи ему, что в санях у меня бомбы да патроны, – он меня прикончит и все белым увезет.
Сидим, разговариваем, как приятели, смешком да шуточкой, даром что он белый. Вот мало-помалу начал Кольша подвигаться ко мне, начал лишнее говорить. Я вижу – дело плохо, избушечка маленькая, деваться некуда и говорю:
– Видишь бомбу? Убери руки-то, а то я брошу. Пусть тебя и меня разорвет в таком случае. Сиди лучше хорошенько.
Хворост в печке прогорел, стало смеркаться, мы вышли из избушки. Обвожжала я Игренька, взяла в руки бомбу и говорю:
– Иди вперед, а то худо будет.
Он усмехнулся и пошел, а за ним и я поехала.
И скажи… Он идет спиной ко мне, а я все его бессовестные глаза вижу. В душу, проклятый, глядел… умел…
Добрались до тракта. Я говорю:
– Ну, тебе направо, мне налево.
Он говорит:
– До свиданья.
– К нам в гости… об наш угол брюхо чесать.
Он смеется.
– Не любил бы тебя – не ушла бы живой…
Я не знаю, что сказать ему. Рассмеялась и укатила.
X
В Переборинском мы стояли долго. Близилось рождество, а о празднике никто и не вспоминал. Дома бы в это время скоблила да мыла, да гладила. Сырчики бы морозила, масло бы копила… А здесь знай свое: подвози патроны, да ходи за Игреньком, да стирай на своих ребят, да починивай.
Стояли мы, как на позиции.
Первая наша бригада занимала такую линию: Зубова – Витая – Переборинское – Загорное. Дальше с правой руки стояла железная дивизия, а с левой – части второй бригады.
Всего труднее приходилось нашему полку. Он стоял у самого села, заслонял от белых тракт и не подпускал их к железной дороге. На линии были вырыты окопы, и наши ребята по очереди там сидели.
Сердце мрет, как: вспомню это проклятое Переборинское. До того как мы пришли, оно несколько раз из рук в руки переходило.
Война совсем измаяла жителей. От снарядов сгорело много домов. Тут и там чернели пожарища, припорошенные снегом. Много было нежилых домов, в окнах ни огонька, у ворот ни следочка. Да ночью и жилой дом не сразу распознаешь. Люди изб не топят, отсиживаются в подпольях. Жилой дом только и узнаешь по реву некормленного скота в пригонах.
А уж если где мигает огонь, дым из трубы идет, – так и знай, здесь бойцы живут.
А до войны это ли было не село!
Дома стоят привольно, улицы широкие, место веселое. Возле садочки, палисадники. Мода у них была – украшать все резьбой. Над крыльцом резьба, по крыше, по краям, резьба, на наличниках резьба, словно кружево. Переборинские мастера везде свои узоры выводили: и на дугах, и на прястницах, и на вальках, и на шкапчиках. Народ жил здесь чисто и привольно.
А Проня мой там заскучал.
– Колесим, как худое колесо. Все впровал идет. Ни шиша мы не победим.
Я ему говорю:
– Да уж здоров ли ты, Проня? Не простыл ли ты?
А он свое:
– Отвоюем место, кровью польем, а командиры нас назад ведут. Наши орлы, как львы, дерутся, а топчешься все на одном месте. Эх, дай-ка нам волю!..
Андрюша ему объясняет:
– От тебя ли я слышу, Прокопий? Уже понимать перестал? Напролом идти нельзя. В тыл зайдут тебе. Заскочишь вперед, а другие части отстанут.
Проня спорит:
– На то и командиры, чтобы отсталых подгонять… Дай-ка мне дивизию!..
– То-то бы настряпал, – говорит Андрюша.
Я говорю тихонько:
– С горы-то, Проня, виднее… Они уж знают, что к чему.
А он свое:
– Душа не терпит отступать!
Нет, он недаром так тосковал! У него сердце слышало… Будь она проклята эта Переборинская слобода, век бы ее не видать!
В то утро, когда беда пришла, мне почему-то очень весело было. Запрягаю Игренька, наговариваю ему всячину, углаживаю, хлопаю его…
Солнышко проглянуло – еще веселее стало.
С пригорка вижу кладбищенскую церковь, за ней невдали окопы. Вправо лежало большое село. К окопам полем – рукой подать, но я ездила мимо кладбища. Там дорога шла под прикрытием: от белых заслоняли нас сосновые рощицы и пригорок. А полем ехать – как на ладошке. Да и неудобно. Все оно снарядами изрыто. Торчат на нем столбики, обрывки колючей проволоки. А в церкви всегда народ.
Легко раненные там подводы дожидаются. Тяжело раненных туда же приносят с позиции. Там и печку топили, и кто-нибудь из сестер дежурил, чаще всего Марфа, – она уже два месяца в лазарете работала.
Еду я трюнь-трюнь, не тороплюсь. Солнце играет. Выстрелов не слышно. Красота! Вот и кладбище. Обнесено оно низкой оградой из дикого серого камня. Церковь выкрашена под малахит, и на ней, как опоясочка, белая резьба.
Еду и вижу Марфу. Выскочит на паперть, повернется, скроется, опять выскочит. Увидела меня, замахала рукой, бежит к ограде.
– Иди, Паня, простись с мужиком-то…
Я сразу не поняла. Вылезла из санок, привязала лошадь. Да как хлопну руками… как побегу!
В церкви было темно… а может, это у меня в глазах помутилось. Но, скажи, все до капельки помню. Ни на чего не глядела в то время, а все запомнила. Стены бурые. В стенах по три узких окна прорезано, рядом, без простенков. Пол деревянный, тоже бурый. Пахнет воском, позолота мигает на вратах.
А мой Прокопий лежит на соломе у черной круглой печки, глаза закрыты. Руки голые. На груди повязка. На повязке кровь багрится.
Я припала к нему. Он открыл глаза и говорит невнятно:
– Не реви!
Я слезы глотаю, сдерживаюсь.
– Слышишь, Марфа, выкидывай к чомору ящики из кошевки… постели соломы… Я его одену. Обожди, Проня, я тебя увезу.
А Марфа:
– Да уж не трогай ты его, Паня.
Прокопий закашлялся, посинел. На повязке еще больше крови выступило.
Я заторопилась, засуетилась. Что-то бы спросить у него, сказать ему… и все позабыла. Не знаю, что сказать, за что схватиться. А сидеть сложа руки, когда он помирает, не могу.
– Давай, Марфа, повезем его.
А он шею вытянул, заикал, в горле у него заиграло. Тут я – хлесть на пол. Реву.
– На кого покидаешь? В тягости я, в тягости ведь я…
Вдруг дверь хлопнула, и сердитый голос спрашивает:
– Здесь подвозчая?
Встала я на коленки. Стою на коленках, а меня шатает, голову обносит. Вижу, как в тумане, стоит передо мной наш, нашей роты, боец. Лицо у него воспаленное, глаза сердитые, правая рука на перевязи.
– Белый лезет, а стрелять нечем. Одни гранаты скоро останутся. Езжай!
Я показываю на Прокопия: муж, мол, муж…
Боец говорит помягче:
– Тут не только муж. Всю роту сомнут. Ехать надо, баба.
А я все на коленках стою.
Потом поднялась кое-как, пошла к двери. Да как заворочусь! Пала на солому рядом с Проней… Думаю: «На́родно ты мой родной. На́родно – родной».
И вдруг вижу…
Нет, хоть не вижу, врать не стану, видения мне не было. А вдруг подумала, что вот белые сейчас, как валы, припадая и подымаясь, катятся на наши окопы.
От Прони уйти – сил нету. А своих как на убой отдашь?.. «Господи, не разорваться мне», – думаю.
Сама не помню, как выбежала из церкви, как лошадь отвязала. А может, не я и отвязывала… не знаю.
Слышу – палят залпами. Гранаты рвутся. Видно, наши в гранаты пошли. Долгой дорогой ехать некогда.
Стою стойком, передергиваю вожжи, реву во весь голос. Мчится мой Игренька по полю, по кочкам, храпит, колотит по передку кошевки копытами… Только стукоток стоит.
А Проня не дождался меня, помер.
XI
Похоронили мы его.
Ходила я в те дни, словно пустая. Не знала, куда деваться. Повыть – и то не повыла над ним. Не могла.
Придет Андрюша, посидит со мной, а говорить не об чем.
Его в ту пору свое горе гнуло, сугорбиться стал. Оба мы с ним в одно время овдовели. Катя у него от тифа померла.
А тут вскоре узнали, что Пермь белым сдана. Совсем тошно стало… не провздыхаешь. Говорить – рот не разевается. По всей ночи я просиживала под своей печальной под оконенкой, под кручинным под окошечком. Все спят, в избе жарко, месяц светит, а я сижу.
Все в памяти перевела: и как мы хмелевали, и как женились, и как жила… А слез все нету.
Думаю: «Скатятся с гор белы снеги, реки разольются, раскукуется в бору кукушечка… А Проне моему не мять свежей травоньки, не услышит он ни топоту кониного, ни звону колоколиного».
Думаю так, а не плачу.
«Не на льду ли я обломилася?… Пустым-пусто кругом. Наперед себя посмотрю, назад оглянусь – нейдет мой Проня, не катится. Не сойтись нам ни в полюшке, ни в беседушке, ни на жаркой постелюшке».
Думаю я так, а не заплачу. Закаменела.
Сижу однажды, гляжу в небо синее, небо вышнее. Улицы пустые. Село словно вымерло. На небе ни облачка, ни звездочки. Один месяц стоит большущий, как зеркало, ясный.
И вдруг представилось мне…
Не рассказать, как представилось.
Что слышала, что видела – все смешалось.
Припомнила те дикие горы, те замшелые леса, да бойкие реки, да села и заводы, через которые лег наш трудный путь. Припомнила наши хлебные места, светлые озера, зеленые луга…
Вспомнилось, как один боец, башкир, рассказывал о горящей горе. Растет на ней вишенье, а на одном склоне мертвым-мертво, из трещин идет жар сухом. Ночью в непогоду светит он красным заревом. Бьет из горы лечебная живая вода.
Да мало ли чудес у нас!
Есть ли где еще на свете такая земля? Родит ли так?
Есть ли где еще на белом светичке такие богатства? Чудеса такие?
Дай-ка все богатства народу!
До сей поры как народ надсаживался, как израбливался! Углежоги да шахтеры-угольщики чернедью харкали. Мраморщики от чахотки гибли. Малахитчики – зеленые бороды – тоже в могилу глядели. А на горячей работе, а на кудельке, а на каменной ломке – разве не изводился народ?
Дай-ка ему все богатства! Всем хватит, все будут сыты, заживут чисто и весело. Всяк для себя в охотку потрудится.
Вот за что мой Прокопий шел.
Разве бы мы с ним не пробились вдвоем-то? Разве бы не заробили для себя?
Он за всех боролся.
Первый раз это до самого сердца дошло.
Слышу, в груди отмякло, оттаяло, поднялось к горлу и хлынуло слезами.
Плачу и думаю: «Потружусь для народа. Мне ничего не надо. Мое что было – все кончилось».
И тятя почему-то припомнился… Как, умирая, он скелет свой продавал.
А самой все легче, легче. Ровно воссияло передо мной, ровно небо передо мной открылось.
Наутро иду к товарищу Таланкину.
– Пошлите меня разведчицей или в лазарет, за ранеными ходить.
Послали меня в лазарет.
XII
Кто как хочет, пусть так и думает. Я понимаю, что когда женщину на самолет, на машину допускают, доверяют ей, – это нам, бабам, почет. А все же мое мнение такое: на войне первое наше место – в лазарете. Я пришла в лазарет санитаркой ничему не обученная, а с первого же дня повела себя так, точно веки там была. Сердце всякого изучит, к кому как подступиться. Конечно, наклейку на лекарстве прочитать или капли в глаз пустить – это не умела. А вот пульс, к примеру, научилась смотреть. У самой у кисти жилочку нащупай, надави и слушай пальцами. Если больной в жару, она скоро-скоро колотится, с напором, а перед смертью – чуть слышно, тоненько.
Если больной затужит, растоскуется, его лекарствами не поправишь. Вот тут мы, бабы, и нужны. Сумей его разговорить, успокоить, обнадежь его. Больной человек – что ребенок, обидеть легко и утешить нетрудно. Одному я по всей ночи сказки рассказывала, а с другим все об его жене разговаривала. Я ее похвалю, он и рад. Да всего не вспомнишь.
Сколько их перемерло на моих руках! Каждого обряжу, уберу, каждого жалко.
Писем одних сколько накопилось. Читала я в то время, можно сказать, между черным бело-то, а писала совсем худо. Но все же много писем писала.
Послать их по адресу было нельзя. Мы стояли тогда под Глазовом, а бойцы родиной сами с Урала. Их родные места в то время были заняты белыми. Но я выполнила свое обещание. Как только Урал освободился, я послала все эти письма. И приписочки от себя сделала: когда помер, кому перед смертью кланялся, кого вспоминал.
Ну, о том, как на Урал приезжали товарищ Сталин с товарищем Дзержинским, как измену искоренили да как наши в наступление пошли, – вы лучше меня знаете.
Я все время в лазарете пробыла. И Игренька мой при лазарете работал. Продукты возил и все, что придется.
В марте заразилась я тифом, слегла. От жару у меня выкидыш случился, думали – не встану. Но я – живучая, все это перенесла, и в июне меня выписали из палаты.
Поправлялась я плохо. Тиф повлиял на сердце и на ноги – ноги опухли. Комиссия признала меня негодной. Велела мне ехать домой и хлопотать пенсию.
Запрягла я Игренька, попрощалась с персоналом и поехала. Тележонку мне дали.
Долго ли, коротко ли ехала… Под Пермью догнала свою часть. Азинская дивизия уже освободила Екатеринбург и наши родные места. Вместе со своими я дошла до Екатеринбурга.
По страшной дороге мы шли. Мосты сломаны, пути разобраны, стоят пожарища, лежат вверх ногами вагоны да паровозы. Вот она какая разруха-то! Страшное это дело, не приведи бог видеть!
Но бойцы шли весело.
Лето выдалось ведренное, дождички шли вовремя. Все кругом ярко зеленело, и все будто радовалось нашей победе. А я ехала невеселая. Еще одно горе прибавилось: сказали мне, что Андрюша под Глазовом убит.
В Екатеринбурге мы попрощались. Наша часть по железной дороге за Тюмень пошла, а нам с Игренькой оставалось еще двести верст до своей Слободы.
На прощанье наши слободские поклонов надавали, а Микиша наказал:
– Давай езжай! Напиши нам, что осталось и как идет работа и кто саботажничает.
Он выправился, такой стал ловкий, статный. Я ему говорю:
– А помнишь, у тебя рука дрожала, мой утюг на весу держал?
Прослезились мы оба, замолчали, потом он сказал:
– Так пиши, Павла Андреевна! Мы и издали оберегать тебя будем.
И руку мне крепко сдавил, потряс.
Пошли знакомые места. И хоть никто меня не ждет, хоть еду к пустому дому, а хочется скорее приехать, все будто кто-то подгоняет. Остановлюсь, покормлю Игренька – и дальше.
Вот и Елань – осталось двадцать верст. Вот и речка Межница, что на десятой версте. Вот и наша Слобода.
Меня прямо кидало в жар и холод, не помню, как въехала в село. «К бабушке Минодоре, больше некуда». Еду мимо своей избушки. Игренька заржал, приворачивает.
– Нет, батюшко Игренюшко, не домой, – говорю ему и погоняю.
А ему неохота, пошел шагом. Поди, думает по-своему: «Мимо дома проехали, неужто опять колесить по худой дороге?»
Своротила в переулок, вижу – ребята играют. С ними бегала и Андрюшина дочка Маруся. Бежит с вертушкой – с трещоткой против ветра. Ребята кричат ей.
– Вот твоя мама едет.
А я Марусю сразу и не узнала: она подросла, вытянулась, волосы стали длинные. Девке семь лет стукнуло.
Я остановила Игренька. Маруся кинулась ко мне, но тут же встала, как вкопанная.
– Ой, это не мама. И заплакала.
Вижу, ребенок не в обиходе. Спрашиваю:
– Бабушка-то здорова ли?
Маруся еще пуще заревела. А ребята вперебой мне рассказывают, что Марусина бабушка недавно умерла и что Марусю скоро в приют повезут.
Я соскочила с телеги, обняла ее, волосенки отвела от лица. Она спрашивает шепотком:
– А скоро моя мама приедет?
– Я твоя мама, – говорю ей.
– Нет, ты – тетя Паня.
Я говорю:
– Мама твоя не скоро приедет. Велела тебе со мной жить. Пойдешь? Я тебя любить буду.
Она вот так головкой качнула: не то «да», не то «нет».
Я взяла ее под мышки и посадила на свою телегу.








