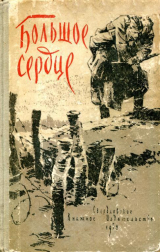
Текст книги "Большое сердце"
Автор книги: Борис Рябинин
Соавторы: Олег Коряков,Олег Селянкин,Ефим Ружанский,Лев Сорокин,Елена Хоринская,Николай Мыльников,Юрий Хазанович,Николай Куштум,Юрий Левин,Михаил Найдич
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Я и сам увидел на снегу четкий свежий след солдатских сапог.
Мы вошли во двор. Дверь в сени была не заперта. Зато другая дверь, обитая клеенкой и войлоком, надежно защищала вход. Пришлось постучаться.
– Кто там? – послышался женский голос.
– Откройте, пожалуйста.
– Кто вы такие?
– Откройте! – повторил я тверже.
Звякнул массивный крючок, дверь открылась. На пороге стояла девушка лет двадцати трех, небрежно причесанная, в халатике и тапках на босу ногу. Прищурившись, она старалась разглядеть нас.
– Кто вы такие будете?
Не отвечая на вопрос, я шагнул в комнату. Николенко последовал за мной.
Зудов мог предположить все, что угодно, но нашего появления он не ждал. Он настолько опешил, что даже не пошевельнулся. Щеки его побледнели, глаза широко открылись.
Своим приходом мы прервали только что начавшийся ужин. На столе, позванивая крышкой, бурлил электрочайник. На мелкой тарелке лежали конфеты, на тарелке побольше – кусок колбасы, несколько ломтиков хлеба.
Нюра уже поняла свою оплошность и, закусив губу, молча наблюдала за нами.
– Встать! – приказал я Зудову.
Он повиновался.
– Застегните ворот!
Он выполнил приказание и снова замер, опустив руки по швам.
– Товарищ старшина, – обратился я к Николенко, – доставить Зудова в расположение батареи.
Старшина козырнул и щелкнул каблуками. Затем, повернувшись к Зудову, сделал рукой вполне понятный жест – собирайся, мол, живо. Зудов шагнул к вешалке.
По-видимому, еще ни разу в жизни не приходилось ему так очевидно быть застигнутым врасплох. И если полчаса назад он, может быть, мнил себя героем, когда, торопясь и озираясь, перелезал через ограду части, то сейчас и сам себе и своей знакомой он казался маленьким и бессильным.
Я уловил во взгляде трамвайной кондукторши еле заметную иронию, когда ее кавалер, не попрощавшись, не взглянув на нее, скрылся в сопровождении старшины за дверью.
– Ну что ж, – сказал я и, пройдя к столу, снял шапку. – Чай готов. Может быть, хозяйка пригласит на стаканчик.
Нюра попробовала улыбнуться.
– Садитесь, пожалуйста.
Зябко скрестив на груди руки, она отошла к печке и прислонилась к ней.
Я сел.
Трудно, конечно, догадаться, о чем она думала в этот момент. Во всяком случае, чувствовала она себя достаточно неловко. И вряд ли судьба Зудова беспокоила ее сейчас. Я спросил.
– Вы что же, замуж за него собираетесь?
Нюра повела худеньким плечиком и хмыкнула. По-видимому, ей не терпелось доказать свою непричастность ко всему, что здесь произошло.
– Нужен он мне… – проговорила она с явной недоброжелательностью по отношению к Зудову.
– Почему же тогда приглашаете?
– А я не приглашала. Сам пришел…
«Что же тянет сюда Зудова?» – думал я, разглядывая довольно убогую обстановку комнаты: две бумажные розы сомнительной свежести, засунутые за плакат о пользе сберегательной кассы, аляповатый клеенчатый коврик над кроватью с изображением какой-то целующейся пары на фоне коричневых деревьев и бледно-розового замка. Все это достаточно говорило о примитивных вкусах хозяйки. Зудов же казался мне более развитым, более разборчивым… И все-таки он ходил сюда, даже самовольно отлучаясь из части… Да, есть на свете почти необъяснимые явления. Безусловно, ни о какой дружбе, а тем более любви, здесь не могло быть и речи.
На подоконнике мое внимание привлекла искусно выпиленная из толстой фанеры рамка для фотографии. Затейливый узор, незаурядное мастерство. Эта рамка никак не гармонировала с общим стилем комнаты.
Нюра перехватила мой взгляд и брезгливо скривила губы.
– Можете взять. Подумаешь, подарок. Барахло всякое…
Она явно боялась меня и твердо решила во избежание каких-либо неприятностей отмежеваться от Зудова. На всякий случай я уточнил.
– Значит, это он вам подарил?
– Он, он. Не нужно мне. Забирайте.
Я встал и надел шапку.
– Вот что, Нюра, – проговорил я внушительно. – Советую серьезней относиться к своим знакомствам. То же самое я постараюсь объяснить и Зудову.
Нюра промолчала.
– Вот так! Прощайте.
…В тот же вечер я доложил о случившемся командиру части. Мы долго с ним говорили и нашли, как мне кажется, правильное решение.
9 марта.
Я не наказал Зудова в тот вечер. Не вызвал его к себе и на другой день. Со стороны могло показаться, что ничего не произошло. Но Зудов, как я понимаю, не мог отделаться от щемящего чувства неизвестности.
Раньше все было просто. Он нарушал дисциплину. Его распекали по всем правилам. Объявляли внеочередные наряды или арестовывали. Словом, все шло обычным порядком. Теперь же все резко переменилось. Во-первых, Зудов не мог не понимать, что допустил грубейший воинский проступок, но, неизвестно почему, никто не кричит на него, никто не наказывает. Во-вторых, в отделении разведчиков, в котором числился Зудов, во всей батарее не нашлось ни одного человека, кто хотя бы взглядом выразил Юрию симпатию или сочувствие.
Шила в мешке не утаишь. Все воины отлично знали, что Зудов ходил в самовольную отлучку. Неведомо откуда знали они и о бесславном завершении этого похождения. Я сам краем уха слышал, как солдат Сизов – наш батарейный весельчак – живо описал эту историю в таких подробностях, каких и не было на самом деле. Дружный хохот прерывал каждую фразу Сизова. Трамвайная кондукторша в его переложении выглядела чуть ли не-гоголевской Солохой, а сам Юрий смахивал на того дьячка, который искал спасения за ее юбкой.
Надо полагать, не только я, но и Зудов слышал все это.
Он уже не мог отделаться от мысли, что где-то за его спиной сгущаются тучи – решается (и, видимо, совсем необычно) вопрос о наказании. А рядом потешались солдаты, повторяя на все лады его имя. Положение, прямо скажем, было не из приятных. За сутки Юрия так перевернуло, что трудно было узнать в нем прежнего самоуверенного Зудова. Он побледнел, щеки ввалились.
Сержант Подгорный доложил мне, что Зудов почти всю ночь не спал. Несколько раз поднимался, уходил в уборную и там курил…
На следующий день я был в городе, покупал подарки своим женщинам к 8 марта. Аннушке – отрез на платье, малышке – большую куклу с закрывающимися глазами.
В магазине случайно столкнулся с Нюрой. Она шла об руку с каким-то пестро одетым парнем и громко смеялась, но, заметив меня, вздрогнула, сделала вид, что не узнала, и поспешила затеряться в толпе…
Вечером в клубе состоялся концерт. Личный состав моей батареи был в зале. Ребята аплодировали горячо и задорно нашим артистам из коллектива художественной самодеятельности. Настроение у всех было праздничное.
Подошел капитан Никифоров. До него, без сомнения, тоже дошел слух о проступке Зудова. Я это сразу почувствовал.
– Как жизнь, капитан? – осведомился он, улыбаясь.
– Так себе, помаленьку… – ответил я спокойно.
– Что-то не вижу среди твоих орлов моего бывшего подопечного. Не заболел ли? – с деланной заботливостью спросил он.
Я принял его тон и сказал сочувственно:
– Ты угадал, Зудов болен.
– Жаль, жаль! Как же это ты не досмотрел за парнем? А? Наверное, грипп?
– Что-то вроде.
– А сколько суток, если не секрет, дал ему на выздоровление?
Намек, как говорится, был достаточно лобовым.
– Видишь ли, – ответил я, пристально глядя на Никифорова. – Как прежний лечащий врач ты, мне кажется, плохо знал историю болезни своего пациента, прописывая ему одно и то же лекарство. А как известно, это вырабатывает в организме невосприимчивость к лечению. Поэтому я несколько изменил рецепт…
В моем ответе, возможно, было много чепухи, с чисто медицинской точки зрения, но с педагогической – вряд ли. Никифоров, во всяком случае, понял, что я хотел сказать, и, проглотив пилюлю, снова улыбнулся, как ни в чем не бывало.
– Никогда не подозревал в тебе таких глубоких знаний. Желаю успеха, – Никифоров подчеркнуто вежливо поклонился и отошел.
А Зудова действительно не было в зале. Перед самым уходом в клуб Сизов при всех ребятах осведомился у Юрия, послал ли он поздравительную телеграмму своей очаровательной кондукторше. Зудова буквально затрясло. Он еле сдержался. Прошел, съежившись, мимо солдат и уединился в комнате политпросветработы.
Я не сделал Сизову замечания. Но, отозвав в сторону сержанта Подгорного, приказал не спускать глаз с Зудова. Затем зашел в комнату политпросветработы.
Зудов стоял лицом к окну, но, услышав скрип двери, повернулся.
– Возьмите это изделие, – сказал я и поставил рамку для фотографии на стол. – Ваша знакомая не оценила подарка и без особого сожаления возвращает…
Юрий быстро подошел к столу, взял рамку, сжал ее, и она с хрустом рассыпалась на кусочки. Затем он опустил руки по швам и вызывающе посмотрел прямо на меня.
– Отлично, – произнес я, выдерживая его взгляд. – В клуб можете не ходить. А этот мусор, – я указал на обломки рамки, – уберите… Впрочем, что касается меня, то я очень высоко оценил ваше умение выпиливать… Возможно, что оно поможет нам со временем еще лучше оформить хотя бы эту комнату.
Сколько противоречивых чувств я прочел в эти минуты на лице Зудова, сколько переживаний! Но удержал себя от дальнейшего разговора и вышел.
10 марта.
В два часа ночи полк был поднят по тревоге. Сильнейший снегопад парализовал работу соседней железнодорожной станции. Нам было приказано расчищать пути.
Вся территория станции была залита светом прожекторов. Снега нанесло столько, что казалось, у вагонов нет колес, просто выстроились на белой равнине ровные улицы стандартных маленьких домиков.
Снегоочистители пробивали дорогу на главной магистрали, а нам надо было воевать со снегом вручную на запасных путях.
Быстро вооружились лопатами, распределили участки. Отделению Подгорного я приказал расчищать снег у депо и поворотного круга.
Фронт работы батареи оказался довольно широким. Только перед утром я пришел снова к депо, чтобы проверить, как трудятся солдаты, и увидел такую картину. Все отделение, в том числе и сержант Подгорный, сложив лопаты, отдыхало, и только один Зудов продолжал отбрасывать снег. Оказывается, Подгорный каждому солдату дал определенное задание и все уже закончили работу. Участок был расчищен от снега, и осталось метров десять нетронутой снежной целины возле самого поворотного круга. Там и работал Зудов.
По всему было заметно, что он выбился из сил. Может быть, сказались волнения последних дней, бессонные ночи. Даже лопату он не мог уже крепко держать в руках.
Я видел, как Юрий, зачерпнув снег, не сумел его отбросить. Лопата вывернулась, и снег упал у ног. Зудов снова нагнулся, снова подобрал снег и опять не донес его до места.
– Почему не поможете Зудову? – спросил я сержанта.
– Пытались, товарищ капитан, – ответил Подгорный. – Он даже слушать не захотел. Сам, говорит, управлюсь.
Я поднял лопату и подошел к Зудову.
Он взглянул на меня и опустил глаза.
– Подгребайте-ка снег, а я буду отбрасывать.
Зудов ничего не ответил и стал подгребать снег. Работа закипела.
Подошел Подгорный.
– Разрешите помочь, товарищ капитан? – спросил он.
– Помогайте!
Отделение дружно кинулось на последний сугроб. Замелькали лопаты.
Зудов вдруг выпрямился и, спотыкаясь о шпалы, быстро пошел к депо.
Подгорный хотел было окликнуть Юрия, но я удержал сержанта, воткнул лопату в снег, пошел следом за Зудовым.
Нашел его в депо. Он стоял, прислонившись спиной к холодной закопченной стене, и тяжело дышал. Шапка сдвинулась на затылок, мокрые волосы прилипли ко лбу. Лицо было перекошено, как от боли. Увидев меня, Зудов медленно отстранился от стены и хрипло произнес:
– Делайте, что хотите, товарищ капитан… Не могу так больше!.. Не могу!
– Прежде всего приведите себя в порядок, – сказал я. – А вечером, после ужина, зайдете ко мне…
* * *
И вот мы снова сидим в моем кабинете. Через дощатую дверь доносится глухой голос Николенко, пересчитывающего саперные лопаты. Завтра выход на тактические учения, и старшина готовит имущество.
Зудов сидит, наклонив голову, водит пальцем по колену, вырисовывая какой-то замысловатый узор, и тихо роняет слова.
– Сам не знаю, товарищ капитан, почему мне хотелось идти поперек. Сейчас понимаю, что глупо… неверно поступал… Мать говорила «пропащий», здесь говорили «пропащий». А во мне бродит что-то… Порою обидно, а порою зло берет, такое зло, всем насолить хотелось… К Нюрке потому и пошел, что ласковое слово услышал. Может, и не от сердца сказала, по привычке, а ласково… Теперь я все понял, товарищ капитан. Хочется мне человеком быть, чтобы уважали…
Он поднял на меня глаза, грустные и честные.
– Верю вам, Зудов, – сказал я негромко. – Верю!.. По закону за совершенный проступок я мог бы вас арестовать. Но, учитывая, что вы искренне раскаялись, заменяю гауптвахту двумя нарядами вне очереди.
Зудов поднялся и даже повеселел как будто.
– Слушаюсь!
Я подошел и, хотя это не положено при таких обстоятельствах, протянул ему руку.
– Последние два наряда, Зудов.
– Последние! – ответил он и улыбнулся, совсем как мальчишка, доверчиво и смущенно.
А. Голицын
СТИХИ
ПАТРУЛИ
Хоть туч и нет, но слышен грохот грома,
Гремит он не из тучи, а с земли:
Со взлетной полосы аэродрома
Взвывают ввысь стальные патрули!
Растаяли, звеня, в лучах рассвета,
Блеснув на солнце огоньками звезд,
Как часовые, в синей дали где-то
Под небосводам заступив на пост.
УТРО
Опустились тучки-парашюты
За далекий синий горизонт,
Загорелось, загремело утро,
Словно там за горизонтом – фронт!
Набежал и кинул ветер резкий
Гул турбин к ангару, будто гром,
Сделав четкий круг над перелеском,
За звеном растаяло звено.
Финишер застыл с флажком сигнальным
У начала взлетной полосы.
Проводив машины в вылет дальний,
Подполковник смотрит на часы.
Командир волнуется немного
И сжимает карандаш в руках:
Тех, кто ныне мчится в облаках,
Вывел он на светлую дорогу.
П. Нефедьев
ДОРОГА К СЕРДЦУ
Очерк
Мне, офицеру штаба округа, по долгу службы часто приходится бывать в летних лагерях. Однажды, возвращаясь со стрельбища в расположение артиллерийского полка, довелось наблюдать довольно необычную картину: между редкими высокими березами не спеша, вразвалку шел огромного роста солдат, сопровождаемый дневальным; пройдя несколько шагов, солдат останавливался, медленно поворачивался назад, монотонно произносил:
– Который раз говорю – не ходи за мной, как теленок, не срами своим сопровождением, дорогу и без тебя найду!
Потом так же медленно поворачивался, шел дальше. Шел и сопровождающий, держась от солдата на почтительном расстоянии.
Заметив меня, арестованный снова обернулся и тихим, умоляющим голосом сказал:
– Не ходи, будь другом, не сопровождай, никуда я не денусь.
Я подошел к солдату, поздоровался. Он был выше маня на целую голову. Воспаленные его глаза смотрели на меня сверху с огорчением. Это был поистине детина. Все на нем казалось явно малым: обшлага гимнастерки находились совсем не на месте, туго облегая руки; верхние пуговицы воротника расстегнуты и висели на толстых нитках; брючные наколенники находились выше колен, а из коротких сапожных голенищ виднелись разрезы шаровар. «Вот это богатырь», – подумал я.
– Как звать и величать? – неофициально спросил я солдата.
– Рядовой Медведев, звать Михаилом. А по батюшке Иванович, – так же неофициально ответил солдат.
– Заработал, значит?
– Заработал, пятерку получил.
– За что же?
Медведев замялся, переступил с ноги на ногу. Под его сапогами треснули сухие ветки.
– За дело, конечно, не зря же… Одному бы идти – еще туда сюда. А с ним (он кивнул на дневального) – терпенья нету. Легкое ли дело через весь лагерь под конвоем шагать? Глаза ни на что не глядят. Говорю ему – не ходи. Дорогу найду. Ходил уже, знаю…
– Значит, не первый раз?
– Третий. Первый раз двое суток отбыл. Потом трое. А теперь на пять иду.
– Этак все лето на гауптвахте пробыть можно?
Медведев чуть заметно улыбнулся. Потом сказал.
– Выходит, так. Хлопцы дела делают, а я на губе отсиживаюсь…
На этом мы и расстались. Всю дорогу меня не покидали размышления о Медведеве. Было ясно, что человек он разболтанный. Ведь не будет же командир батареи систематически наказывать человека из-за какой-либо неприязни к нему. Арест – серьезный шаг. И, чтобы сделать его, нужны веские основания. И их не может не быть у командира. В то же время в суждениях Медведева проскальзывали здоровые нотки. Он тяготился своим положением, наверное, искал выхода, но не находил его.
С командиром пятой батареи капитаном Банниковым я встретился в тот же день, под вечер. Учеба уже закончилась, и мы могли подробно обо всем поговорить.
Я спросил капитана, что он может сказать о рядовом Медведеве.
– Это же невыносимый человек, товарищ подполковник. Разгильдяй первой марки. И как таких земля носит! Ни с чем не считается, упрямый, как бык. Зачем только таких в армию берут!
Капитан волновался. Он откусывал промокший мундштук папиросы, сплевывал небольшие обрывки, как шелуху семечек.
– Невыносимый, говорите?
– Именно, товарищ подполковник. Прихожу как-то в батарею – старшина докладывает, что Медведев на дневальстве уснул. «А что, говорит, тут страшного. Кого, говорит, нам бояться в своей стране – шпионов, диверсантов? Они, говорит, не дурак», чтобы ночью по лагерю ходить». Вы посмотрите, какое разгильдяйство!.. Приказал старшине арестовать Медведева на трое суток… Батарея имела все шансы за первый месяц лагерной учебы выйти на первое место в полку. А тут такой сюрприз… Позавчера приказание командира расчета не выполнил. Спрашиваю его: «До каких пор вы будете разгильдяйствовать и дисциплину нарушать? Ни стыда, ни совести, говорю, у вас нет! А он и ухом не ведет. «Ничего, говорит, особенного я не сделал». Пришлось наложить арест… Скажите, товарищ подполковник, что с таким человеком делать?
– Вам, капитан, никогда не приходилось разговаривать с Медведевым?
– Что с ним разговаривать, все равно бесполезно. Вот посидит под арестом, так узнает, что такое служба… С такими не разговаривать надо, а требовать, да так, чтобы дрожь до пяток пробирала…
Капитан вдруг быстро встал и, извинившись, отошел к палаткам.
– Это что еще такое?! – послышался его громкий голос. – Немедленно убрать, разгильдяи!..
Я подумал, что слово «разгильдяй» – любимое в лексиконе капитана: он употребляет его без меры, употребляет и в единственном, и во множественном числе, не задумываясь над тем, к месту оно сказано или просто по привычке. Прилипчивым и оскорбительным показалось мне это слово.
Капитан вернулся, и мы смогли продолжить нашу беседу. Волнение в нем еще не улеглось, и он снова закурил.
– Даже мусора не могут убрать как следует, несли и рассыпали.
– Вот вы о требовательности говорили, товарищ капитан. Требовать надо. Это, пожалуй, самое главное в работе командира. Но требовательность не может жить без своей сестры, которую мы называем заботой, заботой о людях. Требовательность сама по себе нередко превращается в голое администрирование. В сочетании с заботой о людях, она, пожалуй, ни с чем не сравнимая сила. Иной солдат переживает чувство обиды не потому, что требуют. Он удручается тем, что о нем забывают. Да, именно, забывают как о человеке, с его чувствами и собственным достоинством.
Банников промолчал. И не понятно было, согласен ли он со мной. Скорее всего – не согласен. Но я и не пытался убедить его и тем более навязывать свое мнение. Хотелось лишь вникнуть в суть дела, понять сложившиеся отношения.
Я спросил капитана, не может ли он рассказать, где Медведев родился, чем он до призыва в армию занимался, кто его родители?
– Да, рассказывали о нем… Кто это мне говорил?.. А, вспомнил, сержант Колосков, земляк Медведева. Оба они из Сталинградской области. Колосков рассказывал, что Медведев долгое время беспризорничал. Да это и похоже. Потом учился, работал… Мне кажется, – заключил капитан, – вольной жизнью жил человек, не был в мялке, как говорят. Вот теперь и выкидывает фортели разные… Если можете, товарищ подполковник, помогите избавиться от Медведева. Пусть откомандируют его из батареи. Видеть его не хочу!
Я посоветовал капитану не горячиться. Горячность вредна в любом деле, а в военном – тем более. Мудреное ли дело отчислить солдата? Приказ – и делу конец! Но, выходит, расписался человек в собственном бессилии и немощи…
– Сдается мне, товарищ капитан, что с Медведевым надо поработать, повозиться… Попробуйте-ка потолковать с ним не языком сурового начальника, а языком отца. Может быть, в этом путь к сердцу Медведева… Кстати, попытайтесь переодеть солдата. Сапоги, гимнастерку, брюки по росту подберите.
Капитан не сказал мне при этом ни обычного в таких случаях «слушаюсь», ни «будет сделано». Да и не было в этом необходимости.
– А знаете, товарищ подполковник, – обратился капитан, – не поговорить ли нам с земляком Медведева, сержантом Колосковым?
Я искренне обрадовался этому предложению, видя в нем хорошее предзнаменование. Капитан угадал мои мысли. Мне теперь нужен был именно сержант Колосков.
* * *
Колосков оказался довольно разговорчивым и рассудительным человеком. То, что рассказал он нам о Медведеве, невозможно забыть. Оказывается, Медведев – круглый сирота. Его отец в июле 1941 года ушел на фронт и в первых же боях сложил свою голову. В воображении шестилетнего Миши отец был непобедимым. Высокий, сильный, он казался Мише великаном, о которых пишется в сказках. Миша думал, что такого богатыря не возьмет ни пуля, ни бомба. И вот – на тебе! Отца не стало. Несколько дней видел мальчик слезы матери и порой, не вытерпев, забирался на чердак дома и подолгу плакал сам. А вскоре, при отступлении, Миша потерял и мать. Восприимчивая детская память навсегда запечатлела разбойные налеты вражеских стервятников на колонны отступавших людей, треск пулеметных очередей, потрясающие разрывы бомб. При очередном таком налете Мишина мать бросилась с дороги в сторону и упала, как подкошенная…
Все годы войны Миша с такими же, как он, осиротевшими ребятами скитался по разным местам. Беспризорная жизнь глубоко изранила детскую душу, и эти раны долгие годы давали о себе знать, проявляясь в беззаботности, непослушании, упрямстве, болезненном отношении даже к полезным советам. Миша забыл о родительском внимании и ласке, стал черствым, раздражительным мальчиком.
Когда война кончилась, Медведев некоторое время находился в детдоме. Потом работал учеником в небольшой сапожной мастерской. Мастер, с которым ему пришлось работать, был резким и грубым человеком. Он никогда не интересовался, как Миша живет, что думает делать в дальнейшем. Мастер знал одно – побольше заработать.
Так прошли годы до призыва в армию. Вполне взрослым Михаил Медведев почувствовал себя только на медицинской комиссии. Военный врач, низенький и полный, внимательно осмотрев новобранца, сказал: «Медведев, говоришь? Похоже, похоже, детинушка. Добрый солдат будет из тебя. Годен по всем статьям. Иди, брат, служи верой и правдой!» С мыслью «быть добрым солдатом» Медведев прибыл в часть.
– На службу в армии Медведев большие надежды возлагал, – продолжал Колосков. – Теперь, говорит, развернусь, покажу свою силу… А вышло не так, как думал. С первых дней пошло все наоборот, шиворот-навыворот. Кто в этом повинен – сказать трудно… Помню один случай, после которого Медведев стал неузнаваем. Шли мы в парк на уборку. Впереди Медведев. Шагает редко, размашисто, шаг широченный, по метру. Трудно к такому шагу пристроиться. Старший сержант Мухин подошел к Медведеву и со злостью сказал: «Эй, ты, дылда, отрастил ноги, а управлять ими не умеешь. Иди как следует». Медведев крепко обиделся на эти слова. Ничего не сказал, но как-то сразу осунулся весь и посерел. И улыбка с лица его исчезла, и вялость в нем появилась, точно после тяжелой болезни. А тут этот случай с дневальством. Вздремнул, конечно, это ясно. Наказать надо было. Но так, чтобы Медведев понял, что правильно наказан. А он не понял, потому что толком ему никто не объяснил… Обида в человеке – что инфекция. Не обрати на нее внимания – она так разгуляется, что не сразу удержишь. Вот в Медведеве и сидит эта обида… Он все свое детство прожил без хорошего ласкового слова… И у нас такого слова не услышал…
Мне понравилась рассудительность Колоскова – искренняя, смелая и, как видно, правдивая. Я подумал: действительно, в жизни бывает так. Люди далеко не одинаковы по своей восприимчивости. Одни на грубость не обращают никакого внимания. Может, по привычке. Другие возмущаются, выражают свою неприязнь к ней открыто и порой тоже грубо. Третьи воспринимают ее болезненно, даже теряются перед грубостью, ждут возможности хоть как-нибудь отомстить за нанесенную обиду.
Пока Колосков рассказывал о Медведеве, капитан не проронил ни слова, выкурил две папиросы. И когда кончилось это повествование, он глубоко вздохнул, словно хотел освободиться от какой-то невидимой тяжести, давившей его.
* * *
Служебные дела не позволили мне еще раз встретиться с капитаном Банниковым. На следующий день я был вызван в штаб округа. Вскоре пришлось уехать в один из отдаленных гарнизонов и пробыть там почти месяц. Время приближалось к осени, лагерный период закончился, и мысли мои о Медведеве, которые так неотступно преследовали вначале, постепенно отдалялись, и я в конце концов забыл об этом солдате. Да это и не удивительно. Мы, штабные офицеры, мало касаемся подобного рода жизненных явлений. Нас интересует больше всего состояние дел в масштабе подразделений, частей в той или иной области боевой подготовки…
Как-то зимой вместе с газетами на мое имя принесли небольшой пакет в синем конверте. Вскрыв его, я немало был удивлен. Это писал капитан Банников.
«Уважаемый товарищ подполковник!
Извините, что отвлекаю вас от важных дел. Но я не мог вам не написать. Ваш разговор со мной навел на многие размышления. Действительно, непонимание между людьми создает серьезные препятствия и в отношениях, и в работе. Почему оно возникает? Потому что мы, командиры, занятые по горло служебными делами, за общим числом людей не замечаем порой отдельного солдата. Чем он живет, о чем думает, о чем мечтает. Эта, можно сказать, вторая и очень важная сторона дела остается для нас подчас неизвестной. Помните, вы спросили меня о Медведеве? А я о нем ничего путного не мог сказать. Если бы я знал о нем все, что положено мне знать, если бы я хоть раз поговорил с ним как старший товарищ, как друг, вам, наверное, не пришлось бы так долго убеждать меня.
После Вашего отъезда говорил с Медведевым. Ваши предположения оказались верными. Какая все же большая сила таится в живом слове, в товарищеском обещании. Я понял, что любого человека поднять можно при помощи этих средств. Медведев встанет на ноги. Точно говорю.
Спасибо, товарищ подполковник, за советы. Надеюсь, еще встретимся».
Свидеться нам довелось. Это случилось через год, когда мне снова пришлось быть в лагере. Дни стояли знойные, и только по вечерам западный ветер приносил прохладу.
На третий день своего пребывания в лагере я решил сходить на батарею капитана Банникова. Вот знакомая мне небольшая лощина, поросшая мелким кустарником, вот кудрявый березняк, а за ним по опушке небольшой густой рощи раскинулся лагерь артиллерийского полка. Перед фронтом полотняного городка, в артпарке стоят дальнобойные орудия. Их стволы, словно колодезные журавли, устремлены в небо. Меня поразила необыкновенная чистота в лагере. Все линейки посыпаны желто-красноватым песком. Белые палатки, ружейные парки и другие помещения в сочетании с зеленью и цветами радовали глаз. У полкового клуба мое внимание привлекла Доска отличников. Один портрет показался очень знакомым. Это был Медведев. Из текста под снимком я узнал, что рядовой Михаил Медведев – отличник учебы и службы, инициатор социалистического соревнования за чистоту лагерного городка. Кратко и скупо рассказывалось и о других хороших поступках молодого солдата, который проявил себя и в караульной службе, и в огневой подготовке, и в общественной работе.
Неужели произошло то, о чем когда-то мечтал Медведев, – «быть добрым солдатом»?
Дежурный по батарее сказал мне, что весь личный состав находится в парке, и я отправился туда. Капитан Банников, увидев меня, поспешил навстречу. Мы поздоровались.
– Давненько не были у нас, товарищ подполковник, – сказал капитан. И, не дождавшись моего объяснения, сообщил, что сейчас состоится комсомольское собрание батарейной организации, на котором будет разбираться заявление Медведева.
– Тот самый Медведев вступает в комсомол? – спросил я.
– Да, тот самый Медведев, – подтвердил капитан.
Когда мы подошли к артиллеристам, они дружно встали. Медведев сразу обнаружил себя своим ростом – высокий, стройный, на целую голову выше своих товарищей.
Собрание началось. После обычных формальностей, какие бывают в таких случаях, к столу подошел секретарь комсомольской организации, зачитал заявление Медведева и анкетные данные. Потом слово было предоставлено Медведеву. Он коротко пересказал свою жизнь. Казалось, вот и все. Но Медведев не уходил. Видно, он хотел еще что-то сказать.
– А последний год моей биографии, – заговорил он после продолжительной паузы, – у всех у вас на виду. Вначале служба моя неладно шла. Несколько раз нарушал воинскую дисциплину. Взыскания за это получал серьезные. Вы можете спросить: почему так вел себя? Много думал над этим вопросом, ломал голову. И вот что могу сказать. Перво-наперво, сам виноват. Не сумел побороть в себе обиду, сидела она во мне, как заноза. Виноваты и вы, мои товарищи. Обиду нанес мне Мухин. А вытравить ее сразу никто не помог…
Дело это прошлое, давнее. Можно было бы и не говорить. Но сегодня, в такой день, надо сказать все.
Мне думалось, что вот сейчас раздадутся голоса: «все ясно», «есть предложение принять». Проголосуют – и делу конец. Я ошибся. На собрании долго шел откровенный и довольно поучительный разговор.
Небольшого роста солдат, выступивший первым, сказал, что по своему поведению Медведев уже давно находится в среде комсомольцев, что у него только не было комсомольского билета.
Потом выступил старший сержант Мухин.
– Что правда, то правда. Нанес я обиду Медведеву. Признаюсь в этом. И верно говорится, что язык мой – враг мой. Иной раз погорячишься и болтнешь такое, что и самому потом тошно становится. Но так было тогда, кажется, в последний раз. Медведев – мой подчиненный. И если отбросить первые дни его службы, все остальное время он был примерным солдатом. Кто у нас в батарее самый сильный и выносливый? Медведев. Кто лучше всех умеет беречь оружие? Медведев. А кто о товарищах не забывает в трудную минуту? Опять же Медведев. Я за то, чтобы принять такого человека в наши комсомольские ряды.
– Мне дайте слово! – поднимаясь с места, сказал рядовой Битуев. Битуев (как узнал я позднее) по национальности бурят и в своих суждениях был прямолинеен и резок.











