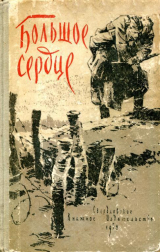
Текст книги "Большое сердце"
Автор книги: Борис Рябинин
Соавторы: Олег Коряков,Олег Селянкин,Ефим Ружанский,Лев Сорокин,Елена Хоринская,Николай Мыльников,Юрий Хазанович,Николай Куштум,Юрий Левин,Михаил Найдич
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
V
Рана у Федора Орешина оказалась легкой. Недели через три он явился из медсанбата снова в свою часть, прошел с ней до Кенигсберга и опять был ранен, на этот раз тяжело. С загипсованной ногой его увезли лечиться в глубокий тыл. И случилось так, что попал он в госпиталь, расположенный около станции, до которой ехал домой Кузовлев.
Но Орешин не знал адреса Кузовлева, а помнил только область, откуда тот был родом. Поэтому ему и в голову не пришло разыскивать здесь своего боевого товарища.
Война огненным валом давно уже катилась по вражеской земле и, видать, заканчивалась. Но Федор Орешин все еще жил думами и чувствами фронта, пока не повернуло, их в другую сторону одно небольшое событие.
В палату пришли раз в воскресенье шефы – две девушки из ближнего колхоза «Рассвет». Надев халаты, они несмело ходили от одной койки к другой, тихонько разговаривая с тяжело раненными. Каждому из них девушки доставали из плетеной корзинки бумажные свертки со свежими продуктами, оставляя их на тумбочках. Среди раненых много было колхозников, и они жадно начали спрашивать девушек, как идет в колхозе сев, хороши ли нынче озимые, много ли вернулось с фронта людей…
Орешин внимательно прислушивался к разговору, хотя и мало понимал в колхозных делах. Его особенно поразило, что в колхозе сеют вручную. Оказывается, некому починить сеялки. В МТС не хватает тракторов, некоторые из них поломались, а запасных частей нет, и поэтому в колхозе пашут на лошадях.
– Кто же у вас пашет? – спросил Орешин у высокой девушки с карими глазами.
– Мы и пашем… – смущаясь и робея, сказала она.
– А сеет кто?
– Да опять же мы… – засмеялась девушка, – старикам одним не управиться, так мы у них выучились и сеем.
Она все запахивала большими обветренными руками халат, очевидно, стараясь скрыть под ним полинявшее, заношенное платье. Туфли у нее были старые, уже стоптанные, а худые чулки заштопаны и зашиты в нескольких местах.
Подумав, что девушка, собираясь сюда, надела, наверное, все лучшее, Орешин тяжело вздохнул и молча сел на койку. Что-то сдавило ему горло, мешая дышать.
А она стояла рядом и весело рассказывала, как училась пахать и сеять, потом с гордостью заявила, что их комсомольское звено получило самый высокий урожай по району.
– Как вас зовут? – спросил Орешин, невольно улыбнувшись.
– Марусей.
К ней подошла толстенькая кудрявая подружка, они попрощались вскоре со всеми и ушли.
В палате долго молчали, потом кто-то вздохнул восхищенно:
– Геройские девушки!
А худенький рябой солдат, перекатывая на подушке круглую бритую голову, чтобы видеть лица соседей, совестливо заговорил:
– Трудно им. Мы, мужики, лежим вот тут, нас кормят, одевают, ухаживают за нами, как за малыми ребятами. А они, девчата эти, да бабы одни почти в поле бьются…
Задумался, глядя в окно, и улыбнулся вдруг светло.
– Без Маруси мы, братцы, пропали бы! Она нам и оружие делает, и шинели шьет, и хлебом кормит… Меня, раненого, санитарка из боя вынесла. И всего-то ей лет двадцать, курносенькая такая, волосы, как лен. Спрашиваю: «Как тебя, милая, зовут, чтобы знать, кому жизнью обязан?» – «Марусей. А ты, говорит, молчи и лежи тут, а я за другим пойду». Ну, отвезли меня в медсанбат. Там попал я в руки хирургу. Лица не разглядел под маской, только вижу – женщина. Глаза большущие такие, строгие… Быстро она со мной управилась да так ловко, что я диву дался. А медсестра мне и говорит: «Нечему удивляться. Наша Мария Петровна, говорит, восемьсот операций уже сделала. Вот она у нас какая!» Ну, приехал я сюда, в госпиталь, и опять в Марусины руки попал. Няня Маруся вымыла меня, в кровать уложила. Другая – Мария Тихоновна – осколок мне из ноги достала…
– Нет, братцы, без Маруси мы – никуда! Ей бы, этой самой Марусе нашей, памятник поставить! Про нее бы песню сложить да спеть так, чтобы за сердце брала! Жалею горько, бесталанный я: не умею ни складывать песен, ни петь!..
Но песня про Марусю нашлась, хоть и не такая, о какой мечтал рябой солдатик, но душевная. Ее тихонько запели в углу двое пожилых солдат. В палате все призадумались, притуманились сразу, вспоминая кто жену, кто невесту. И вот уже вся палата запела, каждый встречал в песне свою любимую:
Здравствуй, милая Маруся,
Здравствуй, светик дорогой,
Мы приехали, Маруся,
С Красной Армии домой.
А ты думала, Маруся,
Что погиб я на войне,
Что зарыты мои кости
В чужедальней стороне…
Долго не спал Орешин в эту ночь. А утром пошел к начальнику отделения.
– Прошу, товарищ майор, в колхоз часика на три отпустить, тут – совсем рядом. По ремонту хочу помочь, слесарь я.
Майор, грузный старик с белой щетинистой бородой, суровый на словах, но добрейшей души, молча осмотрел у Орешина ногу:
– Хоть пляши, – бодро сказал Орешин, крутя ногой.
– Что мне только с вами делать? Одиннадцатого сегодня отпускаю: кого в колхоз, кого на завод, кому, видите ли, доклад в цехе нужно читать, кому ремонтом заниматься… Еле ходят, а туда же! Ох, подведете вы меня под трибунал! И закричал сердито:
– Идите, да чтобы к ужину быть здесь!
Дорогу в колхоз указала Орешину женщина, ехавшая мимо госпиталя в телеге.
– Это в Курьевку, что ли? Прямо проселком так и ступайте, потом направо.
Орешин пошел проселком.
Пьяный от свежего воздуха и ослабевший от ходьбы, он добрался до колхоза часа через два. Отдохнув минут десять у околицы на траве, пошел переулком, приглядываясь, у кого бы спросить, как найти председателя. И вдруг остановился, словно его толкнули в грудь. На задворках, где чернели огороды, происходило что-то невероятное. Грузный черный старик в полосатой рубахе, босиком, тащил по земле за ручки плуг. Ему помогали две женщины, взявшись за постромки, – одна молодая, с высоко подоткнутым подолом, другая постарше, с темными руками и лицом, словно пропеченная на солнце.
Подняв плуг за ручки и воткнув его в землю, старик хрипло скомандовал:
– Ну, бабы, берись дружнее!
Женщины перекинули постромки через плечо и потянули за собой плуг, увязая в земле.
Когда Орешин подошел к изгороди, они тянули плуг уже обратно. Колесо плуга невыносимо взвизгивало и скрежетало, старик покрикивал на женщин, мелко семеня босыми ногами за плугом по рыхлой борозде…
– Провались оно пропадом! – злобно приговаривала пожилая женщина, напрягаясь так, что жилы на шее у нее вздулись и лицо побагровело.
– Стой! – неистово закричал Орешин.
Все трое остановились и с молчаливым удивлением, даже с испугом, уставились на него.
– Вы… что это делаете?
Старик опустил ручки плуга и неторопливо подошел к Орешину, приглядываясь к нему круглыми ястребиными глазами.
– Участочек свой подымаем, товарищ военный. Лопатой проковыряешься тут неделю… А время-то не ждет! Рассаду высаживать пора, да и картошки тоже хочется ткнуть маленько…
Бледнея от возмущения и внутренней боли, Орешин гневно спросил:
– Но почему же… на себе? Ведь это же, как бы сказать… позорный факт! Ведь люди же вы! Лошадей у вас в колхозе нет, что ли?
Губы его прыгали, руками он судорожно вцепился в верхнюю жердь изгороди.
Старик опасливо покосился было на Орешина, потом улыбнулся виновато, с жалостью глядя ему в лицо.
– Вы не принимайте близко к сердцу, товарищ военный. Все едино ведь, что лопатой, что плугом: и тут, и там хрип гнешь. Стыдно, конечно, а что же сделать? Лошади-то все на севе заняты. Не дают их…
Орешин перебил, его сердито:
– Где у вас председатель?
Повернувшись вправо, старик долго всматривался туда из-под руки.
– Должно, не он ли там, около кузницы…
– Не тот, что в военном?
– Он, он самый…
Подтянув ремень и одернув гимнастерку, Орешин сказал грозно:
– Сейчас мы с ним поговорим. По-своему. По-солдатски.
VI
Плотный, широкоплечий солдат стоял спиной к Орешину около покосившегося навеса и, заложив руки за спину, глядел, как желтоволосый паренек запрягает лошадь в плуг.
– Пошевеливайся, – строго учил его солдат. – Не на гулянку едешь. Войлок-то под седелку подложил? А то холку лошади собьешь. Подпругу крепче подтяни.
Паренек молча и быстро исполнял, что ему говорил старший. Он уже хотел ехать, как солдат опять остановил его:
– Не так я тебя учил постромки завязывать. Завяжи как следует.
Помолчав, спросил:
– Куда пахать-то бригадир наряжал?
– За овражек, – сиплым голосом отвечал паренек.
– Поезжай. Я приду потом, посмотрю.
Заслышав сзади шаги Орешина, солдат оглянулся.
Как только глянул Орешин на широкое, крутолобое лицо с зеленоватыми глазами, так и остановился в удивлении.
– Кузовлев!
Солдат развел руки, радостно улыбаясь.
– Товарищ сержант! Федор Александрович! Жив?!
Они обнялись и расцеловались. Минут пять наперебой расспрашивали друг друга, не успевая отвечать.
Когда первый пыл встречи прошел, Орешин дернул Кузовлева за рукав.
– Садись. Не думал я, что при первой же встрече нам, Елизар Никитич, придется ссориться…
– А что? – встревожился тот, усаживаясь на бревно.
– Как ты мог допустить такой безобразный факт, чтобы колхозники свой огород на себе пахали? Как, спрашиваю?
– Где? – вскинулся Кузовлев.
Орешин молча махнул рукой в сторону задворок.
Обеспокоенно взглянув туда, Кузовлев нахмурился.
– Назар Гущин это. Экой мужик для себя жадный. Да кто его заставляет?!
Орешин насмешливо взглянул на Кузовлева.
– А ты ему лошадь дал, чтобы огород вспахать?
Еще больше нахмурившись, Кузовлев упрямо сказал:
– Лошадей никому не дам, пока колхозную землю не запашем. А Назар Гущин этот не в колхозе дохода ищет, а на приусадебном участке…
– Разве колхозу вред, ежели колхозник дополнительно получит с приусадебного участка?
– Самый настоящий вред, – не сдавался Кузовлев. – Займутся люди своими участками, а колхозную работу упустят.
– Нет, ты меня не убедил, – вставая, сказал сержант. – Я ведь хоть и заводской человек, а колхозный устав читывал. Приусадебный участок колхознику для подспорья даден, как бы сказать, для сочетания личных интересов с колхозными… Вот поэтому должен ты помочь колхозникам вспахать участок. А в это время они пускай на колхозную работу идут.
Кузовлев молча жевал соломинку, тяжело раздумывая.
– Ладно, выделю завтра трех лошадей с полдня. Погляжу, что будет.
– Тогда пойди к Гущину и скажи, чтобы не мучился зря и людей не волновал.
Кузовлев сердито махнул рукой:
– Ладно, так и быть, – и пошел к Гущину.
Вернувшись от него, Кузовлев признался:
– До того я осерчал, товарищ сержант, на этого упрямого старика, что плуг из борозды у него выбросил, а постромки, те аж на крышу закинул…
Орешин посмеялся, но ничего не сказал больше.
– Ну, теперь, товарищ сержант, в гости ко мне прошу, – хлопнул его Кузовлев по плечу. – Пообедаем, со свиданием выпьем маленько…
– Спасибо, – улыбнулся Орешин. – Успеем еще. Я не за этим пришел. Девчата ваши вчера были у нас, сказывали, что сеялки в колхозе стоят. Хочу глянуть, нельзя ли что-нибудь сделать…
– С сеялками беда, это верно! – пожаловался Кузовлев. – Одну хотя бы наладить, а то ведь по старинке из лукошка сеем…
– Показывай сеялки, – хмуро потребовал Орешин. Оба пошли под навес, где валялись разные поломанные машины, побуревшие от ржавчины.
Осмотрев все неисправные сеялки, Орешин решил, что две из них можно наладить сейчас, если для них снять недостающие годные части с остальных. У Кузовлева нашелся гаечный ключ и молоток. Орешин тут же взялся за дело. Хотя от слабости его одолевала одышка, а больная нога «скулила» так, что не раз приходилось садиться отдыхать, все же одну сеялку Орешин исправил довольно быстро.
– Ну и мастерина же ты, Федор Александрович! – дивился Кузовлев, оглядывая и проверяя готовую машину.
Зато с ремонтом другой сеялки получилась заминка: нечем было заменить одну негодную деталь. Совершенно расстроенный, Орешин долго вертел ее в руках, что-то соображая, потом приказал Кузовлеву:
– Разогревай горн. Попробуем сварить…
В маленькой прокопченной кузнице было сумрачно и прохладно, пахло застоявшейся гарью, железом, землей. Посреди кузницы на толстом низком чурбане стояла наковальня, на другом чурбане, врытом в землю, укреплены были слесарные тиски. Растроганно перебирая руками немудрый инструмент, валявшийся в беспорядке около наковальни, Орешин улыбнулся светло и грустно. И такая тоска по родному заводу прилила вдруг к сердцу, что, когда зашумел и застрелял искрами горн, слезы закипели у Орешина на глазах.
Глянув на него, Кузовлев ласково сказал в потемках:
– Настрадался и я, дружок, по земле. Как приехал, неделю по полям ходил, наглядеться никак не мог.
Сварив сломанную деталь, Орешин не утерпел, отковал еще и новую. Пока он опиливал, подгонял и ставил ее на машину, Кузовлев успел сбегать домой, потом к бригадиру – сказать, чтобы вез обе сеялки в поле.
Обедать однополчане пошли усталые, но довольные. Пелагея, жена Кузовлева, высокая и статная, брови дугой, когда-то очень красивая, должно быть, молодо ходила по избе, накрывая стол, и счастливыми глазами взглядывая на мужа. Видно было, что на душе у нее праздник. Да и в доме выглядело все праздничным: на полу пестрели всеми цветами новые половики, около зеркала висело ярко вышитое полотенце, старенькие, но чистые занавески белели на окнах. На столе уже шумел самовар.
– Угощать-то больше нечем, – виновато улыбнулась Пелагея, ставя на стол яичницу. Отперев облупившийся посудный шкаф, она осторожно вынула пузатый графин, на дне которого поблескивала водка.
Поставив графин перед мужем, села поодаль, на лавку, жадно прислушиваясь к разговору.
Однополчане выпили по рюмке за встречу, помянули с грустью лейтенанта Суркова.
– Трудно, поди, жили тут? – спросил женщину Орешин, глянув на ее побелевшие виски, на горестные морщины около губ и под глазами.
Спросил и пожалел: лицо Пелагеи некрасиво сморщилось, она молча отвернулась и вытерла слезы концом платка.
– Я, Федор Александрович, думал, что разруха у них тут полная, – заговорил вместо нее Кузовлев, отодвигая пустую рюмку. – А приехал и вижу: колхоз-то не пошатнулся! Хоть и поослабили хозяйство, а скот сохранили, да и сеют не на много меньше, чем до войны. Недаром на фронте мы нужды в хлебе не видали! А без колхозов что стали бы делать?
Помолчав, вздохнул:
– Тяжело, конечно, им, женщинам, тут без нас, что говорить! Да и обносились все. Купить-то нечего стало…
– Кончилась бы только война, всего опять наработаем, – уверенно, снова повеселев, сказала Пелагея и заторопилась. – На ферму идти мне нужно. До свидания.
Она подала Орешину жесткую крепкую руку.
– Чуяли мы на фронте вашу помощь, – горячо сказал Орешин и поклонился низко Пелагее.
– Спасибо!
За ней вскоре и они пошли в поле глядеть, как работают сеялки. По свежезабороненному участку белели вдалеке платки и рубахи севцов. Кто-то ехал оттуда на сеялке к дороге. Оба сели в ожидании на траву около канавки.
– О чем запечалился, Федор Александрович? – спросил Кузовлев, видя, что сержант сидит, опустив голову.
– Домой, на завод скорее надо… – сердито заговорил Орешин. – Теперь уж, поди, и без меня довоюют. Завтра же буду просить о выписке…
– Куда ты с такой ногой? Лечись знай.
– А землю ты чем обрабатывать будешь?! – закричал вдруг Орешин, выкатывая на Кузовлева злые глаза. – Ведь ежели по одной только сеялке каждому колхозу дать, сколько же их сейчас нужно?.. А если еще по молотилке, по жнейке? Нам хлеба больше сейчас надо, народ-то натерпелся за войну. А без машин хозяйство быстро не поднимешь…
– Это верно. Трактором-то вон у нас один массив только обрабатывать успевают. Мало их сейчас, тракторов-то. Да и другие машины поломались все.
К дороге подходила лошадь, запряженная в сеялку. Уверенно держа в руках вожжи, на сеялке сидела девушка в клетчатом платочке, красной майке и кирзовых мужских сапогах.
– Елизар Никитич! – еще издали закричала она. – Семена кончаются. Пусть Аркадий везет скорее, а то стоять будем…
Чем ближе подъезжала она, тем больше убеждался Орешин, что это Маруся. Здесь, в колхозе, она совсем не была, видать, тихоней.
– Сеялки-то хорошо работают? – поднялся навстречу ей Кузовлев.
Ловко спрыгнув на землю, Маруся взяла лошадь под уздцы.
– Хорошо идут. Теперь мы, Елизар Никитич, по сельсовету раньше всех кончим…
В голосе ее было такое ликование, а глаза так живо блестели на загоревшем лице, что и Орешин не вытерпел, встал и подошел поближе, улыбаясь.
Она поздоровалась с ним, но по лицу было видно – не узнала, и это почему-то огорчило Орешина.
– Ой, какое вам спасибо! – услышал он ее голос над собой.
Она уже влезла на сеялку и чмокала губами, дергая вожжи.
И пока красная майка девушки не исчезла за бугром, Орешин все стоял и смотрел туда.
– Савела Боева дочка, бригадира нашего… – говорил сзади Кузовлев. – Звеньевая она тут у нас, и участок этот ихний, комсомольский…
Орешин встряхнулся, обеспокоенно взглянул на часы.
– Пора мне.
– Не торопись. Я тебя на лошадке доставлю.
– Нет уж, – запротестовал Орешин. – Ты лучше на ней Гущину огород вспаши.
– Дался тебе этот Гущин… – недовольно бурчал Кузовлев, идя за ним.
Вместе дошли до овражка, за которым молодые ребята пахали пар. Около дороги, понурив голову, стояла запряженная в плуг лошадь. Черноглазый паренек с желтыми кудрями, тот самый которого Орешин видел утром, стоял около плуга и устало вытирал пот с лица. Увидев Кузовлева, он бросил цигарку и затоптал ее ногой.
– Сын мой, Ленька, – пояснил Кузовлев, испытующе наблюдая за ним. – Первый год пашет. Оно бы и рановато еще, да что сделаешь?!
Подошел к борозде, поковырял носком сапога шоколадную землю, взял ее в руки, растер, потом смерил пальцем толщину пласта.
Недовольно спросил сына:
– Давно куришь?
Ленька густо вспыхнул и, избегая взгляда отца, сумрачным басом ответил:
– С год.
– Курить-то выучился, а пахать не умеешь, – уже ласково пожурил его Кузовлев. – Борозду прямей держи.
Кузовлев отвинтил от плуга ключ и чуть опустил колесо, подвернул покрепче отрез.
– Пошел я, Елизар Никитич, – сказал Орешин. – Не хочу начальника своего подводить. Прощай, брат!
– Прощай, Федор. Спасибо за помощь. Не забывай. Пиши. А то в гости приезжай!
– Не забуду, – улыбнулся Орешин. – Вот как только новую машину колхозу дадут, так и знай: Федор Орешин прислал.
– Ежели на то пошло, и меня не раз вспомянешь, – хитро засмеялся Кузовлев. – Возьмешь в руки хлеб нового урожая, помни: Кузовлев его вырастил.
– Во-во! Это правильно. Выходит, не обойтись нам друг без друга.
Помолчали оба в раздумье.
– Кто его знает, не пришлось бы нам лет через пяток опять в своем полку встречаться, – вздохнул Кузовлев. – За морем погода-то больно неустойчива…
– Занадобится, так встретимся, – нахмурился Орешин, но тут же поднял, голову. – Только, Елизар Никитич, лучше бы в другом месте нам свидания устраивать. То ли бы дело в гости друг к дружке ездить, а?
Боевые друзья обнялись и расцеловались на прощанье.
Вытирая кулаком глаза, Кузовлев быстро пошел к плугу.
– Н-ну, трогай!.. – сердито закричал он на лошадь и ровно, не качаясь, пошел, за плугом. Земля послушно ложилась вправо от него широким черным пластом. Борозда была прямой, как полет стрелы.
– Чувствуешь? – спросил Орешин Леньку.
Ленька улыбнулся, тоже восхищенно глядя отцу вслед.
– Ага.
– То-то! Учись у отца-то.
Подмигнул Леньке и, потрепав его по плечу, неторопливо зашагал по дороге.
Пройдя метров сто, оглянулся. Пахарь с конем поднялись уже на вершину холма, резко означившись на вечернем небе. Видно было, как черный конь, мерно поматывая головой, твердо опускает в землю тяжелые копыта, а за ним, легко держа ручки плуга, задумчиво шагает солдат Кузовлев. Свежий ветер пузырем вздул у него на спине гимнастерку, растрепал и взвил черным вихрем гриву коня…
Сержант приложил руки ко рту трубкой и крикнул:
– До свида-а-ания!
Остановившись, Кузовлев снял пилотку и замахал ею над головой:
– Счастливого пути-и-и!
О. Маркова
ВСТРЕЧА
Рассказ
Председатель колхоза «Красный боец» Илья Назарович Уваров возвращался в деревню с механиком машинно-тракторной станции Андреем Новоселовым, который ездил по колхозам, проверял перед уборкой машины.
Вида Новоселов был необычного: высокий, широкоплечий, правый глаз закрыт черной повязкой, а выше по лбу, пунцовому от загара, шел лучистый розовый шрам. Пепельные волосы, жесткие, будто накрахмаленные, слегка вились.
Уваров радовался, что ему удалось первым заполучить к себе автомеханика: шофер в колхозе у него – молоденькая девушка, недавно окончила курсы, еще без опыта, и он тревожился.
Они ехали на шустром, вычищенном до глянца рыжем жеребце. Утром прошел дождь. Осколок широкой радуги висел вдалеке над лесом, пересекая небо. Трава дурманяще пахла. Дорога утонула в хлебах. Огромный массив ржи был похож на сизое озеро, по которому перекатывалась из края в край крупная зыбь. За рожью начинались светло-зеленые яровые, слева раскинулось сиреневое клеверное поле.
– Богат будет урожай! – сказал Илья Назарович. – Такой у нас в сорок первом году был…
Колеса прогрохотали по мосту. Необычно остро замечал Илья Назарович в этот день все: облако тонуло в реке, на песчаных отмелях пестрые коровы стояли в воде по самое вымя. За рекой лохматый холмик тянулся, как непричесанный чуб, за ним узловатые горы, синие сейчас, подернутые дымкой. Лес на холмике казался восковым и будто таял под ярким солнцем. Из синего шелка вверху вырвался жаворонок, повис в воздухе, покачиваясь. Всюду царили мир и спокойствие.
Въехали в село. Дети бежали по улице, шлепая босыми ногами по лужицам, и победно кричали, протянув вперед руки, словно стараясь поймать радугу.
– Хорошо! – неожиданно произнес Новоселов. – Горы и то плечи выпрямили.
В гараже колхоза он осмотрел стоящие там два грузовика. Машины были исправны.
К гаражу, тяжело фыркая и бряцая железными гусеницами, подошел странного вида тягач.
Несколько лет назад, будучи в гостях у завода-шефа, Уваров выпросил для колхоза танк. Это была низкая, устойчивая машина, израненная и обгорелая, с широкими гусеницами. Илья Назарович попросил снять башню танка.
– Водителю на колхозных полях нечего оберегаться, – говорил он тогда. По его заказу к корпусу танка приварили металлические стойки. На них установили деревянный кузов, чуть меньше, чем у грузовика. В него колхозники нагружали зерно, бидоны с молоком и другую кладь. Весной, при пахоте, прицепляли к танку-тягачу десять лемехов, и он пахал сильнее и быстрее трактора, корчевал пни на площадке строительства Дома культуры, таскал бревна, кирпич и песок. Его бросали на самые тяжелые работы, и хоть съедал он много горючего, но оправдывал его вдвойне.
Колхозники любовно называли машину «работягой», а шофер Анюта Лукачева старательно ухаживала за ней, долго, до боли в руках чистила вмятые, заржавленные бока.
В одной из вмятин Анюта обнаружила какое-то слово. Оно было выбито чем-то острым. Тонкие линии букв стерлись, но все-таки Анюте удалось разобрать имя женщины – «Люба».
Было ли то имя любимой девушки или жены, или имя женщины-героя, Анюта не знала.
Девичья фантазия унесла ее на поля боя. Она представляла водителя танка таким, каким всегда рисует себе героя молодая девушка: красивым, с сильным мужественным взглядом, с решительными жестами, преисполненным отваги. Враги окружали его. В каждом дуле жила его смерть. Пули буравили землю. А он, ее танкист, всегда выходил из боя невредимым.
Водя «работягу», Анюта не могла отрешиться от созданных ее воображением картин.
То ее герой вел машину в бой по оврагам и рытвинам, не разбирая дороги. То враги, окружившие его со всех сторон, падали, горели. Но всегда водитель, ведя бой, думал о Любе.
Слово «Люба» Анюта частенько восстанавливала острым гвоздем, чтоб оно не износилось.
Девушка повела тягач к гаражу, стремительно остановила его. Она не знала, как трогательно выглядывала ее светловолосая головка из суровой брони.
Выпрыгнув из машины, Анюта вытянулась перед Уваровым и, играя искрящимися смехом глазами, отрапортовала:
– Зерно отвезла. Какие будут указания дальше, Илья Назарович.
– Вот, знакомь с «работягой» механика…
Новоселов, увидя перед собой странный тягач, сильно заволновался, хрипло спросил:
– Танк? – и не дожидаясь ответа, бросился к машине, лихорадочно кружил около нее, ощупывая корявые бока. Анюта, обиженная тем, что председатель не доверял ей, привез с собой механика, скорбно сжала полные румяные губы и прикрыла ладонью обновленное на броне слово «Люба». Новоселов, все более волнуясь, отвел ее руку от брони и впился в слово единственным глазом.
– Моя «работяга» в порядке… Вот только здесь слово одно нацарапано… я его никак не могла стереть… – хитрила Анюта.
– Люба… – с нежностью произнес Новоселов. Анюта обернулась, хотела что-то сказать, но вдруг увидела, что механик трогает слово на броне рукой. На его лице, пересеченном розовым шрамом, было столько мечтательной радости, словно он встретился с другом после долгой и безнадежной разлуки.
– Мой танк!
Илья Назарович почему-то побледнел и потянул механика в сторону, приговаривая:
– Ничего… ничего…
– Тысячу семьсот километров я на нем прошел… Вместе с ним горели… Пуля хоть и задела меня, а видно, жизнь есть впереди! – задыхаясь продолжал Новоселов.
Так вот он какой, ее танкист, с которым Анюта не раз мысленно разговаривала, которого уводила от смерти, внушала ему храбрость и находчивость. Тот же рост, те же плечи и пепельные кудри. Строгое неулыбчивое лицо, пересеченное шрамом, задубело, может, еще на войне, и веко опалено тогда же.
«Как же ты глаз-то не сберег!» – мысленно нежно упрекнула его Анюта. Здоровый глаз танкиста был ясен и красив. Никогда она не видела таких синих глаз. Казалось, синева второго, разбитого глаза, перелилась в этот единственный.
В груди стало тесно и больно.
Захотелось крикнуть на весь мир, чтобы все услышали ее, увидели горящего в бою танкиста и машину с нежным именем «Люба». Еще раз Анюта заглянула в синюю глубину глаза танкиста и непонятно к чему сказала:
– А теперь танк стал «работягой»…
Из детского садика неслась на улицу нестройная песня:
Как у дяди Трифона
Было семеро детей…
На золотую от смолы стену будущего Дворца культуры канатами поднимали новое бревно. Слышались голоса:
– Сильнее бери… сильнее, говорю!..
Тукали топоры плотников. Мимо прошла грузовая машина с мешками зерна.
Все это был мир, который победил войну. Война была за него, за мир, поэтому и называют ее народы «Великой».
Илья Назарович принял от механика инструмент и, ни к кому не обращаясь, сказал:
– Будем работать.
Анюте захотелось немедленно сделать что-нибудь героическое, спасти человека, предупредить несчастье. Ей казалось, что на нее смотрят тысячи глаз, ее слышат и понимают люди всех стран и наречий. Она чуть не бегом бросилась к «работяге» и начала нагружать кузов дровами, которые нужно было подбросить к дому старой вдовы.
Из слесарной мастерской напротив раздавался скрежет разрезаемого железа, от лесопилки неслось жужжание пилы. Дети в садике все еще тянули на разные голоса:
Как у дяди Трифона…
Неожиданно Новоселов громко скомандовал:
– По местам!
Илья Назарович хлопнул руками и быстро влез в кузов, на дрова, за ним легко вскочила туда Анюта. Обычно ласковые глаза ее озорно поглядывали на танкиста. Новоселов занял место водителя.
Танк взревел, рванулся, окутавшись голубым дымом, выскочил на дорогу и с грозным ревом помчался по улице, разгоняя телят и гусей. Через минуту он остановился около нового дома поварихи полевого стана тети Васи. Широкие окна, горя от солнца, казалось, стреляли огнем, на них больно было смотреть.
Новоселов быстро выпрыгнул на землю:
– Экипаж к танку!
Уваров и Анюта соскочили вниз. Из дома выбежала седая женщина.
– Спасибо, Илья Назарович, не забываешь сироту… Чем я, старая, перед колхозом отчитаюсь?
– Ничего, тетя Вася, за тебя сын твой в войну отчитался!
С улицы набежали дети, влезли в кузов и начали скидывать на землю дрова.
Анюта, искоса поглядывавшая на водителя, подвинулась ближе к нему и осторожно, почти шепотом, спросила:
– Товарищ Новоселов… а сейчас эта… Люба… ваша?
Лицо механика радостно вспыхнуло.
– Люба? – переспросил он. – Дождалась меня невеста… Сколько лет уже вместе, сынишка растет…
С размаху подав руки председателю и девушке, механик еще раз любовно оглядел танк, погладил броню и, не оглядываясь, пошел от тягача по дороге к реке.
Уваров и Анюта смотрели ему вслед, пока он не скрылся за сиреневым клеверным полем.










