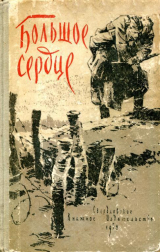
Текст книги "Большое сердце"
Автор книги: Борис Рябинин
Соавторы: Олег Коряков,Олег Селянкин,Ефим Ружанский,Лев Сорокин,Елена Хоринская,Николай Мыльников,Юрий Хазанович,Николай Куштум,Юрий Левин,Михаил Найдич
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Большое сердце
Н. Попова
ПОДВОЗЧАЯ
Уральская быль
I
Отец у меня был несчастливый. Всю жизнь ему несчастливило. Где другим гладкая дорога, ему все пень да колода.
Он был молчаливый у нас, роста большого. Мать против него пигалицей была, пичужкой. Я первый год в школу ходила, когда отец слег. Мама потом рассказывала: привез сено, а отметывать не стал. Переступил порог в избу, ка-а-к мотнуло! Он схватился за косяки и будто испугался – смотрит на маму, молчит. Потом посидел на лавке, провздыхался и до постели дошел. Мать пимы с него стащила, ревет. А он скинул чистую подушку, лег и сказал:
– Знать-то, мать, не встану.
С этого самого дня мы и начали нищать. Что выробит мать, тем и жили. А что ей выробить, когда, например, молотили по пятаку с овина.
Сначала мы лошадь продали, потом свинушку, потом хомут, сбрую… дровнишки там, телегу… Венчальное платье мать продала, сатинетовое стеженое одеяло.
Мотали, мотали и размотали все в недолгое время.
Меня перестали в школу отпускать. Я дома и сварю, и подмету, и отцу подам напиться или ведерко, или что…
Плохо я управлялась. Поддену чугун ухватом, а поднять – силенки нет. Однажды вздумала вытащить корчагу со щелоком, расплескала воду, и обдало меня паром. Отец видит, что я реву, сполз с кровати, помог. Потом сел на лавку и задрожал.
– Плохие мы с тобой стряпки, милая дочь. Придет мать – заругается.
Он в то время почему-то стыдился матери. Зашумит она надо мной, а отец лежит, будто виноватый, и только подмигивает мне: ничего, мол, Паня, пошумит да перестанет.
Однажды пришел к нам Кочеток. За что его так прозвали, не знаю. Такой был мужичонка шустрый, крутенький. Он не сеял, не пахал; он рыбу удил, да по покойникам читал, да бегал на посовушках – на побегушках. В городе сколько раз бывал. Звали его письма читать и ответы писать.
Пришел этот Кочеток и кричит с порога:
– Чего, Андрюша, развалился? Вставай, вставай, рыбачить пойдем. Гляди, какого налима тебе приволок! Ешь да оздоравливай.
– Отрыбачил я, – сказал отец.
– Вот я тебя поправлю, – говорит Кочеток. – Хозяюшка нам ушки сварит, а мы поглядим, откуда у рюмки ноги растут.
И вытащил из кармана шкалик и из-за пазухи другой.
Ну, выпили они, похлебали ухи. Отец разрумянился, слеза его прошибла. Тяжело ему было умирать, не пристроивши нас.
И сказал он тут, что продал бы тело свое и душу, чтобы нас успокоить.
– Да кому, – говорит, – меня надо? Разве – на подмылье…
Вдруг Кочеток вскочил, засуетился, ногами так и скет. Вначале мы не поняли, что с ним. Потом растолковал: в городе, в музее, скелеты покупают – сам видел, там скелет стоит, и за такое поругание дают большие деньги. Не всякий согласится, чтобы его тело в чану варили да косточки проволокой связывали и на поглядку выставляли…
Тут я взревела, кинулась к отцу, припала, сердчишко колотится, кричу на Кочетка:
– Я тебе такую пакость устрою! Такую пакость устрою!
И мать на него закричала. Но отец нас унял, приказал молчать, и стали они с Кочетком говорить об этом.
– Сотню дадут?
– Смело!
– А может и две?
– Быть может.
Думал, думал отец, ночи не спал, все считал чего-то на пальцах, а в воскресенье сказал Кочетку:
– Ну, грамотей, садись – пиши. Надумал.
Вот это письмо они и написали:
«Ваше благородие. Извините меня за такое прошение, о котором я много слышал от людей. Я много слышал, что многие люди продают свои кости, когда человек помирает, и так я бы хотел и оказать свое желание, если возможно и правда, то прошу дать ответ, какие условия, я хотел бы знать раньше. Остаюсь верный ваш будущий слуга Чирухин Андрей Васильев».
И горько и смешно… Вот они чего написали, грамотеи!
А в уголке наискосок – это ответ от начальства:
«Постановлено сообщить Чирухину, что в музее человеческий скелет есть, а во втором надобности нет и рекомендовать обратиться в университет».
Ну, уж дальше и сам Кочеток хода не знал.
Отец мой вскоре скончался. Очень жалела я тятю.
А мать мне наказала:
– Береги, Паня, это письмо. Большая вырастешь – вспомнишь, как для нас с тобой он души не жалел.
II
Вот никак не пойму людей. Только начнут рассказывать о нужде или печали – и давай жаловаться. Терпеть не могу! Кого горе миновало? Никого. Так если все расхнычемся – не дай бог… Недаром говорится: посильно горе со смехами, непосильно со слезами. Бывает, пристукнет тебя горе, с ног свалит, – повоешь, повоешь и опять вверх головой ходишь. Такой уж характер у меня. Вот и девчонкой была… В другой раз изобидят тебя ребята, прокуксишься, а жаловаться не пойдешь.
Было мне девять лет, когда я пошла борноволочить. Зиму и лето жила в няньках, а весну и осень в борноволоках. Десяти лет на двух лошадях боронила: на передней верхом еду, а задняя за мной идет. В ту же весну Бобошин Викул подымал новь на лесном на пожарище. Меня послал прутики – березнячок – выдергивать. До кровавых мозолей доробилась… Зато вечером дадут тебе коровашек хлеба да туесок молока – и задуваешь к маме, только пятки сверкают!
Мама моя в ту весну слегла и больше не поднялась. Билась я так до четырнадцати лет. А с четырнадцати стала жить прислугой у дьякона. Чернобородый был такой, веселый… По двенадцати батраков летом за стол садились. Я для всех стряпала. По два раза в день хлеб пекла, ворочала ведерные квашонки. Бывало, вечером налью себе чаю и засну сидя… Проснусь – чай простыл, тишина – все опят.
Потом перешла я к Викулу Бобошину.
Он считался первым в нашей Слободе. А Слобода была большая, богатая. В наших местах все держались земли, родила она хорошо. У кого нет своего хозяйства, – работали у кулаков. Викул Иванович по сто десятин засевал. В Слободе были и тележники, и корзинщики, и гребенщики – гребни из рога резали… Все это Викул скупал и в город возил. Маслобойку имел, масло из конопляного семени жал. Не брезговал и ямщину гонять. Купец – не купец, а вроде того… Страшный богач. Дела вел большие.
Семья у него была: сам со старухой да сын Кольша с Анютой. Викул работников строжил, а перед старухой был тише воды. Она, говорят, сразу так повела себя, с первого дня. В его дела не совалась, а домом правила единолично. Он ее за красоту замуж взял. Ну, а в Викуле никакой красоты не, было. Ножки имел короткие, косолапенькие, а туловище большое. Пригнушивал он к тому же… Так и поддался ей сразу.
Меня хозяева любили. Я весело работала. Хоть до смерти упластаюсь, а все посмеиваюсь да приговариваю.
Сам Викул меня не ругал, только уж посидеть, бывало, никогда не даст. А Оксинья Филипповна была неловкая: все ворчит, все ворчит, всем недовольна. Нищих терпеть не могла. У окна сидит, а сама не подаст ни за что. «Панька! Беги подай, слышишь, нищие канючат». Чихала она очень противно: «Апчхай!» Стоит, бывало, у шестка и кричит мне: «Беги, Панька, сунь корчагу в печку». А долго ли самой сунуть? Ни в жизнь. Бежишь да и подумаешь: «Из тебя, толстомясая, три Паньки выйдет». Анюту, свою сноху, она не любила. Сколько при людях говаривала: «Негожая у меня сношка, слабосильная». Вот тебе! Хоть стой, хоть падай. Кольша Бобошин первое время жену любил, заступался, а потом она ему надоела, бить стал.
Кольша у них, как орел, летел. Умел с человеком обойтись, уважить, а глаза глядели всегда с насмешкой. Вот только что говорит с тобой резонно и разумно, а уйдешь – он тебя всяко выдразнит, высмеет. Бойкий был. Что и делает! Попеть и поиграть, и поработать – везде первый был.
Ну вот, живу я у Бобошиных долго ли, мало ли. Стукнуло мне девятнадцать. Вижу – уходить придется. Стал Кольша со мной заигрывать. То хватит, то обнимет, будто в шутку, то похлопает.
Я ему говорю:
– Уходите, уходите, а то пощечину залеплю, что у тебя рожу раздует.
Он и попятится.
С той поры пошло у нас наперекор. Он старается меня подзудить, а я его. На ночь я стала запираться на крючок. Думаю: «Уйти придется, а то он, окаянный, загубит меня».
Но скоро все переменилось.
Поехали мы хмелевать, хмель собирать. В крестьянском хозяйстве хмеля надо много. Он не только для пива идет. Опару делали на хмелевых дрожжах. Сваришь хмель, подболтаешь мукой, добавишь старого хмеля или дрожжей, они и подымутся. Пшеничные отруби зальешь горячей водой, а когда остынут, разведешь холодненькой и добавишь хмелевых дрожжей. Опара подымется шапкой. Уж такой вкусный хлеб на этой опаре! Душистый, мягкий…
А в наших местах хмелеванье вроде праздника было. До успенья, до пятнадцатого августа по-старому, никто не смел брать… Зарок был. Если у кого падет лошадь, соседи говорят: «Наверно, до успенья хмелевал».
Перед успеньем все готовят пойвы. Пойва – это мешок, в котором обручи вложены и пришиты к нему. Шишки в таком мешке не мнутся, и бросать их удобно в него.
В успенье к вечеру уезжают на хмелевые угодья целыми семьями.
Приедут, распрягут коней, похаживают, замечают, где больше шишек да где они крупнее. Гармошки заливаются, молодежь играет на лугу. А с двенадцати часов ночи, как запоет в Слободе петух, – по реке-то слышно, – все кидаются в согру, а согрой называют у нас заросли кустов по низине, – всяк кидается к своему кусту… Хмель ведь больше по кустам вьется. Вывалят из пойвы в телегу – и опять в согру. Некоторые по возу набирали. Ну, конечно, многие с пивом, с брагой приезжали. Так нахмелюются, что домой едут пластом, как мертвое тело.
Бобошин послал хмелевать Кольшу с Анютой, работника да меня.
Успенье считалось большим праздником. Хоть и в лес ехать, а всяк надел праздничную одежду. И я тоже. У меня было платье голубое с разводами, с усиками. Юбка широкая сборами, по подолу оборка. На голову подшалок белый надела, в косу ленточку… Честь честью.
Приехали мы поздно, – нас ведь не играть послали. Я все же немного попела с девицами, поиграла и пошла по сограм искать себе местечко.
Нашла. Уж до того были крупные шишки, до того пахучи, что как только я допьяна не нанюхалась! Обвил хмель черемуху над самой водой. Сижу, подпеваю, черемухи набрала, ягоды ем, сижу одна.
Стало темно, тихо. Слышу – песни на лугу. Река нет-нет всплеснет. Задумалась и не слыхала, как время прошло.
Вот запел петух. Стала я ощупью шишки рвать и в пойву бросать. Слышу: сучья трещат, листья шуршат, кто-то идет ко мне. Я запела тихонько, голос подаю. Слышу, остановился невдалеке и тоже берет хмель.
– Ой, кто это?
Он мне отвечает:
– Свои. Ты чья?
– Андрея Чирухина. А ты чей? Не могу по голосу признать.
Он мне ответил. Это был Прокопий Чижов, молодой парень. Только что из солдат пришел. Слыхать я про него слыхала, а видать после солдатчины не приходилось.
Набрала я пойву, сходила опростала ее и опять на то же место пришла.
Рвем хмель, разговариваем. Он говорит тихо, разумно.
Обруснили куст, он зовет:
– Пойдем, Павла Андреевна, сюда. Я хорошие кусты заметил.
Я иду за ним и улыбаюсь. Меня по имени-отчеству он первый взвеличал.
Начало светать. Я жду. Мне интересно Прокопия посмотреть, какой он. Унес свою пойву, и что-то долго нет его.
Вот и заря разлилась…
На заре рыба играет, а река спит. Тишина, только в согре хрупоток стоит: люди ходят, сучки ломают. Меня в дрожь кинуло: роса пала. А от земли тепло идет.
Слышу, Прокопий продирается ко мне сквозь чащу.
Между кустов и веток еще темно. А листья так и сверкают.
И вот я вижу Прокопия. Идет на улыбочке. Сам кудреватый, долголицый, лицо чистое. В кубовой рубашке. Пристально смотрит на меня. Глаза, вижу, добрые. К волосам виточек хмеля прилип, над ухом шишка висит, сейчас вот помню…
У нас разговор почему-то оборвался. Берем шишки оба усердно. Потом вдруг я оступилась, выпустила пойву, сама да ветку поймалась. Хмель вывалился в реку. Не тонет, плавает, а достать нельзя.
Я говорю:
– Ой, хозяева заругаются!
А он молчком и высыпал весь хмель в мою пойву…
Вот этот Прокопий Чижов и стал моим суженым-ряженым. За него и вышла.
Сразу на ноги встать мы не могли.
Изба у него была плохая. Ни коровы, ни овечки званья не было. Жили мы дружно. Разве я когда напылю, а он все добром со мной. Был он видный, рослый. В жизни своей ни одного рубля не пропил!
Два года пробатрачили мы с ним у Викула, лошадь завели – Игренька́.
Начали своим домом жить, да вдруг моего Проню взяли на германскую войну. Пошла опять к Викулу.
После этого Кольша совсем стыд потерял. До того дело дошло, что и верно пришлось его по щеке хлопнуть. Он думал, что если баба одна, так и делай, что хочешь… Да не на ту нарвался!
Как-то Оксинья Филипповна говорит:
– Ой, Панька, уж ладно ли у вас с Колюшкой? Он ведь у нас баской.
Я говорю:
– Отворотясь не наглядишься…
Она свое.
В конце концов я говорю:
– У меня свой мужик есть.
– Ну, где уж свой? Был бы живой, так написал бы.
А я в то время перестала получать от Прони письма.
Так мне стало обидно! Схватила юбку, – надо было подштаферку подшить, – а сквозь слезы не вижу. Тычу иголкой наугад. Хозяйка не унимается.
– Панька, ты бы хоть спросилась нитку-то брать. Никто мне ее даром не спрядет.
Я осердилась, дунула в стекло, погасила лампу и давай ложиться спать.
Нелегко было жить у Бобошиных. Старуха – негодь. Кольша проходу не дает. А сам старик год от году жаднее становится, все ему мало.
Например, в дождик нее дома сидят, а он меня да пленного австрийца Осипа посылает гречиху жать.
– Тупайте, тупайте, гречиха воды не боится.
Вот тебе раз! Гречиха не боится, и мы не должны бояться.
По воскресеньям мы на крышу зерно пудовиками таскали, сушили.
Одна отрада была, одно утешенье – сбегаешь поворожить к бабушке Минодоре…
Ворожить было очень страшно. Зеркала у нее неясные, мутные. Она их наведет, поставит друг против дружки и велит смотреть… а там все рамочки и полосочки, как просека, все уже и уже. А в самом конце мелькает, дрожит… похоже, что стоит кто-то в шинели. Она мне все три года одно и то же повторяла:
– Живой, скоро придет, видишь – скоро!
Так и жила: поплачешь, попоешь да опять вверх головой ходишь.
Скрывать не стану, лез мне на ум Кольша, снились его бесстыжие глаза, но я держалась твердо.
Нарочно, бывало, пою – собирошничаю при нем:
Гуля-голубь, сизы крылышки,
Серебряный полет.
Полети-ка за Карпаты,
Где мой Пронюшка живет…
III
Весной, в восемнадцатом году, мой Прокопий Ефимыч пришел домой. Он большевиком стал, а я как была несознательная, так и осталась.
Трудно ему пришлось со мной.
Первый день я опомниться не могла. Сразу в свою избу пошли. Бобошин задерживать не стал и рассчитался как следует: увидел у Прони красную-то ленту.
Проня взял тиски да топор, оторвал доску от окна. Хлынуло солнышко в нашу избушку, – я тогда только и поверила, что пришел мой мужик.
Набежали бабы, помогли мне стены обмести, пол выскоблить, баню вытопить. Кто картошки, кто хлеба тащит. «За вами не пропадет», – говорят. Спасибо им, помогли.
Проня с мужиками на дворе на травке сидел, газетку читали.
А мне все не терпится. Нет-нет, выскочу на крылечко. Бабы смеются: «Пришел, так уж никуда не девается». «Ну, Паня, завтра на ручке-то до полден проспишь!»
Сходили в баню, ночь пришла, а нам, конечно, не спится. Светать стало.
Наконец я говорю:
– Давай, Проня, спать. Ты с дороги да после бани… Спи, Проня.
А он не спит. Тут я схитрила.
– Постой, я окно отворю. Жарко…
Открыла окошечко, надышаться не могу. От радости слезы текут. Он зовет, а я будто не слышу. Наконец. Проня заснул. Подошла к кровати, гляжу: он и не он. Темное лицо стало, суровое. Видно, что много перенес. Я стиснула зубы, руки сжала, думаю: «Ох ты, мой ты… незакатимый ты мой соколик!»
Очень уж любила я его!
Вышла на крылечко, сила так и ходит во мне.
Наш Игренька у свата жил, – хоть сейчас домой веди. Вот я и думаю: «Все теперь будет, все наживем, есть в дому хозяин. Сена накосим, дров нарубим, осенью рожь посеем. Пойдут грибы – насушу, насолю. Черемухи смелю пуда два, боярки наберу, калины. Хмелевать пойдем. Будет у нас и соленое, и сушеное, и пиво, и сусло, и кулага, как у добрых людей». Потом думаю: «Вот бы ягушечку, да козоньку, да курочек…» А у самой уж в мыслях: «Коровушку бы!»
По воду сходила. К рыбаку сбегала по свежую рыбу. Забежала к Бобошиным, табаку попросить. Самогонки чашку выпросила. Картошки сварила. Хрен заморила в стакане. Оделась, умылась и подшалок на плечи накинула, будто праздник.
А он к подшалку-то к этому и придрался:
– Откуда у тебя?
– Викул Иванович к празднику подарил.
А он посмотрел на меня вот так и спрашивает:
– За что он тебе дарил?
Я поняла, рассердилась. Обидно очень стало.
– Поди ты к чомору, если так.
Вижу, ему неловко.
– Ну, ладно, Паня, не куксись.
– Я по чужим мужикам не ходила, не шарилась.
– Да я знаю.
Тут мне стало смешно. Засмеялся и он. Потом я говорю:
– Завтра пойдем, Проня, дров порубим.
– Дай оглядеться, Паня.
«Ну, пусть отдохнет день-два», – думаю.
А у него на уме совсем другое было.
К обеду пришел его дружок – Андрей Кудрин. Только что из города приехал. Узнал, что Проня здесь, и даже не оследился дома – к нам прибежал.
Обнялись они, выпили, закусили, наговориться не могут. Андрюша рассказывает, что и как в нашей Слободе, а Проня ему про войну.
Я сижу, а сердце мое начинает замывать, беспокоиться. «Вот, – думаю, – принесло немилого гостя!» Андрюша у нас по волости всеми делами ворочал, и я боялась, что он Проню моего втянет. Гляжу на него недобрыми глазами. Противно, как у него усы шевелятся. Усы у Андрюша прямо из носу росли. Очень он был волосатый! Сам ростику маленького, а голос, как из бочки.
– Дружину вот обучать некому… Будешь, Проня?
А мой-то отвечает:
– Можно.
Поговорили они сколько-то, и Андрей опять спрашивает:
– Хлеб надо искать, в разверстку сдавать. Позарывали. Мы тебя выберем. Пойдешь?
– Отчего не пойти.
Я сижу – не дышу. «Господи, – думаю, – куда он свою головушку сует?»
А Андрюша свое:
– Да, брат Прокопий, видно, не отвоевались мы еще. Дутова искоренили, да, видно, будет еще таких. Вот чехи переворот сделали в Челябе. Слышал?
А мой:
– Слыхал… Ну что ж, воевать так воевать.
Я думаю: «Не дам ввязаться! Ночная кукушка… перекукую».
И говорю им весело:
– Да будет вам, мужики, чего не надо говорить. Еще не навоевались! Выкушайте лучше вина да песню спойте.
– Не бойся-ко ты, не бойся, – говорит Андрюша. – До самой смерти ничего твоему Проне не будет. Недавно вот камнем мне в окошко запалили, да только геранку у Кати сшибли, больше ничего.
Он хохочет, а мое сердце занывает все сильнее.
Только проводили Андрюшу, я и давай своего мужика просить:
– Не к чему тебе ввязываться. Столько лет страдал да опять… Хозяйство надо подымать.
Ласкаюсь к нему, прошу, чтоб меня пожалел.
Прокопий молчал, молчал, да как оторвет с сердцем:
– Нельзя мне в стороне стоять.
– Да почему же, Проня?
– Я ведь, поди, коммунист.
Я так и заревела. У меня чуть свет из глаз не выкатился.
Ну, не дура ли я была?
IV
Очень обижалась я на Проню. Корю его:
– Думала, хозяин пришел… а как была сиротой, так и бьюсь.
Он сам в хозяйство свое не вникал и других мужиков расстраивал.
Соседушка наш навозил лесу из монастырской рощи, начал баню да ворота строить. Вознес высокую перекладину. Мой говорит: «Что – обзаводишься хозяйством?» – «Да, хочу подзаняться». – «Давай подзаймись! Вот начнется война – у тебя и перекладина готова: есть куда повесить буржуазее…»
Ходил, хлеб искал, самогонные аппараты ломал… Ничего не страшился мой Прокопий Ефимыч.
Я говорю ему:
– Богатый-то, Проня, думает: «Не буду сеять, все одно отберут», а наш брат: «Зачем сеять? Все одно дадут». Вот никто и не посеет. Вам же хуже.
– Заставим лодырей, – отвечает Проня.
Я рассержусь и подкушу его:
– На то, видно, и свобода!
Раз мы чуть не подрались из-за Бобошиных. Я стала уговаривать:
– Ты бы, Проня, похлопотал насчет Викула Иваныча… все ж таки я у них жила… неловко.
– Брось дурака валять.
– Хорошо ли, Проня, сам подумай. Они меня кормили, одевали.
– Ну, их в озеро башкой!
– Хозяйка и то меня всяко выкорила.
– Плюнь ей в простакишные глаза.
Я рассердилась.
– Да что ты про себя думать стал? Править захотел? Не к рукам куделя! Андрюшка обведет тебя круг головы да в пазуху.
Он закричал:
– Не блажи!
Я закричала:
– Не засыкай рукава, не испугалась… Дался вам Викул да Викул… В чужих руках кусок больше кажется.
Прокопий не стерпел и замахнулся на меня.
Я так и взвилась. Молодая была, горячая… Не миновать бы драки, да ворота стукнули, вижу – соседка бежит. Ну, я и встала к печке, как ни в чем не бывало. Не станешь при чужом человеке своего мужика срамить. Никто не увидит, как помирились, а всяк знает, что пошумели. Из своего дома дыры затыкать надо, а не растыкать.
Я всегда за него стояла перед, другими. Проню ругают, а я что, молчать буду? Ни в жизнь!
Бывало, бабы говорят мне, что вот твой-то хлеб отбирает. Я отвечаю:
– Ой, бабы, вы бабы, горя будет вдвое, как белые придут. Вот ваши мужики разверстку не сдают, зажимаются, а без хлеба как наши воевать будут? Об этом вы подумайте.
– Бойчишься, потому что с вас взять нечего. Свое-то всякому жаль. Мы заробили, а коммунисты возьмут.
Я отвечаю тихонько:
– Ну, вот к слову, мы – коммунисты. А мы вашего не едим, свой кус гложем.
– А рабочим зачем хлеб травят?
Я им опять:
– Подумайте-ка, бабы, всяк на своей работе трудится. Надо накормить и рабочих.
– Больно нужно! Весь свет не накормишь.
Тут уж я рассердилась.
– А и верно, – говорю, – на кой ляд нам хлеб отдавать? Не отдадим, надольше хватит. Лучше на печке полежим.
– Конечно, лучше.
– Верно, лучше. А слезет такой хозяин с печки щи хлебать, а щи-то несоленые. Из-за него, из-за лежня, на всю волость соли не отпустили.
Разгорячусь, бывало, до того, что прибегу домой и отдышаться не могу. Проня спросит:
– Чего ты, горячка?
А я ему со зла:
– С бабами щепалась, все за вашу за власть. – Я в сердцах быстро говорила, так и секу. Меня за это «пулеметом» прозвали.
Вот так и жила в то время. С бабами поругаюсь, с Проней размолвлюсь… Сердце слышало, что нам плохо будет. А я и думать не хочу об этом, отгоняю думу, работаю, как собака. Покоя себе не знала.
Я и по дрова, и на мельницу, и на покос, и по дому – и мужичью и бабью работу тащила на себе.
А Проня почти не жил дома.
Ему бы поговорить со мной тихонько, вразумить меня, а он в то время, видно, считал, что политика – не бабьего ума дело.
Сердило меня – они пальбу устроили в огороде.
Сидишь в борозде, полешь и слышишь: «Бери ровную мушку!», «Жми на хвост!» Мой Проня учил их. С парнями, с мальчишками занимался. Начертит углем мишень на бане – черный круг. Меня зло брало. Это ли хозяин – в свою баню палит!
Ох, и смех и грех… Утюг, бывало, мой возьмут. У одного дружинника, у Микишки, рука дрожала, так Проня ему велел с утюгом подзаняться, чтобы дрожи не было. Заставлял на весу держать тяжесть.
Так бы вскочила и закричала на них:
– Пошелте, пошелте отсюда, все гряды истоптали!
Только неправда это: гряд они не топтали, не озорничали.
Плохо мне жилось.
Работаю, реву и думаю: «Для чего это? Белые придут красных счищать и нас не помилуют».
Белых каждый день ждали.
Кулаки стали убегать, куда-то скрывались. И Викул и Кольша – оба убежали.
Приезжали к нам два солдата-агитатора. Ну, поговорили и уехали. А наутро их нашли на тракте, на пятой версте. Лежат рядышком. Одному на грудь записка приколота иголкой от боярки: «Пропали, собаки, хороните, кому родня». Ночью стало страшно на свой двор выйти. Накроют еще тебя тулупом и отмолотят, как надо. Вечером перед окошком не садись: камнем свистнут.
Чуть было Андрюша Кудрин не погиб.
Поехал он в город – отряд просить на помощь. Ну, от волости до волости ехал на подводах. Только из Елани выехали за поскотину, ямщик и хотел его ссадить, немецким шпионом обругал. Андрюша выхватил наган: «Это чем пахнет? Вези!» Так под прицелом и вез до другой волости.
Доехали до Полудницы, там Андрюшу спрашивают: «Ты не коммунист ли?» – «Коммунист». – «Плохо ваше дело. У нас вчера поручик Гурьянов отряд вербовал». – «Ничего, за мной большой отряд идет». – «Все ж таки не езди по тракту. Сторонкой-то спокойнее».
В город он съездил почти что зря. Там сами просили помощи из Екатеринбурга. Полк формировали. Андрюше сказали: «Оружия дадим, а людей нету. Управляйтесь сами». Ну, дали винтовок немудреньких, пулемет, ленты, патроны. Андрюша уж промолчал, что из пулемета некому стрелять. Думает: «Научимся».
Отряд сколотился подходящий.
Наши слободские отрядники дома кормились, а деревенских человек по пяти прикрепляли к богатым мужикам, заставляли хозяев варить обед и ужин.
Вдруг узнали, что в Грязнухе свергнута советская власть.
Пошел наш отряд туда. Андрюша за командира.
Бандиты, увидев отряд, убежали, да не все. Одного заправилу поймали.
Андрюша допросил его, велел расстрелять и сказал:
– Грех беру на себя!
Потом созвал сход и говорит мужикам:
– Следить должны!
На колокольне у нас дежурные стояли день и ночь, а у поскотины – караул. Без пропуска ни взад, ни вперед не пройдешь.
Я однажды на покос иду, а пропуск не взяла, забыла. На часах у ворот Микиша стоял. Не пускает меня да и только. Думаю: «Одурел от жары, не узнал». В ту пору так было жарко, что босой ногой на землю не ступи – щекотит подошву.
– Не узнал ли, чего ли? Не дури, докашивать надо.
– Давай пропуск.
– Брось баловать. Ворочаться мне, что ли, за твоим за пропуском?
– Надо, так воротишься.
Знал свое дело Микиша!
– Да ну тебя к чомору, – отошла я от Микиши и перелезла через поскотину. А он стоит и не знает, что делать.
Худо ли, хорошо ли, сгребла я сено, скопнила и прошу Проню:
– Съездим, смечем зарод!
Проне стыдно стало передо мной, он пообещал на один день отпроситься да еще прихватить мужиков. А в этот самый день белые-то и появились.
Как ударил набат да началась пальба, я от ума отстала.
Побежала к волости, а там отряд строится. Проня мне вот так махнул рукой, простился.
Но боя в тот день не было. Белая разведка наезжала. Пугнули их, они и ускакали.
С того дня совсем строго у нас стало. Везде караулы да дозоры. Отрядники спали вполглаза. Слышим-послышим – в Грязнухе опять белые. Вот беда-то! Отступать надо. А наши все надеются: «Вот подойдут отряды из города». Отступать от своего места не хочется.
Проня мой пулеметчиком стал. Пулемет свой он называл «сеялкой».
Однажды я ему говорю:
– Что только и будет, Проня? Вот опять ты воюешь, здоровье тратишь. Я вся истряслась. Все думаю: набегут, снимут наши головушки. Рекруты у нас неученые.
– Помучатся, так научатся.
– Ну, а если белые набегут?
– Пусть сунутся. Я как запущу свою сеялку!
– А что одна твоя сеялка?
– Да мы их гранатами, как рыбу, глушить будем.
Успокоил меня, обнадежил. Я в ту ночь крепко спала. А утром проснулась от пальбы. Кинулась к окошку, вижу, по тракту полным-полно солдат идет.
Ноги у меня подсеклись. Села на лавку, обливаюсь слезами. Поняла, что нету наших, отступили. Проня не простился, ушел.
Сижу, читаю в уме «Живый в помощи вышнего», а мысли путаются, слова все позабыла. «Как же, – думаю, – он без меня отступил? Неужели нельзя было весть подать?»










