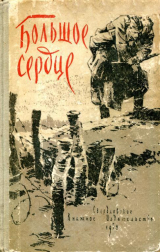
Текст книги "Большое сердце"
Автор книги: Борис Рябинин
Соавторы: Олег Коряков,Олег Селянкин,Ефим Ружанский,Лев Сорокин,Елена Хоринская,Николай Мыльников,Юрий Хазанович,Николай Куштум,Юрий Левин,Михаил Найдич
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Ю. Левин, Н. Мыльников
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ
Очерк
Стояли осенние дни 1941 года. С фронта шли вести одна тяжелее другой. Фашистские захватчики, вооруженные до зубов, рвались к сердцу советской Родины – Москве.
Мимо станции Синарской один за другим шли эшелоны. Одни спешили на запад, к фронту, другие мчались на восток.
Однажды у станции остановился санитарный поезд. Путеец Григорий Кунавин стоял на перроне.
– Товарищ, какая это станция? – донеслось из окна вагона.
– Синарская, – ответил Кунавин и подошел к вагону.
– Какая у вас тут тишина, – сказал раненый.
Поезд тронулся. Кунавин не уходил. Он еще долго смотрел вслед уходящим вагонам. Перед взором стоял этот молодой израненный солдат, а в ушах слышался его голос: «Какая у вас тут тишина…»
В этот день Григорий пришел домой поздно вечером. Или разговор у санитарного вагона, или еще что подействовало на него, но он окончательно решил, что его место на войне, он коммунист и должен быть там, где может принести пользы больше, чем на далекой уральской станции. И он решил пойти на фронт добровольцем.
– Ухожу на фронт, Катюша, – сообщил он жене. – Пора…
…Эшелон уходил на фронт. Все жители Синарской вышли провожать своих земляков.
– Я буду бить врага так, как мне велит долг советского человека, долг члена Коммунистической партии, – поклялся тогда Григорий Кунавин перед земляками.
А в декабре 1941 года на полях Подмосковья он уже принял первое боевое крещение.
Стрелковое отделение, в котором служил рядовой Кунавин, стремительно ворвалось в траншею врага. Завязался рукопашный бой. Григорию Кунавину пришлось выдержать поединок с тремя гитлеровскими автоматчиками. Заметив одного из них, Кунавин бросился вперед и нанес врагу смертельный штыковой удар.
В это время Григорий почувствовал острую боль в ноге – его ранило. Однако воин не растерялся. Он развернулся и сильным ударом приклада свалил второго фашиста. Третий автоматчик, вынырнувший из-за поворота траншеи, сзади навалился на Кунавина. Стоило упустить какую-то долю секунды, и враг мог расправиться с советским солдатом. Но не тут-то было. Кунавин напряг силы и резким рывком сбросил гитлеровца с плеч, затем схватил его за горло…
После боя Кунавин попал в госпитальную палату.
«Дорогая Катюша! – писал он жене из госпиталя. – Дела идут на поправку. Хочется скорее на фронт».
И то ли оттого, что пехотинец Кунавин скорее стремится попасть на фронт, то ли потому, что у него был крепкий организм, рана зажила очень быстро.
Григорий Кунавин снова прибыл на передний край, в боевые цепи наступающей пехоты. Верный воинскому долгу, советский пехотинец бил оккупантов со всей русской удалью, смекалкой, отвагой. Он бил их на дорогах Смоленщины, в районах Могилева и Минска, на рубежах родной земли.
Не завоевателями, а освободителями вступили на польскую землю воины Советской Армии. Был в их числе и уральский железнодорожник, ротный парторг ефрейтор Кунавин.
Наступил знойный июль 1944 года. Советские войска повели бои за первые километры польской земли. Жестокий бой разгорелся за деревню Герасимовичи, что находится в Сокольском уезде Белостокского воеводства.
В течение трех дней деревня Герасимовичи шесть раз переходила из рук в руки.
На четвертый день рота, в составе которой был Григорий Кунавин, получила приказ приготовиться к решительному наступлению. Накануне боя парторг роты Кунавин собрал коммунистов и сказал:
– Наша рота будет участвовать в прорыве обороны врага, которая прикрывает подступы к Восточной Пруссии. Задача очень трудная. Помните, товарищи коммунисты, что в этой деревне под гнетом фашистов томятся наши братья по крови – поляки. Наш долг – освободить их из неволи.
Перед тем как начать штурм, Кунавин успел написать письмо своей жене Екатерине Андреевне на станцию Синарскую.
«С сегодняшнего дня, – писал он, – начинаем освобождать народ Польши. Победа дается, конечно, нелегко. Но нас воодушевляет то, что после каждой схватки подвигаемся вперед. Все ближе тот день, когда враг будет разбит окончательно, и мы возвратимся с победой в родные уральские края».
И вот настал час жестокой схватки с врагом. Гитлеровцы засели на удобной высоте, прикрывавшей деревню. Наступление роты, попавшей под пулеметный огонь, замедлилось. Для успеха боя во чтобы то ни стало нужно было подавить огневую точку врага. Кто выполнит эту задачу? У кого больше смелости?
Первым вызвался пойти парторг Кунавин. За ним пошли другие. Ефрейтор выдвинулся вперед и, укрывшись в ржаном поле, в нескольких метрах от немецкого дзота, непрерывно стрелял по врагу из автомата. Он выпустил первый автоматный диск, второй… Расстреляны последние патроны, но фашистский пулемет продолжал действовать. Тогда Кунавин подполз еще ближе. Чтобы выиграть схватку и выручить боевых друзей, попавших в беду, бесстрашный советский воин коммунист Кунавин пошел на самопожертвование. Он подкрался к вражескому дзоту и своим телом закрыл его амбразуру, повторив бессмертный подвиг русского солдата Александра Матросова. Пулемет заглох. Перестало биться сердце коммуниста.
– Вперед товарищи! Отомстим за смерть нашего парторга! – пронесся клич над полем боя.
Рота дружно поднялась в новую атаку и стремительным броском ворвалась в деревню, очистив ее от фашистских захватчиков.
«Мне очень тяжело сообщать это печальное известие, – писал Екатерине Андреевне фронтовой друг Григория – Александр Горбунов. – В боях за Родину погиб смертью храбрых наш любимый товарищ, ваш муж Григорий Павлович Кунавин. Тяжелое горе постигло нас. Но то, что сделал Григорий, никогда не забудется нами».
В польскую деревню Герасимовичи пришла долгожданная свобода. Ее принесли сюда советские воины.
У места героической гибели ефрейтора Кунавина состоялся митинг. Здесь собрались его боевые друзья, однополчане. Сюда пришли жители деревни Герасимовичи.
– Клянемся тебе, наш дорогой товарищ, что мы тебя не забудем. Мы довершим то, что ты не успел сделать. Враг будет разбит, – заявили воины.
– Твое имя, воин-освободитель, мы навечно сохраним в наших сердцах, – поклялись крестьяне польской деревни. – Ты пришел с далекого Урала и принес нам свободу. Вечная слава простому советскому солдату Григорию Павловичу Кунавину.
В знак благодарности русскому брату-освободителю общее собрание жителей деревни Герасимовичи постановило:
«1. Занести имя русского воина Григория Павловича Кунавина навечно в списки почетных граждан польской деревни Герасимовичи.
2. Просить о присвоении школе, где учатся наши дети, имени Григория Кунавина.
3. Учителям каждый год начинать первый урок в первом классе с рассказа о воине-герое и его соратниках, чьей кровью для польских детей добыто право на счастье и свободу. Пусть прослушают дети рассказ стоя. Пусть их сердца наполнятся гордостью за русского брата, воина-славянина. Пусть их понимание жизни начинается с мысли о братстве польского и русского народов».
Советское правительство высоко оценило великий подвиг Григория Кунавина. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Двадцатого сентября 1947 года председатель президиума Верховного Совета СССР писал Екатерине Андреевне Кунавиной:
«Посылаю Вам Грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему мужу звания Героя Советского Союза для хранения как память о муже-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим народом».
Со дня героического подвига Григория Кунавина прошло более десяти лет. Но какое бы время ни отдаляло нас от минувшей войны, слава героев не меркнет. Их имена живут в сердцах народа.
Уральцы свято чтут память своего земляка, воина-героя. Сейчас на станции Синарской нет такой семьи, которая не знала бы о бесстрашном подвиге Григория Кунавина. Именем героя названа одна из улиц Синарской, выросшая уже в послевоенные годы.
Весной 1953 года по просьбе трудящихся города Каменска-Уральского и железнодорожников Синарского отделения разъезд № 91, что находится в тех местах, где жил герой, переименован в станцию Кунавино.
Бессмертное имя Григория Кунавина продолжает служить живым примером и для тружеников Польши. Не так давно из деревни Герасимовичи, где покоится прах Григория Кунавина, в Свердловск пришло письмо. В нем говорилось:
«Мы, жители деревни Герасимовичи, не забываем имя героя-уральца Григория Кунавина. Он погиб на окраине нашей деревни, сражаясь за освобождение Польши из-под ига оккупантов.
В настоящее время правительство народной Польши начало строительство школы-памятника в честь героя. Эта школа будет вечным живым памятником, выражающим благодарность польского народа герою, который отдал жизнь за наше освобождение».
Ныне эта школа построена. Ученики деревни Герасимовичи гордятся тем, что она носит имя Героя Советского Союза Григория Кунавина. Для них высшим отличием является вручаемый в день окончания занятий портрет героя.
Вечно будет жить в сердцах советских людей светлое имя героя-коммуниста Григория Павловича Кунавина.
О. Селянкин
ОН ВИДЕЛ
Рассказ
Пятый час лежат матросы в развалинах дома! Широкая площадь преградила дорогу. Площадь «ничья». Гладкая, без скверов и памятников, она присматривается и простреливается со всех сторон.
Разгоряченные боем матросы попробовали с ходу пробежать через нее, но из отдушин в фундаменте и окон огромного дома, стоявшего на противоположной стороне площади, ударили враз пулеметы, автоматы, к ним присоединились минометы, рассыпавшие по мостовой дробь разрывов, и рота отступила. Она залегла в развалинах дома, в ожидании, пока артиллерия не подавит огневые точки противника.
Конечно, морская пехота могла преодолеть это препятствие. Ей приходилось брать и более укрепленные участки, но сегодня… Умирать сегодня, когда, кажется, даже воздух пропитан победой! Начали драться в Сталинграде, а сегодня перед глазами уже улицы Берлина! Сегодня только жить и жить…
Прижавшись щекой к холодному шершавому камню, Медведев время от времени бросает взгляд на раскиданные по площади тела. Это его бойцы. Еще утром, веселые, полные сил, выскочили они из развалин, а сейчас лежат неподвижно на иссеченных пулями и осколками чужих камнях.
Дом дрожит от взрывов, но не от того, что в него попадает много снарядов. Нет! В его крепкие стены только изредка ударяются мины. Дрожит он потому, что дрожит вся берлинская земля. Невиданной силы молот бьет по земле, и от его ударов, как игрушечные, покачиваются большие каменные дома.
Матросы лежат у проломов в стене. Одни злыми глазами смотрят на площадь, другие, положив кирпичи под голову, пытаются уснуть. Лица хмурые, злые. Соседи давно ушли вперед, а они лежат тут и ждут, пока пушкари расчистят дорогу.
Вокруг валяются жалкие остатки мебели: разбитый стол, сломанные стулья, распоротый матрац. Все это чужое, ненужное. Берлинская пыль лежит на обмундировании, оружии, на лицах и вот уже которые сутки скрипит на зубах.
Дома рушатся то и дело, но тот, на дальней стороне площади, еще стоит. В его стенах огромные проломы, едва держатся изогнутые балки, но дом стоит.
Вот по его темной стене мелькнула огненная змейка. Мелькнула на мгновение и исчезла. В стене появилась маленькая трещина. Зигзагом пошла она от одного пролома к другому… Стала шире, шире, стена качнулась, вдруг наклонилась, и упал угол дома, рассыпался по мостовой битым камнем, взметнув столб пыли.
«Еще немного, и пойдем», – подумал Медведев.
– Посмотрите, товарищ лейтенант, как они ныряют! – говорит подошедший связной.
В небе очень много самолетов. Непрерывно летят к центру Берлина бомбардировщики, над самыми крышами проносятся штурмовики, а выше их, как орлы, высматривающие добычу, парят истребители. Они то взмывают вверх, то стремительно бросаются вниз. В их полете заметна закономерность. Самолеты носятся чаще всего парами. Один догоняет другого.
Выстрелов уже не слышно. Видны лишь светлые точки, летящие от самолета к самолету. Вот один самолет задымил и, выйдя из боя, пошел на восток.
– Наш! – как вздох, вырвалось у всех.
– Дотяни, милый! Дотяни!
И самолет «тянет». Пламя показалось на плоскости, но летчик бросил машину на крыло и сбил его.
– Еще немного! Дав-вай!
Повалил густой дым, и черный хвост потянулся за самолетом. Огненные языки переплелись с черными прядями дыма…
От самолета отделилась точка, понеслась к земле, и вдруг закачался человек на стропах под раскрытым парашютом. Видно, как летчик натягивает стропы и старается скользить к фронту…
Но светлые нити вдруг потянулись от земли к парашюту… Даже зенитная пушка выпустила в него очередь снарядов!
Медведев не выдержал. Он сорвал с телефонного аппарата трубку и закричал что есть силы:
– «Сирень»? Дай «Гром». Я тебе дам занято!.. «Гром»? Ты ослеп, что ли?.. Приказа нет?.. Ах, ты… Что?.. Даешь?.. Давно бы так. Всю душу вымотал, – положив трубку, Медведев вытер ладонью вспотевшее лицо.
И грянул «Гром». Новые столбы пыли встали там, где стояла зенитка, и она, тявкнув еще раз, замолчала.
Летчик немного не дотянул до своих. Он опустился на середину площади. Медведев отчетливо видел, как подогнулись ноги летчика, как он пластом упал на мостовую на несколько метров впереди матросских трупов. Тугой, упругий купол парашюта обмяк, сморщился и осторожно лег на землю, прикрыв собой летчика.
На той стороне площади словно только этого и ждали. Темные провалы окон замигали вспышками очередей. На этот раз пули не свистят, а как-то жалобно взвизгивают: они направлены в летчика и рикошетируют от камней.
Несколько минут моряки лежали неподвижно. Первым поднялся Медведев, большой грузный, со свисающими вниз седыми усами. Он рванул ворот кителя и крикнул:
– Ах, так!
Крикнул не командир, а человек, потерявший терпение, но для матросов это было как долгожданный сигнал. На площадь выскочил один, другой, третий!..
Пули и осколки мин, как град, падают на камни, высекая искры. Искрится вся площадь, но рота бежит. Бежит вперед, пересекая огромную площадь, и ничто, никакая сила не способна остановить ее сейчас. И вот уже Медведев подбежал к летчику.
Увидев, что ранение тяжелое, он заговорил тем тоном, каким уговаривают иногда родители маленьких детей.
– А мы сейчас перевязку сделаем, доставим в госпиталь, а месяца через два и полетишь…
Летчик, не открывая глаз, отчетливо проговорил:
– Не тронь… Я знаю… Не боюсь…
На лице летчика уже лежали предсмертные тени. И вдруг он открыл глаза, слабо улыбнулся и тихо сказал, глядя на кирку:
– Хорошо… Флаг…
Все быстро обернулись назад. Флага не было. Кирка еще яростно огрызалась. Бой шел внутри.
«Бредит», – подумал Медведев.
Но летчик продолжал смотреть в сторону кирки. Глаза его сияли. Было ясно: он видел там красное знамя победы.
Губы его вздрагивали, он беззвучно шептал что-то. Потом пальцы разжались, выпустили подол гимнастерки. Спокойная, торжествующая радость разлилась по всему лицу…
Медведев первый снял фуражку.
А когда он возвращался к своей роте, над киркой развевалось огромное красное полотнище, ветерок ласково перебирал его алые складки, и казалось, оно закрывало все небо.
Александр Исетский
ЗА МОСКВУ
Очерк
Эту девушку мы встретили в австрийском городке Брук, когда еще над ним стоял гул артиллерийской канонады.
Она задумчиво сидела на небольшом возке, несколько похожем на русскую рудничную таратайку. На возке лежали два узла и мешок с овсом. В запряжке была старая изъезженная кобыла, то и дело приседавшая то на одну, то на другую заднюю ногу. Было что-то унылое во всей этой бедной повозке.
Девушка была одета «по-заграничному», но открытая русая головка с косичками, с вплетенными голубыми ленточками и округлый облик лица выдавали в ней русскую.
– Да, русская, – оживленно отозвалась она на наш вопрос, и лицо ее осветилось приветливой улыбкой.
– Домой собрались?
– Ой, скорей бы добраться, – вздохнула девушка, и снова на ее лицо легла тень грустной задумчивости. – Вы знаете, в этом городе, вон на той окраине, я прожила три года, и видеть тошно эти горы, эти дома и этих людей.
– Вы плохо жили?
– Плохо? – переспросила девушка и горько засмеялась. – Хорошо! Вот видите, до чего хорошо, – и, подняв рукав блузки, показала два глубоких сизых шрама выше локтя. – И вот еще, – стянула она чулок с икры ноги.
Почти детская нога была обезображена тоже двумя глубокими шрамами, отливавшими синим мертвенным цветом.
– За что это вас?
– За Москву! Москву хотела послушать. Хозяин мой всегда ложился спать в десять вечера. Обойдет двор, проверит, закрыт ли скот, все ли мы в бараке (нас работало у него шесть парней и две девушки), и, погасив свет в доме, уходит в свою комнату.
Я раза четыре уже слушала радио. Стоял радиоприемник в столовой, а комната хозяина почти рядом, через коридор. Ой, и страшно было, а хотелось услышать хоть капельку правды и немножко наших русских песен или кусочек музыки. Петь нам хозяин не давал. Пели тихо, в подушку.
Ну, подождала я полчаса, вышла тихо из барака и через окно влезла в столовую. Босиком, чтобы ни звука. Включила и скорей кручу на Москву, приложив ухо к приемнику, чтобы было едва слышно. И вдруг из-за печи в глаза мне ударил ослепительный луч электрофонарика. Я кинулась к окну, но кто-то сбил меня с ног и тяжело навалился. Ну что я могла сделать? Я была поймана. Ой, как они меня били, как били! И молча. Потом зажгли свет. Я лежала ничком. Тупо ныло все тело, саднели губы, на языке я чувствовала сладковатую теплую кровь. По башмакам я узнала хозяина, второй был чужой. Его ботинок был около моего плеча. Он толкнул им меня в плечо, и я перевернулась на спину. Это был ихний жандарм.
Хозяин сказал ему, чтобы он забрал эту «свинью», то есть меня, сейчас же, и доложил шефу. Я кое-как добрела до полиции, там меня засунули в темную камеру, а утром отправили в карательный лагерь, в Сант-Якоб. Это в восьми километрах отсюда.
Лагерь этот нарочно сделан для русских. На продолговатом островке среди реки такой низкий длинный каменный барак, совсем без окон и так устроен, что быстрая и темная река бежит возле его стен, и в бараке от этого день и ночь шум. Можно сойти с ума от этого шума. Он еще до сих пор стоит в ушах. Чтоб товарищ тебя услышал, надо говорить ему громко, в самое ухо.
Когда меня туда привели, я получила двадцать пять ударов резиновой палкой куда попало и еще один на добавку, потому что я застонала. Кто кричал или стонал, тех били еще сильнее и без счета. Били голых, сорвут все и бьют.
Я не потеряла сознания. Вы не смотрите, что я такая худенькая, я крепкая. Многие умирали в этом лагере, а я вот выжила. Я, правда, смутно помню, как меня унесли и кто унес, только помню, что несли куда-то вниз, потом стало темно, и кругом стоял несмолкаемый шум реки.
Кто-то в темноте перевязал мне руку и ногу, и я уснула. Сколько я спала – не знаю. Мы не знали ни дня, ни ночи. Для нас в этом подвале была все время ночь. Иногда нас выводили на «прогулку» – на пять минут, на грязный двор. В дверях при выходе каждый получал удар резиновой палкой. Эта палка казалась свинцовой, и, когда я выходила, каждый раз все тело так напрягалось, что даже больно, И не знаешь, по чему тебя ударят, и не видишь, кто бьет, потому что после мрака в глазах первое время стоит какой-то непроглядный туман, и только потом начинаешь различать людей, горы и дворовые постройки.
Тех, кто не выходил на «прогулку», избивали до смерти. Нужно было идти, не падать, не стонать, не кричать при ударах.
Спали на полу так тесно, что повернуться без команды было нельзя. И только на боку. А если ты встал, ряд лежащих смыкался, и тебе долго не найти места.
Мы как-то решили сосчитать, сколько нас в этой могиле. Одна девушка ощупью насчитала двести сорок восемь. Парни были в других казематах, и уж только теперь я знаю, что их было четыреста двенадцать.
Как кормили? Как свиней. Кусочек хлеба с песком, две кружки воды и в продолговатых бачках какая-то жижа из очисток картошки или квашеной порченой капусты. Мы не видали, какого цвета была эта жижа.
Слабые не выдерживали и умирали. Это обнаруживали, когда надо было повернуться на другой бок, а соседка не перевертывалась, или когда выгоняли на прогулку и считали нас. Каждый раз не хватало трех-пяти подружек.
Я пробыла в этом лагере два с половиной месяца и не знаю своих соседок дальше четырех-пяти в обе стороны, то есть я знаю, как некоторых зовут, которые лежали подальше, но никогда их не узнаю в лицо. На дворе и спросил бы, которая, например, Люба, а говорить нельзя, оборачиваться тоже.
Мы думали, что так и умрем в этой могиле. И так было страшно умирать в темноте. Обнимемся и плачем. Рассказываем друг другу о своих городах, о родных и знакомых. Некоторые сходили с ума, и их куда-то увозили.
Если бы вы побывали в этом лагере, вы прочитали бы там на стенках про всю нашу жизнь. Писали в темноте, кто чем мог: гвоздем, огрызком карандаша… Писали имена, кто откуда, как над нами издеваются, насилуют, кто умер, проклинали фашистов, как их, наверное, никто не проклинал.
И вот как-то долго-долго нам не давали воды. Новенькие, которых привели в лагерь за последние дни, говорили, что будто недалеко Советская Армия. Мы не верили, что так скоро наши могут прийти в эти проклятые горы.
Но вот мы слышим – кто-то бьет в двери. Этого никогда раньше не было. Все повскакали и столпились у двери. Снаружи били в деревянную дверь, наша была железная, гладкая, с пупырышками заклепок, за которые нельзя было уцепиться.
Кто-то сказал, что это, наверное, пришли эсэсовцы, чтобы всех нас перебить. Немцы последнее время часто говорили, что, если Советская Армия подойдет близко, они нас всех убьют.
Мы в ужасе кинулись от дверей в глубину подвала. Все вдруг поверили, что пришло самое страшное – смерть. Плакали, кричали, молились, прощались друг с другом.
Деревянные двери рухнули, раздались удары в нашу железную дверь. Били чем-то тяжелым по засову, по петлям.
Прижавшись друг к другу, мы напряженно смотрели в темноту, туда, где гремели железные двери. Раздался невероятный скрежет. Одна половина дверей отвалилась, и несколько теней осторожно вошли в подземелье. По силуэтам мы видели, что они были с оружием. Мы молчали, следя с жуткой тревогой за движениями вошедших, ожидая, что вот-вот хлестнет огненная очередь автоматов.
– Кто здесь? – крикнул один по-русски.
Никто не ответил. Были и среди немцев хорошо говорившие на русском языке.
– Черт возьми! Кто здесь? Мы русские!
– Русские! – единым вздохом откликнулись двести наших голосов.
Словно подброшенные подземным ударом, мы кинулись к солдатам и, честное слово, знаете, сбили их с ног, смяли.
Мы обезумели от радости. Каждой хотелось обнять, поцеловать освободителей, пожать им руки. Вот теперь смешно, а тогда в этой дикой свалке двух товарищей красноармейцев потеряли в навалившейся куче. Хватали, тянули лежавших, а это оказывались свои девчата.
– Да это сумасшедший дом, ребята! – выкрикнул один солдат и бросился в двери.
Это спасло положение. За ним бросились девчата, и через миг все были на дворе. Бедные наши освободители были растерзаны. У некоторых не оказалось пилоток, погон и даже поясов. Ну, конечно, все потом нашлось. Мы помогли товарищам быстро привести в порядок их одежду, а сами не могли на них насмотреться.
– А комендант? – вдруг прокричала одна из девушек. – Коменданта надо поймать!
Все было кинулись в разные стороны, но один из солдат сказал:
– Птичка уже поймана, девушки. Это село мы окружили, и убежали немногие.
– Дайте, дайте нам его! – потребовали мы.
Коменданта привели на наш двор, где он еще вчера нас избивал и плевал нам в лицо. Был он теперь жалок, ссутулился, рыжие щеки впали, глаза слезились и часто мигали. Он не посмел посмотреть нам в глаза.
– Какой будет приговор, девушки? – выкрикнул кто-то в толпе.
Не надо было произносить этого слова. Оно было в нашем беспощадном взгляде, в гневных глазах всех девчат, выплакавших свое горе в этом дьявольском лагере.
* * *
Парни просидели в заключении на полчаса дольше нас, девчат. Мы на радостях о них забыли. Они сидели в четырех тоже темных камерах, по сто человек в каждой. Как и мы, все они были измучены и истощены и, понятно, бесконечно рады своему освобождению.
Вы знаете, мне все казалось, что стук наших деревянных башмаков слышно даже в Москве. Я везу эти башмаки и платье с желтым клеймом «ОСТ» домой, в Днепропетровск, на горькую память о неметчине…
Горестные воспоминания вновь омрачили посветлевшее было личико Нади Ивановой. В 1942 году, когда немцы схватили ее на днепропетровской улице, ей было четырнадцать лет. Годы тяжелой каторги не дали ей вырасти и расцвести. Перед нами сидела на унылом возке хрупкая девочка, с жиденькими косичками с вплетенными в них голубыми ленточками, бог знает как выжившая три года в страшной рабской неволе.
К возку Нади подошла ее подружка Фатьма, крымская татарка. Она ходила искать сборный пункт для советских людей, освобожденных из неволи, но не нашла. Мы указали им место сбора и дружески распрощались с девушками.
– Спасибо вам, товарищи! До свидания! – повеселев, сказала Надя и, подобрав вожжи, задорно крикнула на понурую лошадь:
– А ну, фрау Марта, шагай пошире!













