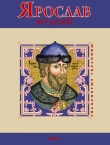Текст книги "Мстислав"
Автор книги: Борис Тумасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
Голод в Чернигове дал знать уже к Крещению, и хотя люд подкармливали вяленой рыбой, иногда перепадало мясо, если выдавалась Охота, но на улицах появились первые опухшие, а по утрам находили мёртвых. И тогда Мстислав отправил гонца с письмом к Ярославу. Просил помочь голод пережить. Созвал Ярослав митрополита и бояр: – Голодно в Чернигове, князь Мстислав помощи просит. Боярин Кружало удивился: – У сами нехватка, а гут черниговцев кормить. – Помолчи, Собачий Хвост, аль черниговцы не русичи? – оборвал боярина старый Авдюшко. А воевода Александр добавил: – Чать, запамятовал. Кружало, как в трудный час Чернигов нам плечо подставлял? – Помните заповедь Божию: не оскудеет рука дающего, – провозгласил Паисий… И потянулся в Чернигов санный поезд с зерном, а для охраны его князь нарядил полсотни гридней. Не напрасно. Под Черниговом наскочила ватага. Рассеяли её гридни, кого убили, а тех, кого изловили, на суд Мстислава доставили. Сурово судил их князь, что хлеб у голодного люда отнять вознамерились» смерти достойны…
С десятком дружинников Мстислав торопился в Новгород-Северский. Дорога малоезженая, и кони копытами отбрасывали снег. За князем скачет воевода новгород-северский. Вчерашним вечером явился он в Чернигов и рассказал, люд взбунтовался. Пришёл волхв из леса, голодный люд смутил. Ударили в било, и когда собралась толпа, волхв позвал народ на именитых, хлеб у них отбирать. Волхв кричал, что надо Перуну жертвы принести и ему поклоняться. Князь обеспокоен, ну как из Новгорода-Северского смута в иные городки перебросится. Скачет Мстислав, а мысли лихорадочны, однако расчётливы: сурово судить – озлишь, миловать – другим не в науку… Сиротливо прижался к замерзшей Десне Новгород– Северский острожек, притих, запушённый снегом, будто и не живёт в нем никто. Ворвались черниговцы в распахнутые ворота, осадили коней у воеводской избы. – Зови, Данило, старейшин, – бросил Мстислав воеводе. – И сыщи волхва, куда бы ни укрыли его. Сошлись в воеводской избе старейшины, лики скорбные, синяками разукрашенные. – Есть ли умученные до смерти? – спросил Мстислав. – Бог миловал, князь. Вот, вишь, побили в пограбили! – Увеченья нет, а синяки сойдут, – сказал Мстислав и спросил: – Какой казни чернь достойна? Затихли старейшины. Наконец воевода голос падал: – Ты, князь, те и судить. Мстислав ладонью по столу пристукнул. – Приговор мой таков: волхва в железо я в яму, там ему место на веки вечные, а люд ни битьём, ни смертью не казнить. Зашумели старейшие: – Это на поругание наше? – Пограбили – и простить? – Аль смуты новой хотите? – поднял брови Мстислав. – А за поругание и урон будет им вира, всем миром вдвойне заплатят в будущий урожай. Коль взял мешок, два вернёт. Созывай люд, воевода. Глухо застучало било, сошёлся народ, ждёт, о чём князь сказывать станет И поняли, не казнить Мстислав приехал, а по справедливости судить. Выслушали приговор. Наперёд выбрался кузнец, поклонился: – Искупим вину свою, княже, не сомневайся:
Весной у Добронравы случился второй приступ. И сызнова скрыла она от Мстислава. К чему лишнее беспокойство, и без того забот достаточно. Сразу же после голодной Пасхи ударил набат в Чернигове, сбежался люд на площадь, что у детинца, злые, голодные. Горланят, Мстислава и бояр винят. Подстрекатели звали боярские хоромы крушить. Боярина Ивана, попытавшегося люд пристыдить, с коня стащили, едва жизни не лишили. К смутьянам выехал князь с дружинниками, разогнали толпу. Затих Чернигов. Ожидали нового взрыва, но пришли в хоромы к Мстиславу выборные с повинной: – Прости, князь, голод тому вина. – Мне ли неведомо, – ответил Мстислав. – Однако вдругорядь не пощажу.
Зиме, казалось, не будет конца. Снег засыпал город, и его никто не отбрасывал. Но Мстислав решил дать люду работу, они начали расчищать мостовые, и за то их кормили. Черниговцы ждали весны, когда поднимутся огороды. Не раз Мстислав думал, что был прав, отказавшись в эту зиму от полюдья. Редко кто из смердов не отсеялся осенью, и под снегами хорошие озимые всходы. Приходил Мстислав на половину жены, подолгу не спал, одолеваем мыслями. В оконце заглядывала ущербная луна, она была стылая, как и вся зимняя ночь. Обычно Добронрава Заговаривала первой. Однажды она сказала: – Кабы могла я, князь, разделить с тобой твоё бремя тяжкое… – Ты и без того, княгинюшка, помощница мне. Люд мыслит: княжья власть сладка, ан не так. Она легка разве для того, кто лишь о себе печётся, кому боль людская не касаема. Для такого князя вся жизнь только в нем, он подобен той холодной луне, какая к нам в оконце подглядывает. Помолчал, потом снова заговорил: – Легка ли власть Ярославу, заботцу всей Руси Киевской? Он не только о доме своём мыслит… Князь за всё перед Господом ответ держать будет… А ещё, Добронравушка, о чём думаю: что обо мне на Руси сказывать будут через века?.. – Стоит ли о том мыслить? – Надо, Добронравушка, надо. Молва человеческая страшна, дурная она и на том свете достанет. Человека забудут, а князя нет. Добронрава разговор перевела: – О Тмутаракани не вспоминаешь ли? А я часто. Мстислав жену обнял: – Сыщется время, княгинюшка, и мы с тобой побываем на Тамани. – Случится ли такое? – Сбудется, и не ладьями, а степью поедем. Дожить бы до того часа. – Что плетёшь, аль старуха? – Да уж нет, годами будто не стара, – усмехнулась Добронрава, – а как в остальном, те, князь, судить.
Та зима для улуса хана Булана не принесла ничего доброго. Бросив удобное зимовье в низовье Дона, потеряв в дороге и на переправе несколько веж, печенеги оказались беззащитными перед стужей. У них не было заготовленных сухих кизяков, которыми печенеги обогревали юрты и на которых варили пищу. Случалось, по утрам находили замерзших стариков. Мурзы и беки винили во всём Маджара. Маджар указывал на сотника Белибека, какой привёз известие о половцах. Собрав старейшин, хан, брызгая слюной, кричал: – Где те половцы? Мы покинули обжитые места, ушли, чтобы коченеть от холода. Мудрый мурза Маджар, я. не забыл, как ты заступался за Белибека.. Но теперь я накажу его. Он оказался трусливым шакалом и собственную тень и тень своих воинов принял за: половцев… Темник Затар, у тебя нет сотника Белибека, он не достоин водить воинов. Мурза Маджар, я не нуждаюсь твоих советах. Тебе незачем появляться в ханской юрте. Покинув юрту хана Булана и сравнив себя ср старо побитой собакой, мурза Маджар побрёл в свою вежу.
Час поздний, и в горнице горят в серебряных поставцах свечи. Оплавливаясь, воск стекает в чашечки. На столе, крытом зелёным сукном, лежат книги в кожаных переплётах. Их много. Они писаны всё больше греческим и латинским письмом. Встречаются и на славянском.
Ярослав любит книги, как своих детей. И сыновья и дочери киевского князя тянутся к книжной премудрости.
Князь стоит у стола, перелистывает страницы книги, но не читает, голова иными мыслями забита, он о детях думает; настанет время, и надо сыновей женить, на княжение определять, дочерей замуж отдавать.
Голодно подвывает за оконцем вьюга, она лютует в своём последнем месяце. Эвон как шебуршит, не пригоршнями, лопатой снег швыряет. А в горнице жарко, с треском горят в отделанной изразцами печи берёзовые дрова, гудят в трубах, причудливыми бликами пламя вихляет по стене.
Скачут мысли. Вот они на Мстислава перекинулись. Ярославу до сих пор не понять, почему брат, одержав победу на Лиственном поле, не сел на княжение в Киеве? За это Ярослав благодарен ему, хотя в первое время таил обиду.
Из горницы князь перешёл в опочивальню, покликал отрока. Тот помог разоблачиться. Оставшись в одной поняве[146]146
Понява – нижняя рубаха.
[Закрыть] подошёл к окошку, подышал на стекольце. Стыло пахнуло с улицы, даже дрожь продрала. Лёг на лавку укрылся пуховиком. Вспомнил мать, Рогнеду, княгиню полоцкую, какую отец, идя из Новгорода на Киев, взял с боя в разорил Полоцк только за то, что она отказалась пойти за него замуж, укорив: «Не хочу розуть робичича», напомнив этим о его рабском происхождении.
Великий князь Владимир оставил Рогнеду, как только принял христианство, и женился на Анне, племяннице византийских императоров… Может, оттого Ярослав питал неприязнь к отцу? Вчера побывал у князя Петруня-городенец, сказывал, явилась в Киев артель иконописцев из Суздаля, Ростова и Владимира, да не богомазы, а мастера отменные. Петруня их взял, и но теплу они станут расписывать Софийский собор. Он, Ярослав, встретится с иконописцами и скажет, что бы хотел увидеть на стенах собора. Пусть люд киевский и иноземцы, войдя в собор, зрят величие и крепость государства Русского.
Покряхтел, поохал боярин Димитрий, но против Мстислава не пойдёшь. Указал князь в еде гридням и боярам урезать, дабы кормить голодный люд. Боярыня Евпраксия возмущалась: – В клетях своих мы ль не вольны? Ужли и нам, боярам, голодом себя морить? Димитрий на жену поглядел насмешливо: – Ты, Евпраксеюшка, Бога не гневи, звон в каком теле! Боярыня взъерошилась: – Тебе-то мои телеса к чему? Ты, боярин, нынче как тот пёс на сене, сам не гам и другому не дам. – Эко, дура, – сплюнул Димитрий. – Батогами поучу, враз язык за забор упрячешь. Евпраксия замолчала. Она не забыла, как ещё в Тмутаракани Димитрий велел холопу посечь её, а тот переусердствовал и так отходил, что боярыня дён пять сидеть не могла… Отошла Евпраксия от скудного стола, всего-то и съела поросячий бочок с кашей гречневой да кусок пирога с капустой и киселём клюквенным запила, надела шубу, во двор выбралась. Намерилась к княгине сходить, да Хазрета увидела. Тот шёл не один, за его рукав Василиска уцепилась, в шубке беличьей, платком укутана. – Здрав будь, воевода, – пропела Евпраксия, – что же Марья-то? Но касог на боярыню без внимания, а Евпраксия ему долго вслед смотрела, Василька вспомнила, ту ночь, когда он к ней гонцом от боярина Димитрия яви лея… Шла Евпраксия, а по пути размышляла, не иначе Марья касогу приглянулась. А мужик он видный, взгляд орлиный, вот разве молчун, да в постели язык-то не всегда и надобен.
В марте-березозоле вздохнули черниговцы, пережили зиму. Глядя, как ветер снежные узоры рисует, говорили. – Коли в марте снежок задулинами, то будет урожай на огородину и ярицу. Хотя весна ночами ещё грозила морозами, но днём солнце выгревало, и звонкая капель из-под стрех раздавалась по всему Чернигову. Снег оседал, от ночных морозов становился твёрдым настом, а потом как-то незаметно превратился в ноздреватый, рыхлый, и из-под него потекли ручьи. Мстислав возвращался из обжи. Придержав коня, полюбовался, как мальчишки пускают по ручьям вырезанные из коры ладьи, весело перекликаются. Глядя на них, князь подумал, что голод уже не так страшен, весна несёт избавление и надежду. Сегодня они с Петром смотрели, как перезимовала рожь. Она была сочной и густой. Начало хорошее, было бы и дальше так. Пока ехал из обжи, думал, что прав, когда не послал в полюдье. Уберегли смерда. И на душе у Мстислава радостно…
Утром в горенку ворвался Мстислав, рубаха нароспашь, грудь открытая, а лицо сияет, ровно у подростка: – Княгинюшка, Десна вскрылась! Вышла Добронрава на берег, а там уже люд толпами. Льды на реке трещат, глыба на глыбу лезут. Медленно очищалась Десна, темнела холодная вода в полыньях. Народ радовался: – Задышала, кормилица!
– Жди гостей заморских!
Мстислав жену обнял: – Зачем налегке вышла? Студёно! – Сам-то в одной рубахе. – Мне нипочём, я горячий! Добронрава усмехнулась: – Был, да поостыл. Видать, годы сдают, не те. – Те, княгинюшка, те! И легко подхватил её. – Пусти, люд зрит. – Пусть зрит, чать, не чужую жену. Но отпустил. – А что, княгинюшка, пахнуло теплом, в жизнь посветлела. Знаешь, о чём мысль моя? Урожая дождёмся и в будущее лето в Тмутаракань отправимся. Степью по скачем. Она весной вся в цвету. Воротимся в сентябре вересене. И выкрикнул зычно: – Тму-та-ра-кань! – Чее-рни-гоов! – откликнулся люд. Мстислав повернулся к Добронраве: – Помнишь, княгинюшка, каким выдохом изошлась дружина, когда на хазар ринулась? – Как забыть, когда там Важен остался. Притих Мстислав, понял, больно Добронраве, позвал: – Пойдём, княгинюшка, зябко становится.
Откуда бы ни подъезжал Мстислав к Чернигову, постоянно любовался городом. Обнесённый острогом, с могучими башнями, с бревенчатым забралом на стенах, со рвом и земляным валом, Чернигов выглядел грозно. Каждое лето строили, крепили город. В камень начали одевать Чернигов и детинец на холме, княжьи хоромы и боярские, церкви и поднявшийся первой кладкой Спасо-Преображенский собор. Кованые ворота детинца и дубовые, обитые полосовым железом ворота острога опробованы на удар тарана. Доволен Мстислав, на века строится Чернигов. Каждый раз, восхищаясь черниговскими укреплениями, считая их неприступными, Мстислав даже и помыслить не мог, что ждёт Русь. А на Востоке уже нарождалась сила, какая через два столетия обрушится на Русскую землю, и не устоят перед ней ни бревенчатые остроги, ни каменные крепостные стены. Имя того страшного тарана – татаро-монголы. Два с половиной века потребуется Руси, чтобы сбросить их иго, но это уже будет не Киевская Русь и не Черниговская, а Московская.
Митрополит Паисий наведывался в собор почти Каждодневно. Медленно переходил от стены к стене, смотрел внимательно, как расписывают мастера Святую Софию.
В висячих люльках, высоко, под самым куполом, работала искусные художники.
– Дивно, дивно, – шептал митрополит, любуясь картинами.
Глядя, как работают мастера по мозаике, владыка Паисий говорил:
– Лепно, ох как лепно!
Едва увидев работу мастеров, митрополит сразу же отказался от мысли звать расписывать собор византийских художников. Эвон какие на Руси умельцы!
А на стенах, какие на хоры вели, художники изобразили князя Ярослава с семьёй – по одну сторону мужчины, по другую женщины. Вот другая картина, где Ярослав подносит Христу изображение Софии. Рядом с князем Ирина, дочери, сыновья. Не святой Ярослав, но мудрый, о Руси печётся. Потому и не противился митрополит, когда иконописцы народные гулянья рисовали.
Покидая собор, владыка каждый раз хвалил Петруню:
– Дивных художников отыскал ты, сыне. Навеки творение их.
Мстислав вершил суд. День воскресный, и на княжьем дворе собрались черниговцы. Особняком гридни сбились. Бояре встали за княжьим креслом. Ждали Мстислава.
Он появился неожиданно, спустился с крыльца, в лёгком кафтане, русые волосы в кружок стрижены. Поклонился всем и, дождавшись ответного, уселся. Пригладив усы, спросил у тысяцкого Димитрия:
– Кого первым суду предадим?
– Акиншу, князь, проворовался.
– В чём воровство?
– Во хмелю в клеть к боярину Лимарю влез, копчёный бок вепря унёс.
Мстислав позвал Лимаря. Боярин бороду распушил, князю поклонился.
– Боярин Лимарь, ты истец, так ли было?
– Истину сказывает боярин Димитрий.
– Где ответчик?
Из толпы вытолкнули кривовязого, косноязыкого мужичонку.
– Ты – вор Акинша? – с удивлением спросил Мстислав.
– Во хмелю, бес попутал, князь. И голодно было, а бочок пахучий, не удержался.
– Не удержался, сказываешь? Какой казни – вору Акинше ждёшь, боярин?
– Что от него возьмёшь, княже, а какой вирой, те судить. Вели ему в августе-густаре на моём огороде отработать.
– Слышал желание боярина, вор Акинша? – спросил Мстислав у мужика.
– Слышал, княже.
– Что ответишь?
– Да чего, я не против. Только, княже, бочок тот был махонький, а огород у боярина ба-альшущий…
– Впредь, на воровство идя, думать будешь. Ныне же быть по тому, как боярин Лимарь просит.
Следующими на княжий суд явились два черниговских купца, Гараська и Селиверст. Жаловался Гараська, взял Селиверст у него взаймы три гривны серебра для оборота и не возвращает.
– Брал ли ты те гривны, Селиверст?
– Признаю, княже, но нынче где взять, год, сам ведаешь какой. Обернусь с товаром, верну.
– Коль признаешь, то сидеть тебе в долговой яме, пока урон купцу Гараське не отдашь. Аще кто поручится за тя, иной сказ…
Мстислав повернулся к боярину Димитрию:
– Кто ещё жалобу принёс?
– Ювелирных дел умелец Ефимка Прибытков с обидой на гридня твоего, князь, Серьгу Толстого.
– Где Ефим Прибытков?
К князю подошёл крупный, с плоским, как блин лицом, ювелирных дел мастер.
– В чём жалоба твоя, ремесленный человек?
– Обиду на гридня Серьгу Толстого принёс. Тот отрок с отроковицей моей Улькой озорство учинил.
Нахмурился Мстислав:
– Где гридин Толстой?
Метнулся воевода Семён, выволок из толпы гридня. Тот роста невеликого, но в плечах широкий. Стоит, ровно бычок двухгодовалый. А Ефим уже дочь за косу тянет под смех толпы. Девка в отца, крупная, плосколицая, ревёт телушкой. Ефим шумит:
– Уймись!
– Утри слёзы, девица, – сказал Мстислав и метнул на гридня косой взгляд. – Этот ли отрок обиду нанёс?
Девка рукавом слёзы отёрла, кивнула.
– Чего за обиду требуешь, мастер?
– Желаю, чтобы гридин Серьга свой грех покрыл.
– А ты, девица?
Улька снова в слёзы:
– В жё-ёны хочу!
Хохочут гридни, потешаются черниговцы. Прячут бояре улыбки в бороды, прыснул в смехе Мстислав, но тут же посерьёзнел:
– Что ответствовать станешь, Серьга?
– Как велишь, князь.
– А моя воля такова, как и девицы кататься, умей и санки возить. Готовь свадьбу, Ефим Прибытков, да нас зови.
Мстислав с охоты воротился довольный, неделю в лесу провёл зубра свалил. Подраненный зверь уходил, сокрушая всё, но Мстислав догнал на коне, добил. Целый воз мяса привезли. Принял Мстислав банкой едва в хоромы вступил, как тысяцкий с вестью недоброй: бояре ропщут. Мстислав удивлённо поднял брови: – В чём возмущение? – Говаривают, князь смердов пожалел, зимой дань не собрал дружину впроголодь держит. Спрашивают, где меды сытые, столы обильные? А всегда ли пьём мы пиво солодовое. Помрачнел Мстислав, помолчал, потом сказал: – Передай стряпухам мясо, чтоб к вечеру столы крыли, да вели боярам на трапезу прийти. Удалился боярин, а Мстислав на лавку прилёг. Спать не хотелось, лежал, уставившись в потолок, думал, гадал, кто из боярской дружины заводчик? Всех мысленно перебрал ни на кого указать не мог. Может, недовольство само по себе вылилось? Кто-то прошлое застолье вспомнил, да так и началось. Дружина – надежда князя, его опора. Возмутится дружина, на кого князю рассчитывать? Вон как случилось на Альте-реке, покинула князя Бориса дружина, в ту же ночь люди Святополка и зарезали Бориса… Нет его, Мстислава, дружина не покинет, она с ним из Тмутаракани в Чернигов шла, и если молодшая обновилась, то старшая, боярская, прежняя, она с Мстиславом победы делила. Но видит князь Мстислав в другое: постарела боярская дружина, кое-кого на покой потянуло, холопами обзавелись, хоромами, жёнами, чадами… Отяжелели… Сошлись бояре на званую трапезу, расселись за столами. Челядь разносила на деревянных блюдах мясо жаренное кусками, рыбу запечённую, пироги подовые с капустой квашеной и клюквой. Вкатили бочки е мёдом хмельным. Тут и Мстислав появился, уселся на помост, окинул взглядом гридницу. Затихла боярская дружина. Разлила челядь мёд по чашам, князю подали братину. Он поднял её: – Дружина моя старшая, пью за вас. Когда мы ходили на врага, вы стояли в большом полку и дрались в челе. Разве кто из вас дрогнул? Я ль вам не верил? – Верил, князь, аль в чём сомнение держишь? Но Мстислав не ответил, своё продолжал: – Нынешней зимой, бояре, мы не ходили в полюдье и оттого жили скудно. Но мы смерда сберегли от голода, и он зерно, какое мы оставили ему, в землю бросил. Уродится, вдвойне вернём. Не так ли, бояре? – Истина в словах твоих, князь Мстислав. Ты поступил по разуму. Перекрывая шум, заговорил воевода Иван: – Ты, князь, нас прости. Ежели кто худое молвил, то не по злому умыслу, языки чесали, прежние пиры вспоминали. – Пиры ещё будут, бояре, и не держу я на вас зла, а потому пью за дружину мою большую. Он сделал глоток и пустил братину по кругу. Каждый пригубливал: – За тебя, князь! – За Мстислава, сына великого князя Владимира! – Живи долго, князь черниговский и тмутараканский! – Многие лета те, храбрый князь Мстислав!
Разошлись бояре за полночь, опустела гридница, и только разорённые столы да кости на полу напоминали пиршестве. Доволен Мстислав, будто встряхнулись бояре. А что до ропота, так хорошо сказал воевода Иван, прошлое не забылось. Горели смоляные факелы, и хоть открыты двери и выставлены оконца, в гриднице чадно. Выбрался Мстислав на свежий воздух, вдохнул всей грудью. От лесов, где рос сосняк пахнуло распаренной за день хвоей. Вчера Добронрава ходила с дворовыми девками в лес, несла полную корзину маслят. Мстислав любил жареные грибы.
Факелы горели на княжьем дворе и у ворот детинца, где несли стражу гридни. Небо стало светлеть, скоро рассвет. Увидев князя, подошёл Хазрет.
– Отчего рано пир покинул?
– К Марье ходил.
– Спасибо за память о Васильке.
– Помнишь его наказ мне, князь? У касогов обычай: жена погибшего друга – твоя жена, его дети – твои Дети.
– Хороший закон. А что Марьям?
Промолчал Хазрет, а Мстислав на иное речь перевёл.
– Бояре пили за князя черниговского и тмутараканского, а я какое лето в Тмутаракани не бывал. Годы эти Чернигову отдал. Будущим летом хочу побывать на Тамани, посмотреть, как Ян на воеводстве сидит.
– Возьмёшь ли меня с собой?
– Зачем спрашиваешь, там твоя родина. Твоя и Добронравы.
Мстислав не обременял смердов данью непомерной, в полюдье брал десятую часть от урожая, от пушнин, добытой в лесу, от бортей.
Черниговские смерды утверждали:
– Мстислав справедлив. Да что с нас и взять?
– Иной князь шкуру спустит без жалости.
В обже у Петра о Мстиславе речи не вели. После разговора с сестрой Пётр смирился. Когда князь появлялся в обже, перекинется с ним несколькими словами о хозяйстве а уедет, и будто нет Мстислава вовсе.
Неприятно Оксане, всё чаще овладевало ею желание уйти в монастырь. Трудом послушницы и молитвами получить прошение за свои грехи. Оксана считала свои мирские дела оконченными, племянников вырастила, уже похоронила, так и не вкусив радости и горечи семенной жизни. Мстислав? Но он не муж, а любовь к нему в келье забудется.
Мысль об уходе в монастырь она скрывала от Мстислава, да и наезжал он в обжу редко. Уедет князь в Тмутаракань, а она в монастырь удалится.
Незаметно подошёл праздник Ивана Купалы; весёлый, с большим гуляньем, ночным костром за городски ми стенами. Прыгали чрез огонь попарно. Костер взмётывал искры, парни и девчата водили хоровод, пела:
Иван да Марья
На горе купалися.
Где Иван купался -
Берег колыхался,
Где Марья кусалась -
Трава расстилалась.
Плели венки, а в полночь отправились искать желтоголов и цветок иван-да-марью.
Хороший, щедрый праздник Ивана Купалы, от языческих времён сохранившийся.
Мстислав пришёл к костру с Добронравой, заразился весельем. Добронрава пошутила:
– Ты, князь, годы свои забыл.
– А я их видел? – И позвал Добронраву искать жар-цвет папоротника.
Но она отмахнулась: папоротник лесной нечистью окружён…
После Ивана Купалы наступил покос. Мстислав встречал его в обже. «Зажинки», святой день для смерда. В грозник-месяц дозревала на поле рожь, клонилась к земле тяжёлая пшеница, усатый ячмень, того и гляди, начнёт ронять зерна. В обжу Мстислав приехал, едва засерело. На поле вышли, как на праздник, в чистых одеждах. На Оксане сарафан яркий, и вся она торжественная.
Сделав первый прокос, она поставила сноп в стороне. Он считался особым, и место ему у божницы. После обмолота его зерно примешивают к семенному, чтобы в будущий год дал щедрый урожай.
Мстислав взял серп, принялся жать. Нелёгкий труд, и у него с непривычки и без сноровки вскоре заныла поясница. Оксана заметила:
– Твоё ли дело, князь?
Мстислав пошутил:
– Бояр бы сюда, дабы знали, чем хлеб пахнет…
К вечеру Мстислав садился в седло морщась, однако прошедшим днём остался доволен.
Из Переяславля приехал воевода Роман. Рассказывал, что с уходом печенегов из придонских степей на заставах тишина. Разве иногда проскачет степью какой печенежин, в снова безлюдье. О половцах не слышно. Воевода Роман даже ертаулы за Дон высылал, но и там ни печенегов, ни половцев. По всему, орда половецкая всё ещё за Волгою кочует.
Воевода Роман приехал к Мстиславу с просьбой: надумали переяславцы слать в Таврию и били они князю челом отпустить с ними охочих гридней в защиту от степняков, коли наскочат.
Таврия солью богата. Озера её по берегам Гнилого моря, но путь туда опасен. Случалось, печенеги на обоз наскакивали. Но уж коли доберутся чумаки до озёр, все трудности дорожные забывались.
Сколько видели глаза, морская вода покрыта соляной коркой. Чумаки соль покупали в варницах, но чаще черпали сами, складывали на берегу в скирды, а когда вода стекала, соль обжигали, набивали в рогожные мешки и с великим бережением везли на Русь.
Дорого давалась соль, была она на крови замешена.
– Гридней отпусти, коли сами того желают, – сказал Мстислав, а с привезённой соли десятину в княжью сольницу. Да не опалённую, а пропущенную через варницу, чтоб не хуже галичской и перемышлевской была.
На торгу повстречался Мстиславу гончар Семён, шёл по ряду, кувшинами уставленному, приглядывался.
– Аль потерял чего? – затронул гончара князь.
– Сказать, князь, не поверишь. В прошлый день воскресный увидел я у восточного гостя чашу. На свет тонка, как стекло, а цвета чёрного. Из чёрной глины та чаша. А хозяин посмеивается, на Руси-де такой не сделать.
– Не иначе краска чёрная в глине.
– Что краска, согласен но отчего глина вязкость не потеряла?
– Думай, мастер, либо наши гончары восточных хуже? – И уходя, вспомнил: – Взял ли кого в обучение?
– Сыскал. Да ты, князь, его знаешь, твоей стряпухи сын, Васёк.
Мстислав улыбнулся: давно ли голубей гонял?
– Он малый старательный, однако ты его от школы не отрывай, нам грамотные на Руси надобны.
– Ум-разум никому не во вред.
Семён ступай за чёрной чашей.
– Заходи, князь, поглядишь, какую я плиту мозаичную наладил.