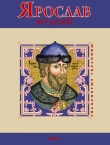Текст книги "Мстислав"
Автор книги: Борис Тумасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Заключили князья ряду вернуть Киеву Червонную Русь, а Чернигову и Новгороду королевство дань выплатит. И о воеводах речь шла. Ярослав сказал, что киевлян и новгородцев поведут воеводы Будый и Пров, а у черниговцев на кого Мстислав укажет. Ещё договорились князья, что Ярослав останется в Киеве, а над всей ратью, которая на Польское королевство пойдёт, встанет черниговский князь.
На том порешили.
Быть войне!
Пока братья между собой рядились, Добронрава всё в Киеве успела посмотреть. Понравился ей каменный теремной двор на Андреевской горе, и хоромы каменные с сенями и гридницей, да иные каменные строения, ещё великим князем Владимиром, отцом Ярослава и Мстислава, возведённые.
По рассказу Мстислава, слышанному им ещё от Путяты, на Андреевской горе стоял языческий бог, деревянный идол Перун, с серебряной головой и золотыми усами…
На горе один к одному тесно жались хоромы бояр, почти всё из камня, на подклетях, о двух ярусах, с крылечками, ступенями высокими. В городе церквей такое множество, что Добронраве и посчитать не удалось, а краше всех была огромная Десятинная церковь, росписью украшенная, отделанная мозаикой и мрамором. Когда ударят колокола на звоннице этой церкви, им сразу же вторят колокола других церквей.
Посмотрела черниговская княгиня на Золотые ворота, где через ров уже начинались сады, огороды. И ещё имелись в Киеве Жидовские ворота, вблизи их мастеровые евреи селились, Лядские, откуда начиналась дорога в королевство Польское, и ворота Угорские, через них к уграм ехали…
Боричевым взвозом ходила Добронрава на главный киевский торг, поражалась обилию товаров, какие киевские ремесленники производят. Кажется, весь Подол одни ремесленники и населили, но то первое впечатление: здесь не мало и бояр строилось, которым не нашлось места на горе.
А уж гостевые дворы не то что в Чернигове. Да оно и как иначе, по Днепру что вверх плыть, что вниз – Киева не минуешь…
Иногда Добронрава задерживалась в новом Киеве, где мастера над Софийским собором трудились. И тогда к княгине подходил Петруня, рассказывал, каким будет храм, что он не уступит и константинопольской Софии.
А ещё вспоминал Петруня, как строил церковь в Тмутаракани. Нынче, говорил он, кто на Тамань плывёт, всяк той церковью любуется.
Особенно красив был Киев утрами и вечерами, когда солнце всходило и заходило, а его лучи скользили по позолоченным куполам и крестам…
От Киева вниз и вверх по Днепру курганы частые.
– Под ними предки наши лежат, – говорил Мстислав.
Вернулась Добронрава в Чернигов и никому не сказала, одной себе призналась: ни в какое сравнение Чернигов Киеву не шёл.
Под счастливой звездой родился Савва. В этот раз плыл в Чернигов, и не подстерегала его печенежская засада. На обратном пути гружёные ладьи также прошли благополучно пороги. Не знал Савва, что в ту пору печенеги перекочёвывали.
Однако Савва себя счастливым не считал. Через всю жизнь нёс он любовь к Добронраве. И никого не хотел он больше знать. Даже красавица с золотыми волосами, гречанка Серафима, не могла заменить ему Добронраву.
Приезжая в Константинополь, Савва встречал Серафиму у её дома, заходил к ней и даже один раз совсем было решился взять её в жены, но потом сказал сам себе: а сумеешь ты, Савва, забыть Добронраву? Не случится ли такое, что рядом будет одна, а в сердце другая? Тогда к чему Серафиму терзать?
Так и жил Савва, боль свою сердечную в себе нёс. В Чернигове побывал, и всё старое, едва притупившееся, ворохнулось в нем. Не прошло от него незамеченным: с виду счастлива Добронрава, но в печали. Оттого ещё больше заболела его душа. Всю дорогу, пока плыл, видел её лицо и грустные глаза.
Боже, отчего обрекаешь доброго человека на страдания, аль крепость его испытываешь?
Под самым Херсонесом попали в шторм. Засвистел ветер, и небо потемнело, погнало волну. Кормчий крикнул, мореходы опустили паруса, и на вёслах тяжело гружёная ладья успела вскочить в гавань.
Море ревело трое суток и только на четвёртые унялось, затихло, и ладья, взрыхлив гладь, покинула стоянку.
Той зимой забрал Мстислав переяславского воеводу Василька в Чернигов, а в Переяславле посадил воеводой боярина Романа.
Василько с женой добирались в Чернигов налегке, опередив обоз с поклажей. Сытые кони несли расписные санки невесомо, только храпели. Марья то и дело вскрикивала в испуге, боялась опрокинуться.
На подъезде к городу возница придержал коней. Ворота проскочили на рысях, проехали почти безлюдными в такую рань улицами, свернули на подъем в детинец. У княжьего двора возница остановил коней. Василько помог жене выбраться из саней, пошли к красному крыльцу.
Князь был во дворе. Без рубахи, растирал лицо и грудь снегом. Подозвал отрока:
– Три спину, Прокша, чтоб ожгло!
Крякал от удовольствия, раскрасневшийся, крепкий, будто и лет своих не замечает. Отёршись льняным рушником, натянул рубаху и только после этого повернулся к приезжим, сказал насмешливо:
– Не надоело ли тебе, Василько, переяславских гусей поедать, пора и об ином деле помыслить. Да и Марья, эвон как на гусиных перинах раздобрела, скоро у тя, Василько, и рук не хватит обнять её.
Потом посерьёзнел:
– Мои слова, Василько, всерьёз не принимай. Знаю, ты добрый воевода, и я за Переяславль был спокоен. Но настают иные времена. Мы с киевским князем уговорились с королевством Польским воевать. Смекаешь, о чём речь веду?
Василько кивнул. Мстислав правду сказывает, жалко было оставлять Переяславль, город порубежный, но дремотный. Как откочевала орда, редкого печенега углядишь. А если князь позвал – значит, надо. Да и как не ООН ять?
– Так вот,. Василько, ждёт нас Червонная Русь. Доколь быть ей в королевстве Польском? Пойдём на ляхов вместе с Киевом, тебе засадный полк вести. Бить станешь недругов в самый решающий час.
Обнял Марью, прижал и расхохотался:
– Не правду ль сказывал, коротки руки. Дай-ка поцелую тя Марья, чать, не впервой знаю, – Похлопал Василька по спине: – Теперь отправляйся домой, поди, засиделись в санях, а там боярин Парфён заждался.
В углу избы на козлах прочная рама, кросно, а на ней нити натянуты. Челнок в руках Оксаны бегает сноровисто от первой нити ко второй. Проскочил под ней, над третьей перепрыгнул, под четвертую нырнул. И так до конца рамы и обратно… И снуёт, снуёт челнок, снизу вверх подбивает нити Оксана. Окончатся, ловкие пальцы подвязывают следующую…
Ткать Оксана любила, под эту работу хорошо думалось.
Свет тускло проникал в избу сквозь затянутые бычьим пузырём оконца, а потому горит лучина в поставце. Догорая, падает в чан с водой, шипит. Лучин целая горка, и Оксана едва успевает менять их.
За стеной избы шумит лес и посвистывает ветер. Иногда он швырнёт снег пригоршнями, затарахтит в оконце. Но это не нарушает мыслей Оксаны. Сегодня она вспомнила как однажды весной она с князем шла вдоль Десны, по едва примятой тропке, и Мстислав, думая своё, спросил:
– Где та заветная тропа?
Оксана обернулась к нему:
– Ты о чём, князь?
– Где та заветная тропа, по какой каждому человеку Всевышним ходить дадено? И никому, кроме Создателя, то неведомо.
Оксана заглянула Мстиславу в глаза и не увидела, почуяла в них затаённую боль. Сказала:
– Тропа, князь, у меня, у Петра и нам подобных, а у тебя дорога, и от неё просёлочные… Не один ты по ней идёшь, за тобой княжество целое следует. Куда приведёшь? То от разума твоего зависит…
Оксана не мудрствовала, она лишь хотела этим сказать, что князь волен не только в своей жизни, но и в жизни люда всего княжества. Захотел – и повёл дружину на печенегов. Велел – и строят черниговцы детинец каменный и собор… Или как с ней, Оксаной, поступил. Теперь её жизнь у него в руках…
Споро бегают по нитям пальцы, отбивает бёрда…
Жалеет ли Оксана о случившемся? Нет! Хотя и знает, князь сужен ей на время, но на какое, от него зависит. Она же любит его на всю свою жизнь, и никого ей больше не надо.
Оксана ждёт каждого приезда Мстислава в обжу, и такой день для неё праздник. И ещё она думает, что вот уже зима на вторую половину повернула, а князь как приезжал по первопутку, да и поныне нет его. Однако она понимает, у Мстислава забот и без неё достаёт. Вот близятся Святки, и Оксана станет ждать его. Он явится крепкий, с доброй улыбкой под усами, обнимет и, если никого не окажется поблизости, поцелует.
Оксана знает, брат недоволен приездами князя, но она ли в том повинна? И не Мстислав. Такова судьба. Кто повинен в ней?
Сказывают, Мстислав похож на своего деда, князя Святослава. И лицом, и храбростью выдался. Как и дед, ходил на хазар. С касогами столкнулся и их одолел. Печенегов от Киева отбросил и в Дикую степь ходил…
Дед с византийскими императорами воевал, а Мстислав на короля польского замахнулся. С Ярославом условились, к концу травня месяца, когда в Киев приплывёт новгородское ополчение, Мстислав с черниговцами подойдёт. А пока кузнецы телеги для обоза ладили, оружие черниговским ратникам ковали, а мясники мясо солили и вялили. Много всего надо в дорогу.
Готовясь на рать, Мстислав знал, польское рыцарство побеждать надо умело, при короле Болеславе до самого моря Варяжского дошли, император германский, Генрих, их остерегается. Но Мстислав готов сразиться с королевским войском, он не за чужим идёт, забрать Червонную Русь, которую ещё король Болеслав захватил…
Черниговский князь о Болеславе был наслышан немало, и в седло с трудом взгромождался, и задирист, и груб, но при нём княжество Польское королевством стало, и никто тому не помешал. Даже великий князь Владимир охотно взял сыну Святополку в жены дочь Болеслава Марысю. А когда Святополк усобицу начал, польский король на червенские города своё право заявил. Они-де Марысе отошли.
После смерти Святополка Марыся укрылась у отца в Гнезно, но Червонная Русь так и осталась за королевством Польским. Каким-то воином окажется новый польский король?
Снег завалил мощённые дубовыми плахами улицы Новгорода, лежал шапками на крышах хором и изб, гнул ветки на деревьях, чуть тронь, и сыплется белая пыль.
На морозе торжище звонкоголосо. Особенно крикливо оно, где большой торг пирогами и горячим сбитнем.
К торгу примыкали гостевые дворы, а с одной стороны – княжье дворище. С нежданной смерти молодого посадника Константина правит в Новгороде посадник Гюрята, отец Прова. На нём и сторожа, которая город бережёт, и скотница новгородская.
Пров добрался в Новгород в самый канун зимы. Уже морозы начались и первый снег срывался, а Волхов у берега покрылся ледяной коркой, так что ладья, на которой плыл Пров, к причалу подходила с хрустом.
Гюрята встретил сына с радостью. Ещё бы, Новгород покидал гриднем, воротился воеводой. Прова не ждали, а потому на поварне сделалось хлопотно, пекли и жарили. С дороги Пров принял баню. Дворовая девка его берёзовым веничком настёгивала, он блаженно жмурился и постанывал от удовольствия.
Потом они сидели в трапезной за обильно уставленным столом, и мать всё подсовывала ему горячие шанежки, приговаривала: «Ешь, Провушка, ешь, набирайся силы». А отец посмеивался: «Куда уж боле». Он расспрашивал о Киеве и князе Ярославе, а когда узнал, с чем сын заявился, посерьёзнел:
– Вече решит. А коли приговорит ополчение созывать, откроем скотницу.
– Ужли вече решит по-иному?
– Да видишь ли, сын, – Гюрята почесал пятерней лысину, – Новгород город торговый, своенравный и крикунами богат.
– Так завсегда бывало, – заметил Пров, – однако как старосты кончанские и люди именитые порешат, так и горлопаны стихнут.
– Будем на то уповать. А с вечем тянуть не станем, скажет «добро», мы князю Ярославу с удовольствием поможем. Чать, не впервой ему к Новгороду обращаться.
Пров перешёл волховский мост о семнадцати устоях, поглазел, как по ещё слабо затянутому льдом Волхову мальчишки лихо скользили на деревянных полозках, подвязанных к валенкам, и завидно ему стало, что вырос из возраста этих шустрых отроков.
А ледок под ними прогибался, потрескивал, того и гляди, проломится, но мальчишкам не боязно, весело. Было время, и он, Пров, вот так же бегал по Волхову на коньках, вырезанных из дерева, вытаскивал товарищей из полыньи и сам однажды провалился. Его отпаривали в бане, после чего Гюрята высек сына так, что Пров два дня не мог сесть.
О розгах вспомнил, и захотелось ему увидеть старого учителя монаха Феодосия. Повернул Пров на архиепископское подворье.
Шёл и улыбался. Виделись ему те розги, которые висели на стене за учительской спиной. Пров представлял, как в Киеве расскажет Кузьке о школе и учителе.
Феодосия разыскал в той же келье, где жил Кузьма, когда приехал учиться. Вон и жбан с водой, а рядом ковшик. Всё как прежде, разве келья стала ещё теснее и ниже. Да это же не келья, а он, Пров, раздался и вырос…
Монах сидел за налоем и читал Евангелие. На учителе всё та же потёртая ряса и скуфейка, из-под которой выбились седые космы. На вошедшего в богатой шубе и собольей шапке боярина глянул с любопытством.
Молодой боярин шапку скинул, к руке старца приложился. Тут и Феодосий узнал, слезящиеся глазки блеснули хитринкой:
– Провушка, ты ли это? Ох, Господи, воистину неисповедимы пути Твои. Я тя этой десницей сёк, а ты её лобызаешь.
Пров смотрел на старца с состраданием: по его ли большому уму так жизнь прожил? Вслух же сказал:
– Мало сёк, учитель, мало, ибо грамоту я так и не осилил. А вот Кузька, отец Феодосий, науки зело превзошёл и за то у князя Ярослава в чести.
– Козьма, Козьма, – монах пожевал бескровные губы, – углядел я в нем прилежание и не попусту латыни и греческому обучал. Садись, боярин, указал на скамью, – поведай мне о жизни своей…
Ударил вечевой колокол. Загудел призывно, а на всех четырёх концах застучали кожаные била. Переговариваясь, спешил народ на площадь у детинца.
– Скликают!
– Верно, есть о чём сказать!
– Да уж попусту не позовут на вече.
Запрудили новгородцы вечевую площадь, разобрались концами. На помост-степень взошёл посадник Гюрята, перекрестился на все четыре стороны, отвесил поясной поклон,заговорил:
– Люд новгородский, бьёт тебе челом князь Ярослав.
Затихла площадь, слушает, о чём Ярослав устами Гюряты сказывать будет. А тот продолжал:
– С той поры, как помогли мы вернуть князю отчий стол, отняли ляхи у Киевской Руси червенские города и кабалят русичей.
Площадь взорвалась негодующе:
– Кабалят?
– А куда князь смотрит?
– Потому и кланяется вам Ярослав, сказал посадник – и просит прислать в подмогу Киеву новгородское ополчение.
– Нам бы Киев дань уменьшил! – раздался голос из толпы бояр и купцов, теснившихся у самого помоста.
Однако одиночный голос потонул в общем крике:
– Надобно червенские города забирать. Ляхов наказать достойно!
– Созывать ополчение!
– Сзыва-ать! – заорала площадь.
Гюрята дождался, пока успокоятся, подал голос:
– Вече приговорило, и так по тому и быть. Начнём ладьи конопатить да охочий люд в ополчение нанимать.
В Словенском конце повстречал Пров молодку. Ростом невелика, но в теле. Короткая шубейка плотно облегала её. Собой молодка ладная, брови узкие, дугой, а под ними глаза огромные с зеленцой. Щеки и носик на морозе покраснели.
Идёт молодка, маленькими валенками снег подминает. Остановился Пров, посторонился да и сам не заметил, как ноги понесли за ней. Быстро шла молодка, спешил и Пров. У бревенчатого дома остановилась, повернулась к Прову:
– Аль потерял чего?
Пров не растерялся:
– Нашёл только.
Молодка усмехнулась:
– Коли нашёл, заходи, пополам поделим.
Отгуляли новгородцы широкую Масленицу, с блинами и снежной горкой, катанием на санках, с припевом:
Уж ты, наша Масленица,
Приезжай к нам в гости
На широк двор на горках покататься,
В блинах поваляться, сердцем потешиться…
Вдосталь Пров и блинов поел в сметане и масле, и с Любавушкой натешился. Со всеми воздвигал снежный городок, брали его приступом. А от кулачного боя Любавушка увела:
– Не хочу зрить лик твой в кровоподтёках и ссадинах…
Сразу за Масленой приступили к сборам. По всему берегу горели костры, и в чанах варили смолу, конопатили ладьи, насады и расшивы. Переход дальний предстоял и нелёгкий. В охотниках недостатка не было. Молодым парням повоевать в забаву, удаль свою показать да места новые поглазеть.
Пров работал со всеми. Скинув шубу и шапку, в одной рубахе он ловко рубил топором, ставил мачты и реи, подправлял скамьи гребцов, подшучивал:
– Ну, новгородцы-молодцы, привезёте из королевства девиц ляшских, они на любовь горазды!
Ему отвечали насмешливо:
– Ужли пробовал?
– Не случалось, понаслышке, – признался Пров. – Нынче отведаю, что за кашу варят молодые ляшки.
– У наших крупа ядрёнее, Пров, сын Гюряты. Небось, вкусил у Любавушки.
И смеялись задорно, весело.
Зима в тот год выдалась добрая, и только в конце мая лёд стронулся и Волхов начал очищаться. Пров огорчался:
– Князь нас уже в Киеве дожидается, а мы, даст Бог, на розанцвет заявимся.
Гюрята плечами пожимал:
– Не по нашей вине задержка. Вишь, никак выгрева нет.
Едва сошёл снег, как новгородцы спустили ладьи на воду, принялись готовиться к отплытию. В самом конце мая, в день Всех Святых, три десятка новгородских кораблей подняли паруса и, провожаемые людом, стронулись от причала, поплыли в Ильмень-озеро.
Накануне отъезда в Киев Мстислав побывал в обже. День выдался солнечный, и земля паровала. Они с Оксаной шли мимо лесного озера, где в чёрной воде, по рассказам Оксаны, брат ловил крупных и жирных карасей. По озеру плавали ветки и коряги. По берегу местами росли кустики камыша.
Оксана пообещала сводить его на пасеку, и сегодня они шли к деду-пасечнику. Лес пробуждался от зимы, набухли почки, стали клейкими, вот-вот лопнут, а ивы опустили к самой земле свои тяжёлые серёжки. По низине местами лежал ноздреватый грязный снег.
Дорогой Оксана рассказала, дед-пасечник овдовел рано, с той поры покинул деревню и живёт здесь, на выселках. Ни он ни к кому не ходит, ни к нему никто. Разве только она, Оксана, наведывается, да ещё княжий тиун наезжает за мёдом.
Вышли на поляну. Кроме избы, прилепившейся к лесу, и погребка, вся поляна была устлана бортями, колодами с пчёлами. Зелёная от первой травы поляна гудела, пчелы начали облёт.
Седой дед-пасечник встретил князя и Оксану с радостью, потёр ладони:
– Кого привела ко мне, красавица?
– Князя черниговского, дедушка.
– Мстислава? – старик с любопытством посмотрел на князя. – Наслышан о тебе, княже. Не плохое, хорошее, и всё более от неё, – он указал на Оксану.
Старый пасечник был в суконном кафтане, в войлочном колпаке и лаптях. Он позвал гостей к врытому в землю одноногому столику со скамьями по бокам, полез в погребок и выбрался с берестяным туесом и вощиной с нераспечатанным мёдом.
Князь ожидал увидеть угрюмого старика, измордованного жизнью, но пасечник оказался не только добрым, но и словоохотливым.
Мстислав ел пахучий мёд, запивал холодным молоком, принесённым Оксаной, и слушал пасечника. Тот рассказывал о пчёлах столько интересного и неизвестного князю, что Мстислав диву давался. Не знал он, что в каждой колоде пчелиная семья, где есть рабочие пчелы и трутни, которых за ненадобностью рабочие пчелы изгоняют, чтоб не поедали попусту мёд, а в каждой колоде ещё есть пчела-матка. Она крупнее, и пчелы берегут её, прикрывают от опасности.
Когда начинается роение пчёл и в колоде выведется вторая матка, она улетает с молодым роем и повисает гроздью на ближайшем дереве. Тогда пчеловод брызгал на пчёл водой и, подставив решето, отряхивал в него рой, а потом сажал в заранее подготовленную колоду.
А ещё говорил старик, что нет благодарнее пчелы, она и себя кормит, и человека, только надо её любить и не грабить, как делают злые люди…
– А скажи, старик, обижает ли тебя тиун?
Пасечник замялся:
– Так тиун на то и есть тиун.
И тут же стал расспрашивать, как строится Чернигов, а когда узнал, что Мстислав с Ярославом намерились воевать с ляхами за Червонную Русь, заметил:
– За чужим, княже, не гонись, но и своего не теряй. А червенские города искони за Русью были.
За днепровскими, широко разлившимися водами улус орды Булана. Зимой Днепр закован в лёд, но с весны оживут заросли, и перелётные птицы найдут здесь себе пристанище.
Стан хана в урочище, где растут редкие тополя и кустятся вербы. В урочище не так дуют ветры и не наметает снег. В вежах горят сухие кизяки, и горьковатый дым струится в отверстие юрты, а на таганах стоят чёрные от сажи казаны и варится мясо. Оно булькает, дразнит печенегов. По весне, когда поднимется молодая трава, орда будет кочевать от Днепра до Буга, а пока же сбиваются стада в гурты, кони в табунах жмутся друг к другу, согреваются, бьют копытами снег и хватают губами мёрзлую траву.
Поздней осенью в орду возвратился из Киева сотник Белибек. Князья вернули ему оружие и коня. Белибек передал темнику Затару слова князя Мстислава. Затар не преминул рассказать хану Булану, и тот, собрав мурз и беков, выслушал Белибека.
Насупившись, молчал долго, наконец заговорил:
– Урусские князья забыли, что наши кони протоптали дорогу к Кию-граду и наши калёные стрелы зажигали их города, а на арканах печенегов плелись урусские рабы. В наших вежах урусские красавицы баюкали печенежских детей. Скажите, мурзы и беки, у кого из вас нет урусской жены? Если они постарели, мы приведём себе новых урусок. Белибек, ты привёз слова, недостойные сотника, ты снова будешь десятником.
– Великий хан, – вмешался мурза Маджар, – какая вина на сотнике Белибеке? Его уста произнесли чужие слова, слова урусского конязя Мстисляба. Но разве вы, достойные мурзы и беки, готовы повести воинов на Кип-город? Такое время наступит, а пока кони печенегов будут мирно щипать траву на новых выпасах, а в вежах высохнут слёзы жён, оплакивающих своих храбрых мужей.
– А скажи, мудрый Маджар, сколько зим печенеги не обнажат сабель против урусов?
Старый Маджар не заставил ждать с ответом:
– Три раза зима отвоет, а метель будет засыпать снегом наши вежи, пока копыта печенежских коней не застучат по урусской земле.
Василько-гридин, Василько-воин, ему не мало лет, он ровесник князю и с ним вместе с отроческих лет. Вместе мальчишками голубей гоняли, вместе озорничали. Стремя в стремя в Тмутаракань пробирались и с хазарами бились.
Не раз смотрел Василько смерти в глаза. Она подстерегала его и не страшила, ибо был он воином, а удел воина ходить на рать. Каждому человеку своё дадено, одному землю пахать, другому – ремеслом украшать, а третьему – защищать её. У Василька доля гридня.
Каждый раз, встречаясь с врагом, Василько о смерти не думал, он чуял, она его пощадит. Но на этот раз у него зародилось тревожное чувство, что смерть поджидает его.
Спал Василько плохо, ворочался с боку на бок, и мысли его беспокойные. А Марья спит, и нет у неё тревоги за него. Васильку даже обидно.
Нет, он смерти не боялся, он за неё, Марью, страшился, её молодую вдовью судьбу жалел. А паче всего жаль Василиску. Ему что, сразит враг – и нет его, а вот им, Марье и Василиске, каково?
Думы перекинулись на предстоящий поход, и у Василька сомнение: раньше, когда гриднем был, за себя ответ держал, а теперь он воевода и засадный полк у него. Князь Мстислав говорил, засадный полк что гиря-разновес – кинул на чашу, и перетянет.
Но в бою надобно выбрать ту минуту, когда эту гирю бросить. Тут чтоб и не рано и не поздно. Найдёт ли он, Василько, такой миг?
Прижалась к нему Марья, и жалость к ней снова ворохнулась в его душе. А таких, как Марья, тысячи останутся и в Чернигове, и в Киеве, и в Новгороде. По всей земле Русской…
Василько осторожно, чтоб не разбудить жену, поднялся, накинул корзно, вышел на крыльцо. Полночь, тихо, только караульные перекликались. Перемигивались мелкие звёзды. Сколько их на небе? Путята говорил, сколько было люда и сколько есть на земле, столько и звёзд. У каждого человека своя звезда. А видят ли с той высоты землю? Небось удивляются, глядя на Чернигов: улетали ввысь, как птицы упорхали, оставляли город деревянный, а ныне он в камень одевается…
Постоял Василько, помечтал, вроде и тревоги унялись. А может, и напрасны они?
– На будущей неделе тронемся, Добронравушка, – говорил Мстислав, обнимая жену.
Заглянула ему Добронрава в глаза. Грустно. Сказала просяще:
– Может, возьмёшь?
– Нет, Добронравушка, на сей раз нет. На всё лето уходим, не то что в те разы. Ты меня дома дожидайся и не тоскуй. Евпраксии накажу, чтоб скуку твою развевала.
– Чернигов на кого оставляешь?
– На боярина Димитрия. Да нынче и орда от Черниговского княжества откочевала, а ежели какая печенежская ордишка попытает удачи, так на пути у неё переяславский воевода боярин Роман встанет.
Помолчала Добронрава, взяла руку Мстислава в свою:
– Эвон, как годы-то кожу огрубили.
Мстислав улыбнулся:
– Но ещё крепка рука.
– Дай Бог до годов преклонных.
– А я, Добронравушка, умереть постараюсь до старости, чтоб не вспоминала обо мне как о дряхлом и немощном старце.
– Ты таким не будешь. Сколько помню тя, неугомонен. Бывало, в Тмутаракани мы с братом на путину собираемся, утро раннее, а ты на коне скачешь. Сколь раз Бога молила, чтоб ты на меня хоть глазом повёл, а ты мимо.
– Но потом повёл, – снова улыбнулся Мстислав.
– Так то потом. А поначалу? Ты мне сразу понравился. И что я в тебе узрела? Мужик как мужик, а чем приворожил?
Мстислав взял её голову в ладони, поцеловал в глаза: За то, что меня разглядели.
– И теперь одно и остаётся – глядеть. Знаю, ты свою любовь на двоих делишь. Однако обиды не таю, как сердце твоё велит, так и поступай.
Мстислав стал серьёзным:
– Ты княгиня и останешься ею; И любовь наша годами испытана. Коли же что, прости меня.
Добронрава разговор изменила:
– Вели, князь, коней седлать, поскачем к той рыбацкой тоне, на какой однажды бывали…
Настоявшиеся кони вынесли их из ворот, легко взяли вскачь. Версты через две перевели на рысь. Ехали берегом Десны до самого стана. Издали увидели избу и сети, развешанные под навесом из тёса.
Передав коней отроку, направились к рыбакам. Они тянули невод. Он шёл тяжело, и гридни кинулись помогать им.
Всё было как в прошлый раз: и уха сазанья, наваристая, сладкая, и рыба запечённая. Добронрава повеселела, а Мстислав, глядя на жену, подумал, как мало надо человеку, чтобы сделать его хотя бы немножко счастливым.
Плыть да плыть новгородцам по Волхову и по Ильмень-озеру, а от него Ловатью до переволоки в Днепр Славутич, в Днепр-батюшку. Великий водный путь, каким многие века хаживали и гости и враги, где каждый камень, каждый поворот реки, умей говорить, поведали бы и о добром и о злом, творимом человеком…
Выбрался Пров из тесного шатра, натянутого на ладье, умылся водой из Ловати, оглянулся. Река в белых парусах, словно караван белых лебедей тянется.
Ветер попутный слабый, и воины садятся на весла. Раз взмах, два, и вот уже ладья рвётся вперёд, как норовистый конь. По бортам ладьи по-варяжски щиты висят, на корме оружие лежит – мечи и топоры на длинных топорищах, страшное оружие новгородского ополченца. Прову оно хорошо известно, сам помахивал им, когда ушкуйничал.
Окликнул кормчего:
– Когда переволока?
– Коль попутный задует, дня в три, а нет, клади все пять.
Потянулся Пров с хрустом, новгородец хохотнул:
– Че, Пров, сын Гюряты, зазнобушку бы!
Пров покосился:
– Ежели ещё о зазнобушке вякнешь, в Ловати остужу.
Пригрозил, а сам Любавушку вспомнил. Хороша новгородская красавица и на ласки щедра, долго не забыть её Прову. Когда-то попадёт теперь он в Новгород? Да и станет ли ждать его, не засватанная?
Пров бы и рад взять Любавушку в жены, да старый Гюрята так цыкнул на сына, что всякая охота пропала.
– Ты, – сказал отец, – по княжьему делу приехал аль жеребиться?
На задней расшиве запели:
Как по Волхову да по реке,
И-эх! -
разнеслось по ладьям, насадам и расшивам, а голос выговаривал:
Да ладья под красным парусом!
И-эх!
А на ней плывёт красна девица,
И-эх, -
подхватывает весь караван.
– И-эх, – разносится по лесистым берегам, по луговинам, перекатывается по холмам, оповещая: новгородцы идут.