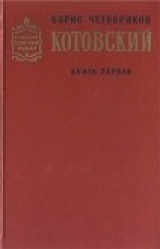
Текст книги "Человек-легенда"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц)
Управление безмолвствовало.
9
Поздно вечером и, по-видимому, тайком явилась к Юрию Александровичу делегация от местного кулачества. Всего их четверо, они приехали на конях, но коней оставили в орешнике, не доезжая до Прохладного. Они были осторожны и не хотели, чтобы узнал кто-нибудь об их посещении помещичьей усадьбы.
– Наша стежка-дорожка одна, одним мы лыком связаны, – начал беседу самый солидный из них, чернявый, рослый, загорелый, с умным, немного насмешливым взглядом, как будто он что-то такое знал о собеседнике, но не хотел этого высказать. – Мы хоть и простые крестьяне, но тоже вроде как ваши младшие братья. Вы – помещики, а мы – унтер-помещики. Нам еще немного подрасти, еще землицы прикупить трошечки, еще поголовья скота прибавить, да отстроиться, да детей в мужиках не держать, в ниверситетах обучить – и станем мы на ноги.
– Розумиете? – то и дело подхватывал слова чернявого второй из пришедших, маленький, коренастый, с веселыми глазами.
– Я вот хочу сахарный завод купить. Деньги есть, только время неподходящее. А деньги, конечно, найдутся...
– Розумиете?
Третий, щетинистый, угрюмый, прервал эти разговоры:
– Ты, Пантелей Лукич, о деле балакай. Что деньги у тебя есть, всем известно. Ты о деле начинай. Слово толковое стоит целкового.
– Дело у нас к вам такое, – послушно приступил к главному чернявый. В нашем уезде пошаливают, это, конечно, вам известно. Да и не только в нашем уезде. Повсюду агитаторы красные шныряют. Народ мутят.
– Мы тут порешили намедни одного, без документов оказался, – вставил слово щетинистый. – Мышь гложет, что может.
– Всей этой музыкой Москва командует, коммуния руководит. А мы сидим, только руками разводим.
– Розумиете?
– Вот хотя бы и вы. Хотя вы и разместили во флигеле немецких солдат, да разве они подюжат? Они тоже, шельмецы, агитации поддаются.
– Ну и что же вы предлагаете? – спросил наконец Юрий Александрович, до сих пор молча, с любопытством разглядывавший этих ходоков. – Уезжать?
– Вы, конечно, можете. Сел в курьерский, конечно, поезд да уехал, все одно помещичьи усадьбы жгут, вам лишь бы целы капиталы. А нам куда податься? У нас здесь все. Некуда нам уходить.
– Розумиете?
– Уходить нам нельзя: земля, – вдруг заговорил четвертый, тучный, жирный и как будто дремлющий великан.
– Правильное слово! Земля! Нам от земли никак невозможно отдаляться!
– Значит, надо действовать! – воскликнул Юрий Александрович. При этом он встал и начал ходить по кабинету, где принимал своеобразную делегацию. – Правильно понял я вас?
– Действовать, – подтвердили все четверо, – и чтобы наверняка.
– А то у всякого Федорки свои отговорки, – опять ввернул щетинистый.
– Истреблять их надо! – пробасил великан.
– А что же? Конечное дело! Смотреть на них? Они нас бьют, они хотят свои совдепы насадить на нашу шею... .
– Нам вместе не жить. Мы или они.
– Понятно! – ходил по кабинету Юрий Александрович. – Мне все это очень близко и очень понятно. И я от всей души благодарю вас за доверие, дорогие мои братья, дорогие друзья!
Юрий Александрович искренне был взволнован. Он думал:
"Вот она, сила! Вот она когда пробуждается! Соль земли, деревенские богатеи... Они производят хлеб, шерсть, кожу, масло, молоко... И они хотят сами, своими руками покончить раз и навсегда с чуждыми им идеями всяких социализмов..."
Юрий Александрович восхищенно смотрел на этих пахнущих черноземом как он сказал? – "унтер-помещиков", и в голове Юрия Александровича рождались одна за другой великолепные идеи: нужно подхватить эту инициативу, возглавить это движение хлеборобов... О! Юрий Александрович расскажет об истинной картине этим близоруким иностранцам! Вот они, так называемые куркули! Вот они – сидят перед ним! Они хотят быть помещиками, сахарозаводчиками и не желают знать совдепов! Дать им в руки оружие – и они выжгут каленым железом всю крамолу, с которой никак не могут справиться никакие петлюры, никакие оккупанты...
Юрий Александрович заговорил. Он не выбирал слов, не старался говорить популярно. Но он видел по лицам, что его понимают, что его одобряют.
– Оружие у нас есть, – говорил, сдерживая накипевшую в нем ярость, чернявый, – оружие есть, люди найдутся. Нам нужно только опытных командиров. Не таких, как петлюровские, те все дело разваливают, потому им лишь бы грабить, лишь бы поживиться, они сильней всяких агитаторов народ настраивают! Народ ошалел от казней, от грабежей, от смертоубийства. Немцы грабят, Петлюра грабит, всякие там американцы на кораблях приезжают – тоже грабят... А помощи настоящей нет! Вот о чем мы пришли говорить с вами.
Долго они толковали, намечали планы, прикидывали...
Когда делегаты ушли, Юрий Александрович сел писать обширную докладную записку. Он откроет глаза на истину! Он поднимет на великую битву земную силу Украины!
Писание Юрия Александровича прервало приглашение к обеду. А потом Люси отняла весь вечер... А потом, проглядев все им сочиненное, Юрий Александрович нашел это бесцветным, слишком напыщенным, не подкрепленным фактами.
На следующий день Юрий Александрович поехал к самому Эйхгорну и просил его усмирить восставших мужиков в их уезде. Юрию Александровичу обещали всяческое содействие, были любезны, и, действительно, в Звенигородку были двинуты крупные военные силы, с танками, артиллерией, авиацией. И вскоре в уезде стало тихо.
И как ни жаль было расставаться с комфортом, со старинными портретами, висевшими в залах, с сытными обедами, с салфетками, на которых были вышиты короны, с очаровательной Люси, которая всегда была готова отвечать на его ласки, но надо было ехать, надо было действовать. Уже поступали сигналы со стороны шефов, с которыми Юрий Александрович был тесно связан, уже несколько раз напоминал о себе Гарри Петерсон, требуя немедленного выполнения его директив.
И настал час расставания. И опять Юрий Александрович, уезжая, не оставлял адреса, куда ему можно писать, и сам опять не обещал писать часто.
С Е Д Ь М А Я Г Л А В А
1
Когда поезд, увозивший Мишу Маркова, прогромыхал всеми своими колесами, надымил, заслонив дымом половину неба, а затем вдруг растаял, исчез в степи, Григорий Иванович подумал облегченно:
"Пристроил мальчишку! Пусть пошлифуется, подрастет. А здесь он пропал бы ни за грош".
Теперь нужно подумать о себе. Пробираться ли в Бессарабию и снова собирать партизанский отряд? Или пойти к партизанам здесь, на Украине? Помогать хлопцам пускать под откос немецкие эшелоны?
Встретил на улице Ковалева, однополчанина по Таганрогскому полку. Узнать его было трудно, сначала посмотрел – идет дядька с базара: баранья шапка, самотканая свитка, гармошкой сапоги.
– А я вас ищу, – обрадовался Ковалев. – Сказали мне, что вы где-то здесь обретаетесь, в какой-то гостинице. Думаю, обязательно найду. Я ведь только что приехал и опять уезжаю. Дела. У вас какие планы?
– Планы – бороться. Других пока нет.
– Вот-вот. Я как раз с этой точки зрения. Вечерком заходите, я тут поблизости, сведу вас с одним полезным человеком. Вместе покумекаем, где и как вас лучше использовать. Люди, знаете, как нужны!
Встретился Котовский в маленькой комнатке маленького домишка, за чайным столом, за самоваром, чтобы не привлекать внимания хозяев, с очень интересным человеком. Он назвал себя Романом. Григорий Иванович умел разбираться в людях и сразу почувствовал, что перед ним крупный работник, умница, человек, отдавший всего себя без остатка служению революции.
Самовар похлопывал крышкой, фырчал, пел на разные лады. За перегородкой весело, как воробьи, кричали, возились, ссорились и мирились дети – целый выводок, и все мелюзга. Хозяйка, крупная, складная женщина, наперекор всем громам и молниям, облавам и катастрофам растила детей, выпекала лепешки, белила, мыла, скоблила хатенку, топила печи – словом, сохраняла семью. Вот и сейчас она гремела посудой, попутно давала шлепка младшему своему отпрыску или грозно приказывала: "Манька, принеси воды!"
Затем она вошла в комнату и поставила на стол пышущие жаром, румяные, аппетитные лепешки, целую стопочку, наложенную на тарелку:
– Лепешечек свеженьких!
Воспользовавшись приоткрытой дверью, в комнату заглянула девочка, с белыми кудряшками волос, с огромными серыми глазами и перемазанной в масле физиономией.
– Ма-амка!
– Закрой дверь! – цыкнула мать, и снова приветливо: – Кушайте! Уж лучше самим съесть, чем этим грабителям достанется.
– Спасибо, хозяюшка! – сказал, улыбаясь, Роман. – А грабителям скоро не поздоровится, недолго они повластвуют.
Когда она снова исчезла за дверью и там опять зашипела сковорода и загалдели ребята, товарищ Роман сказал:
– Мне даны полномочия неотложные вопросы решать на месте. Я очень рад, что встретился с вами, – обратился он к Котовскому, но ни разу не произнес его имени, что свидетельствовало о большой его осторожности. Партия решила послать вас на ответственный участок, туда мы направляем лучших наших людей. В Одессе уничтожен подпольный губком. Сейчас будут направлены по подбору ЦК новые работники. У вас, как мы знаем, большой опыт подпольной работы. Мы знаем о вас и по Румынскому фронту, и по Кишиневу. Отправляйтесь в Одессу. К сожалению, некоторые явки провалились. Смело можете обратиться к главврачу одесского госпиталя. Запоминайте адрес, фамилии, пароль. Записывать ничего не надо. Начнете с этого, а там установите связь с нашими товарищами и будете работать по их заданиям. Только... – товарищ Роман несколько замялся, – только не надо особенно рисковать, у вас есть эта черточка... Вы не обижайтесь, это не просто мой дружеский совет, но и указание партии. Вы не один. Никакой бравады. Ну, а храбрости у вас хоть отбавляй. Мне говорили о вас в Москве. Вас знают.
Котовский нисколько не удивился, что ему, беспартийному, поручают такие задания. Он считал себя в партии. В Кишиневе он всегда согласовывал свои действия с Гарькавым и работал под руководством фронтотдела. В Галаце он присоединился к установкам большевиков. В Тирасполе был под командой беззаветно преданного революции Венедиктова. И сейчас он безоговорочно принял новое задание. Обдумывая, как начнет действовать, он возвращался в свой гостиничный номер.
Городишко спал. Здесь рано ложились спать. Света не было: электростанция была взорвана, когда город переходил из рук в руки, керосина тоже не было. Впрочем, апрельские ночи короткие: несмотря на поздний час, Григорий Иванович вполне различал и неровную, засохшую глыбами после дождей дорогу, и то деревянный, то выложенный большими каменными плитами тротуар.
Было легко на душе. Кончилась неопределенность положения.
2
Весело, без минутного колебания, даже с каким-то задором и любопытством отправлялся в опасную дорогу Григорий Иванович. Конечно, он понимал, что каждую минуту будет рисковать головой. Вот это как раз ему и нравилось! Это напоминало молодые годы, романтику его юношеских дней. Только в те годы он по собственному почину и по своему разумению взял на себя роль народного мстителя, а сейчас предстояло ему связаться с красным подпольем, с партизанами, и там, в стане врагов, вести борьбу.
Так складывается жизнь! Вчера он еще не знал, что будет с ним. А сейчас в кармане Котовского документы, из которых явствует, что предъявитель их – помещик Золотарев. И если бы Марков мог видеть в поезде, направлявшемся в Одессу, плотного человека в штатском – в летнем чесучевом костюме, в соломенной, далеко не модной шляпе, – никогда не признал бы он в этом добродушном толстяке своего командира, всегда подтянутого, всегда "в форме", всегда в бодром настроении.
Нет! Это был совсем другой человек! Ну просто гоголевский какой-нибудь Шпонька или Иван Никифорович! Так и казалось, что он или обзовет кого-нибудь гусаком, или достанет из своих бесконечных баулов дыню и примется за нее с завидным аппетитом, нарезывая длинными ломтями.
Он отнюдь не неряшлив, нет, он даже щеголеват, но по-провинциальному щеголеват, как щеголяют где-нибудь в Прилуках или же на Диканьке. Он провинциально шикарен и провинциально любопытен. Таким людям приятно рассказывать новости: всему верят и все выслушивают с неослабевающим интересом.
Поезд громыхал через степь.
Степь была знойная, и сколько поезд ни уходил на юг, все стояло перед глазами одно облачко, большое, скучное, снулое, разомлевшее от жары.
Да есть ли конец у этой степи? И схлынет ли наконец эта жара? Уже которые сутки поезд громыхает по стыкам рельсов – и не может добраться до какой-нибудь мало-мальски приличной станции!
Не обращая никакого внимания ни на грохот колес вагона, ни на пьяные выкрики, два старичка, оба седенькие, оба шустрые, проворные, очень довольные, что нашли один в другом по душе собеседника, говорили о рыбной ловле и спорили, когда лучше ловится рыба – до дождя или после дождя.
Помещик Золотарев принял участие в их споре и горячо настаивал, что рыба лучше ловится после дождя.
– Но позвольте! – не унимался старичок, придерживавшийся противоположного мнения. – Рыба – она нервная, она заранее чувствует погоду. К тому же перед дождем мошки, стрекозы ложатся на воду...
В вагоне много мешков, оружия и табачного дыма.
Офицеры и солдаты, неизвестных частей и неизвестно куда и зачем едущие, спекулянты (ну, эти-то как раз знали отлично, куда и зачем ехали!), простоволосые, несчастные женщины, разыскивающие пропавших без вести мужей, старухи, бог весть каким образом затесавшиеся в общую сутолоку, – все это разместилось по полкам и изнемогало от жары.
– Пресвятая богородица, до чего же дождя надо!
Когда поезд останавливался, все спрашивали друг друга, какая это станция и долго ли поезд будет здесь стоять. Но никто не знал ни названия станции, ни продолжительности остановки. На станции уныло бродил человек с фонарем. Никли пыльные акации. Пассажиры выходили на раскаленные плиты перрона и покупали молоко в бутылках зеленого цвета. Молоко было разбавлено водой и приправлено кусочком масла. Горячий паровоз шипел. Сердитый машинист поглядывал на пассажиров.
– Скажите, машинист, долго ли тут стоять будем?
– До второго пришествия!
Он с превеликим удовольствием спустил бы под откос этот состав, наполненный деникинским офицерьем. Но к машинисту приставлен часовой. И поезд дает отправной свисток, поезд движется дальше. Часовой присматривает за машинистом, машинист присматривает за паровозом... и мимо мелькают степи, степи, неоглядные степи!..
Котовский великолепно играет роль провинциала-помещика. И ничего нет подозрительного, что он заговаривает с одним, другим пассажиром, главным образом расспрашивая относительно цен на хлеб.
– Позвольте полюбопытствовать... – говорит он. – Извините за беспокойство...
Случайно перехватывает внимательный взгляд одного пассажира, которого раньше и не приметил. У открытого окна сидит молоденький офицер с фронтовым загаром и какой-то грустью и усталостью в глазах. Офицер этот чем-то располагает к себе, и он так не походит на всю эту пьяную ватагу, на этих хлещущих коньяк, орущих, безобразничающих деникинских головорезов, которыми полон вагон!
Лицо знакомое... У Котовского отличная память. Он вспомнил, кто этот офицер у окна вагона. Но хотелось бы знать, какова зрительная память офицерика? Времени прошло очень много. Узнает или не узнает? Встречались они во время оно в имении Скоповского. Офицерик в те времена был гимназистом Колей и приезжал на летние каникулы вместе со Всеволодом Скоповским из Питера. Конечно, он выглядел тогда иначе. Да и встречались они с этим гимназистом редко и мимоходом. Котовский вспомнил: "Да, да, точно! Орешников его фамилия! Коля Орешников! Он еще всегда с удочками таскался!"
Как поступить? Перейти в другой вагон? Отстать от поезда?
Котовский вместо того сел рядышком с молоденьким офицером и тоже стал любоваться в открытое окно на степные просторы. Он всегда предпочитал смотреть опасности в лицо. Во всяком случае, он точно удостоверится, узнали ли его, каково настроение этого поручика, каков он сам, а тогда уж можно решить, как действовать.
С минуту оба молчали. Только поручик вежливо подвинулся, давая место у окна.
Они заговорили о том, что жарко, что хлеба выгорели, что, впрочем, это не имеет никакого значения, потому что все равно некому убирать.
"Кажется, не узнал, – думал между тем Котовский, внимательно слушая и внимательно разглядывая собеседника. – Не мог бы он так прикидываться!"
Действительно, голос поручика звучал так искренне. Сам он производил впечатление человека издерганного, усталого. Он говорил отрывочно, перескакивал без всякой связи с одной темы на другую. Голос у него был приятный, а когда он улыбался, глаза его оставались грустными и не участвовали в улыбке.
"Нет, не хитрит. Явно не узнал, да и не разглядывает особенно, и, видимо, я все же изменился за это время. Но почему так смотрел?"
Поручик рассказывал о падении дисциплины в армии, о том, что мечтает об одном: как по приезде в Одессу заберется в ванну и смоет фронтовую грязь.
– Что в Одессе?
– Бедлам. Вы разве давно там не были?
– Давненько.
– Увидите много интересного и поучительного. Если же вы русский человек к тому же и любите то, что известно было когда-то под названием "родины", то вы переживете много унижения и стыда.
Котовский с любопытством посмотрел на офицера.
– Вот как? Унижения и стыда? Сильно сказано!
– Сказано недостаточно сильно и недостаточно громко, да и вы сами видите: кому говорить?
Котовский повел глазами на горланящих песни, на играющих в карты пьяных офицеров, заполнивших вагон.
– В Одессе сейчас есть всевозможные черт их знает откуда взявшиеся на нашу голову хозяева положения, – продолжал поручик. – Днем идет напропалую торговля, причем все продают и все покупают: табак, кокаин, родину, чины и военные тайны! Ночью на улицах патрули, а в ресторанах дебош, свинство! Пьют все: бывшие министры, бывшие журналисты, бывшие депутаты Государственной думы... Одни пьют потому, что стыдно, другие – потому, что утратили стыд. И везде и всюду на первом месте иностранцы! Может быть, те иностранцы, которые живут где-то там, у себя, – хорошие люди, даже обязательно так. Но иностранцы, которые понаехали в Одессу, отвратительны. Они, видите ли, хозяева! Платят и хотят за свои денежки получать проценты послушания! Они презирают нас и не скрывают этого.
– Вероятно, они недовольны, что плохо воюют?
– Разумеется! Да и нельзя отрицать, что Добровольческая армия все больше превращается в жалкий сброд. Иностранцы чувствуют это и начинают беспокоиться за вложенные ими денежки, за добычу, которая уплывает.
– Гм... а вы думаете, что уплывает?
– Я ничего не думаю. Они думают.
– В вас много задора. Вы мне нравитесь, молодой человек! Простите, с кем имею честь?
– Николай Орешников. Недоучка. Собирался быть путейцем по примеру брата, а вышел из меня непутевый офицер. По глупой русской привычке храбр, но не знаю, к месту ли. По глупой русской привычке – занимаюсь самобичеванием и браню русских, но, честное слово, мы лучше многих чванливых так называемых европейцев! Приятно было с вами побеседовать, душу отвести. Простите, вы не из Петербурга?
– Помещик Золотарев. Здешний. А впрочем, бывал и в Петербурге.
– В Одессе непременно сходите в кабачок "Веселая канарейка". Получите полное удовольствие. Можете себе представить, там у входа красуется надпись: "Студенты-стражники провожают домой. Плата по соглашению". Это ли не красота? Поужинали, выпили, а затем наймите студента! Относительно интеллигентен и вместе с тем вооружен. Впрочем, я говорю много глупостей. В душе такая боль, а слова получаются жалкие. Чем это объяснить? Не умеем чувствовать? Вот вы знаете, я много смертей перевидал. Казалось бы, если человек умирает, он должен бы... ну, подвести какой-то итог. Уже все, нет никаких сдерживающих условностей, ты полный хозяин твоих оставшихся пяти минут. Ну, прокляни, если хочешь, или благослови, завещай. Ведь ты в последний раз можешь говорить. Если ты при жизни боялся, теперь тебе нечего бояться. Если ты что-то скрывал, теперь можешь не стесняться, мой друг, все равно все кончено. Но скажи же, скажи незабываемое, значительное, полное священного трепета или насыщенное цинизмом! К сожалению, и в час смерти человек не находит нужных слов, так, мелочишка! Помню, один умирающий все только просил клюквы. Черт возьми! Да ведь ты сам уже превращаешься в клюкву, в болотную кочку! Слушаешь – и такая обида поднимается! А может быть, зря? Другой умирающий волновался, кому достанутся его новые сапоги...
– А вы хотите, чтобы они в свой смертный час говорили о перспективах развития сахарной промышленности?
– Нет, зачем же! Но почему все же – сапоги? Или мы бедные уж такие? Или боязливые? Напугали нас, что ли, на всю жизнь?
Орешников задумался и замолчал. Лицо у него осунулось, скулы заострились. Так они некоторое время молчали, и Котовский думал, почему, собственно говоря, этот офицер не мог бы быть с ними, если бы внести ясность в его мысли и мироощущение? В нем есть что-то такое, бродит. Но в людях разбирается плохо: с какой стати, например, отводить душу с каким-то помещиком Золотаревым? По-мальчишески получается! Но, конечно, не узнал.
– Простите, а ваше имя-отчество? – заговорил в это время поручик. Интеллигентская привычка, без имени-отчества трудно разговаривать с человеком. Ага! Петр Петрович? Очень приятно! А меня зовут Николай Лаврентьевич. Я вот сейчас думал, Петр Петрович... как бы это проще сказать, без ложного пафоса... Я считаю, что нет никакой выгоды трусливо жить. Ну, просто вот нет ровно никакой выгоды! А? Вы согласны? Ведь как ни силься, не наскрести больше, чем отпущено. А отпущено до смешного мало! Обыкновенный стул, например, может прожить дольше, чем пять маститых стариков, умирающих с почестями и с седыми бородами. Ну разве же это не свинство?! На одной чаше весов – пять академиков, движущих вперед науку, а на другой чаше весов – дурацкий стул! Вы возразите мне: стул неодушевленный предмет. Хорошо. Черепаха живучее человека! А? Как это вам нравится? Че-ре-па-ха! Одушевленный предмет – черепаха! Конечно, все это очень трафаретные вещи, но каждый человек в определенном возрасте непременно должен пройти через эти бесплодные мудрствования, как ребенок должен переболеть корью...
Котовский слушал и чуть-чуть улыбался: ему нравилась запальчивость собеседника.
Рядом с ним спала какая-то крупная, дородная женщина со спутанными волосами, и мухи все время лезли в ее полуоткрытый рот. На верхней полке, над ней, скрючась и обливаясь потом, играли в карты три казака, причем один из них при каждом ходе смачно и с явным удовольствием ругался. По соседству собралась шумная, пьяная компания. В основном это были офицеры. Они пели, пили коньяк, которого у них были, по-видимому, неистощимые запасы. Встрепанный, потерявший человеческое обличье капитан в расстегнутом кителе, с налитыми кровью глазами, подтаскивал приятеля – уже совсем осоловевшего, оседавшего, как куль с мякиной, человечка – к открытому окну и исступленно кричал:
– Гр-риш-ша! Смотри в окно, мер-рзавец! Гр-риша! Смотр-ри, Гриш-ша! Как-кая кр-расота!
– М-м... – мычал Гриша.
– Гр-риш-ша! М-мы недостойны этой кр-ра-соты! Пей, Гр-риша!
– Н-не могу.
И на него напала икота.
– Какая-нибудь паршивая звезда, захудалая необитаемая планетишка третьего сорта, которой, в сущности, абсолютно все равно, существовать или не существовать, – она может болтаться в безвоздушном пространстве миллиарды, чертову прорву лет! А человек цепляется за свои пять коротеньких десятков лет, кашляет, страдает от ревматических болей, но хочет еще и еще, ну хоть денечек еще! А что, собственно говоря, еще? Ведь уже выцвела жизнь, вылиняли чувства, ощущения... Ведь уже и человека-то нет, в сущности говоря. Одна оболочка!
– Выводы? – спросил Котовский.
– Выводы? Человеческая жизнь должна измеряться иначе. Бывает мера веса, мера объема... А здесь – мера дел. Осуществить себя! Выкинуть что-нибудь такое, чтобы ахнули потомки!
– Ахнули?
– А главное – перед собой чтобы не стыдно... Вам смешно это слышать? Наивно очень? Да? Мне эти мысли все чаще стали приходить именно теперь, когда я вижу вокруг себя смерть, смерть, систематическое истребление нации... Когда это кончится? Во мне столько накопилось вопросов, сомнений, что вам и слушать надоест, а между тем мы подъезжаем к Одессе...
Раздельная... Карпово... Пригородные дачи... Да, это уже Одесса!
Пассажиры толпятся у окон, стаскивают с верхних полок чемоданы. Только два старичка-рыболова, ничего не замечая, продолжают беседовать о преимуществе мотыля, об утреннем клеве и прелестях ершовой ухи.
Когда поезд подходит к перрону и пассажиры бросаются к выходу, Орешников чуть слышно говорит:
– Что-то сейчас в "Валя-Карбунэ"? Хорошо там рыба ловилась. Вы не беспокойтесь, я никогда не лезу в чужие дела... Петр Петрович. А вы мне особенно понравились, когда я узнал, что вы вышвырнули Скоповского из окна. Это, по-моему, очень красиво. Я уважаю людей последовательных и принципиальных. А вы тогда действительно гремели на всю Бессарабию! Вашим именем пугали маленьких помещичьих детей!
"Черт побери, оказывается, узнал! Выдержанный человек. Вот почему он и откровенничал со мной!"
На лице Котовского мелькнула немножечко хитрая и в то же время добродушная улыбка:
– Я надеюсь на вашу порядочность, поручик. Вы знаете только Золотарева. Ясно? Вы вот говорили, что надо достойно жить. Я хочу прожить достойно. А как же иначе? Все мы так должны жить!
И без всякой связи добавил:
– Как же вы все-таки меня узнали? Очень мне это любопытно!
– Рыбка! – засмеялся Орешников. – Не надо было о рыбке говорить: что ловится после дождя. Ведь вы и мне когда-то это самое доказывали. Если бы не рыбка – никогда мне вас не узнать бы. А тут меня как осенило.
Вагон уже опустел, и они тоже вышли.
– Когда-нибудь еще встретимся!
– Обязательно!
Они пожали друг другу руки. На перроне была толчея. Много иностранцев. Много военных. И вскоре они потеряли друг друга из виду в этой текучей толпе.
Помещик Золотарев сел в извозчичий экипаж.
– К театру!
3
В центре города Золотарев заходит в магазины, останавливается перед витринами, читает афиши, просматривает приказы. С большой тщательностью он убеждается, что за ним нет никакого "хвоста". Очевидно, Орешников будет молчать. Но даже если бы и не молчал? Слежки нет, это бесспорно.
Одесса купается в солнце. Стоит немного отдалиться от центра – и уже тишина, безлюдье. Самое жаркое время дня. Даже быстрокрылые щурики не летают в это время. В эти часы или спят, наглухо закрыв ставни, или, изнывая от жары, пьют на улицах воду на льду и виноградный сок.
Приезжего не интересовали ни особняки на Французском бульваре, с их башенками, беседками, верандами, лепными вазами на фронтонах и агавами, лилиями вдоль садовых дорожек; ни пышный памятник Ришелье на Николаевском бульваре; ни тенты, сохраняющие прохладу в кафе Фанкони; ни каштановые аллеи; ни блестящий Ланжерон; ни Золотой берег с его купальнями.
Он рассеянно взглянул на морскую даль, на жалкие лачуги внизу, по обрыву. Ему захотелось пройти мимо здания Военно-окружного суда, с его высокими нишами. Не так давно вошел он в одну из этих огромных дверей, чтобы выслушать в мрачном зале приговор холодных судей. И вот он снова пришел сюда. Его руки не стягивают леденящие обручи, кандалы не звенят на ногах. Он теперь на свободе и пришел, чтобы бороться и победить.
Так, блуждая по безлюдному в этот час городу, Золотарев добрался наконец до госпиталя, постучал в кабинет главврача и заявил ему:
– Мне кажется, что у меня высокая температура.
Главврач, в белоснежном халате, сверкающий чистотой и стеклышками пенсне, пахнущий карболкой, благополучный, розовый, внушающий доверие, ответил медленно, разглядывая через пенсне посетителя:
– Ощущаете какие-нибудь боли?
Собственно, в госпитале не было никакой явки. Но главврач сочувственно относился к Советской власти, всегда готов был помочь людям, которые ни при каких обстоятельствах не складывали оружия.
Это повелось издавна. Еще в прежнее, дореволюционное время главврач прятал у себя на квартире революционеров, давал деньги на издание нелегальной литературы. Он был крайне осторожен, ни тени подозрения не падало на него. А сознание, что не совсем еще опустился, не погряз в мещанском благополучии, как чеховский Ионыч (он ужасно боялся этого!), сознание, что он вносит свою лепту в дело революции, успокаивало его совесть и давало возможность удобно, хорошо, красиво жить в прекрасном собственном доме, холить и лелеять жену и дочку и со светлой грустью наблюдать, как, несмотря на режим, постепенно изнашивается организм, появляется жирок, сердце начинает пошаливать... И, сам над собой подшучивая, он говорил:
– Что мне нужно для полного счастья? Три "п": пенсионная книжка, покой и пурген.
Итак, доктор и теперь дал свое согласие: присылаемых к нему людей класть под видом пациентов в одной из палат госпиталя. На койке такого пациента, как и у других, появлялась дощечка с историей болезни, больной получал больничные туфли и халат и обязан был измерять температуру.
Котовский с удовольствием улегся в чистую постель, приняв предварительно ванну. Он еще не совсем оправился после тифа. Основным последствием перенесенной болезни был страшный аппетит. Главврач заметил это и сразу же предписал ему усиленное питание.
Палата, где поместили Котовского, была светлая, солнечная, с белыми высокими потолками, окнами в сад, стенами под масляную краску. И всего четыре койки.
На одной из коек – Котовский глазом не моргнул и виду не подал, что узнал, – лежал молодой паренек, находившийся совсем недавно в Тираспольском отряде.
Котовский, войдя в палату, поздоровался, ни к кому не обращаясь в частности, сразу же лег, укрылся с головой и уснул.
Вечером в умывальной, оставшись с этим пареньком наедине, они перекинулись двумя-тремя словами.
– Прошу учесть, что я в настоящее время – Разумов.
– Очень приятно. А вы имеете дело с помещиком Золотаревым Петром Петровичем. Рад познакомиться.
– Вам, вероятно, понадобится установить связи. Вы слышали о провале? Сейчас все налаживается. Пока отдыхайте, у вас неважный вид.
– Болел.
– Слышал. Отряд сильно пострадал?
– Очень. Ну, мы еще успеем поговорить. Идите первый. В палате – самые общие темы. Кто там остальные?
– С одним из них вам придется встречаться. Работает по связи.
В палате оставили только ночной свет. Сон у всех был отличный. Утром пришла сестра и, стряхивая градусник, весело спрашивала, как самочувствие. Котовский подождал, пока она уйдет, взял оставленную ею таблетку и отнес в уборную. Он в жизни не принимал лекарств.








