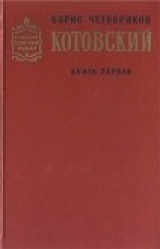
Текст книги "Человек-легенда"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 39 страниц)
Так оно и оказалось. После, когда баню осматривали, нашли там убитого. Лежит, раскинулся, ноги длинные, челюсть упрямая и подбритые усики на губе. Был бы тут Миша Марков – сразу бы опознал в убитом того самого Юрочку, с которым когда-то познакомил его Всеволод Скоповский. Видать, за смертью пришел в село Долгое из Москвы. За смертью пришел – и получил ее.
Полк бросился на окопы, не обращая внимания на выстрелы. Поднялись и старики. Схватились. Крякали. Били прикладом. Кто-то, отбросив винтовку, тащил дреколье из изгороди по стародавней привычке.
Скоро стало заметно, что молодежь одолевает. Распластался на меже Терентий Белоусов, в новых сапогах, в шелковой белой рубахе, подпоясанной крученым пояском с кисточками. Рядом ткнулся в землю кум Терентия. Много легло. Огородные гряды были плотно утрамбованы солдатскими сапогами.
Кто уцелел – подпалили село и через кладбище ушли за березовую рощу, к немецким колонистам. Горело село Долгое почти без дыма. Стали взрываться погреба. Овцы метались по улицам. Выли бабы.
И сгорело село, начисто сгорело.
Четырехсотый полк с командиром Колосниковым во главе поступил вслед за этим в распоряжение Котовского.
Колесников – старый солдат, хотя лет ему и немного. Характера он непреклонного. Крепкий как дуб, редчайшего здоровья, Колесников родом из крестьян и силой обладает недюжинной. Рослый, массивный, он прямолинеен, чист душой. Карие глаза его проницательны и вдумчивы. Смотрит он прямо в глаза собеседнику – пытливо и благожелательно. Это безукоризненно честный человек, и есть в нем что-то внушающее доверие и уважение.
Принимал комбриг Четырехсотый полк в селе Сербы, возле Кодыма. Обстановка была торжественная, все делалось по форме. Бойцы с жадным любопытством разглядывали Котовского. Так вот он какой!
Котовский обнял командира полка, расцеловал его и сказал:
– Приветствую вас всех в лице вашего командира. Мы рады включить вас в нашу боевую семью. Идемте добывать победу!
2
Да, они были, эти люди! Это не выдумка, не плод вдохновенной фантазии, не мечта, не созданные воображением романиста образы. Они были, они действительно участвовали в битве, развернувшейся от берегов Черного моря до Ледовитого океана, от Балтики до Тихоокеанских вод. Они шли с винтовками по льду Иртыша, вылавливали басмачей в горячих песках Таджикистана, гибли в застенках белогвардейщины, строили под ураганным огнем переправы, мчались на конях и рубили сплеча...
Они умирали, потому что хотели счастливо жить!
Решалась судьба революции.
И они победили. Иначе не могло быть.
Не сразу поняли стратеги, генштабисты, матерые генералы, все эти дутовы, улагаи, колчаки, что перед ними новые люди, совсем другая порода. Им казалось: "Ну что такое большевики? Сброд! Мужичье!"
В своей нечистой игре интервенты выдергивали из колоды карт одного туза за другим, и все были биты. Иностранные правители тасовали, перестраивали, перевооружали и снова кидали в драку русских офицеров, украинских дельцов, кулачество, а также авантюристов, искателей приключений, уголовников и, наконец, просто крестьян, которых либо одурачили, либо запугали, либо взяли по мобилизации и велели стрелять.
Может быть, их было даже слишком много, этих прославленных генералов, и каждый соперничал с другим, каждый хотел сам, один, без чьей-нибудь помощи войти сначала с триумфом в Москву, а затем – в историю.
Были среди них и способные и бездарные – и отличавшийся храбростью Каппель и оголтелый палач Шкуро. И все они сражались против народа и, оторвавшись от народа, становились бескрылыми, жалкими, бессильными со всем своим опытом и блеском мундиров.
Народ не ошибается. Всегда он выберет единственно правильный путь. Можно до каких-то пор силой оружия, жестоких расправ удерживать его в повиновении, но неизбежно будут сметены поработители, и народ сохранит главное: свое сердце, свою правду, свою независимость.
В годину смертельной опасности, когда жадные руки тянулись уже к украинской пшенице, к бакинской нефти, к самоцветам Урала, к золоту Колымы, народ отбросил всех, кто мешал ему, и, не колеблясь, пошел по ленинскому пути.
И вдруг из недр народа, как из волн морского прибоя, вышли могучие витязи, сказочные герои, отважные богатыри. И не было им числа. Они шли под пулеметным огнем, переправлялись через непроходимые реки. Они знали, за что сражаются, что дороже самой жизни: они защищали Отечество, были провозвестниками нового, социалистического общества – высшей ступени мировой истории.
3
Стоял томительный зной. На горизонте клубились, наливались зловещим лиловым пламенем грозовые тучи. Солнце было странного палевого цвета. В воздухе повисла гнетущая, мешающая дыханию желтая мгла. Вот-вот собирался хлынуть ливень – и снова уползали тучи, не проронив ни одной капли.
Котовский смотрел на лиловое небо, на вспышки далеких молний и хмурился. Он знал: разворачивается новый поход интервентов. На этот раз они делают ставку на белогвардейские армии, на внутреннюю контрреволюцию. Предстоит упорная борьба. Котовский проверял готовность бригады, проверял и изучал каждого бойца.
Многим запомнилось происшествие с Иваном Белоусовым. Сын Терентия Белоусова, рослый хлопец и признанный в полку силач, исчез бесследно. Думали сначала, что погиб, но вот и братская могила готова, а Ивана Белоусова среди убитых нет. Разнесся нехороший слушок об Иване: дезертировал.
Вскоре Колесникову все стало известно. Оказывается, нашлись люди, которые уверили Ивана, что его, как сына кулака, сына организатора восстания, расстреляют перед строем.
– У них, у этой власти, такой закон, чтобы по седьмое колено преследовать, – нашептывали Ивану Белоусову какие-то замешавшиеся в толпу погорельцев шептуны. – У них пощады не жди. Беги куда глаза глядят, да и то с оглядкой: не ровен час – выследят!.. Беги, Иван, беги!
Вывел Иван Белоусов лучшего коня из пылающей отцовской конюшни, поскакал, а потом стал разбираться что к чему.
"Как же это так получается? За что меня перед строем расстреливать, позору предавать? Разве я какой разбойник и душегуб? Разве я не выступил в поход вместе со своими товарищами-однополчанами? Разве не стрелял в меня самолично мой покойный папаша, хотя о покойниках плохо не говорят, но ведь нельзя отрицать, что был он самая заядлая контра?.."
Так стоял на распутье всех дорог, держал под уздцы вороного коня и раздумывал Иван Белоусов:
"Я вот сын кулацкого отродья, а воспитан в Красной Армии. Кто я есть? Может меня усыновить трудовой народ?"
Колесников доложил о Белоусове Котовскому. Котовский приказал отыскать во что бы то ни стало Ивана Белоусова и чтобы волоска с его головы не слетело!
Отправились гонцы во все стороны, а где искать Ивана? Наконец напали на след. Видели его на дороге в деревню Лиходеевку приезжие крестьяне.
Догнали. Иван Белоусов заперся в клуне, завалил бревнами дверь. Сидит, отстреливаться приготовился.
– Иван! Иди до командира!
– До какого еще командира?
– Как до какого? До Котовского.
– Живым не дамся, – отвечал Иван.
– Вот дурной! Приказано, чтобы волосок на твоей голове не слетел. Понятно?
– Волосок не слетит, а голова слетит. Знаю.
Долго они так переговаривались. Наконец сам командир полка прибыл. Дал честное слово, что никто не тронет Белоусова.
– Не поймешь нашего слова – уходи, держать не будем.
Настала тишина. Молчали парламентеры, молчал Иван. Потом стало слышно, как он бревна от забаррикадированного входа откатывает.
Вышел хмурый. Все еще не верил посулам.
– Куда ты? – с тревогой спросили его, когда он вдруг свернул за угол.
– Коня возьму. Конь у меня хороший.
Привел Иван Белоусов коня к Котовскому, ударил себя в грудь и сказал:
– Я – сын кулака Терентия Белоусова, что из села Долгое...
– Слыхал.
– Расстреливай, командир! Если правило по седьмое колено истреблять стреляй! – И Белоусов разодрал на груди гимнастерку.
С болью смотрел на него Котовский:
– Постой, постой, не горячись. Объясни толком, что тебе в голову втемяшилось? Какое правило? Какое седьмое колено?
Тогда уже тише Иван Белоусов продолжал:
– Я – красноармеец. Я сам стрелял по контрреволюции. Можно меня перед строем расстрелять?
– Кого расстрелять? Откуда ты такое выдумал? Чудишь ты, малый! Ты лучше объясни, чего ты хочешь?
Тогда Белоусов и вовсе успокоился. И высказал заветное желание:
– Припиши, командир, к Няге, в кавалерию. Ездить я горазд.
Котовский посмотрел ему в душу, все беспокойные мысли его прочитал. Стоял Белоусов перед ним, а Котовский читал его, как раскрытую книгу, и все светлел его взор. Понял, что для Ивана Белоусова решается сейчас вопрос жизни. Понял горечь его, понял, почему говорит он так прерывисто. Все понял.
– Каждый решает свою судьбу, – взволнованно сказал Котовский. – Жизнь – не расписание поездов. Мы знаем революционеров, вышедших из чуждых классов. Мы чтим их. И возьмем другое: если весьма ответственный гражданин вырастит по нерадивости дрянного сынка, разве будем мы укрывать такого сынка папочкиным авторитетом? Да мы и отца-то притянем к ответу: как ты мог, ответственный папаша, вырастить такого молодчика?
– Гм-м, – издал неопределенный звук Иван Белоусов, напряженно слушавший командира.
– Звать тебя как?
– Звать Иваном. Уважь, командир!
– У меня кавалеристы, знаешь, какие люди? Отборные!
– Знаю. Это мы все знаем.
– Ладно, Иван. Иди к Няге, скажешь, я лично прислал. Иди. Не подведи, слышишь, Иван? Надеюсь на тебя, Иван.
Ушел Иван Белоусов, а Котовский все поглядывал вслед да поулыбывался. Славный парень! Вот что значит вовремя помочь человеку!
И опять улыбался Григорий Иванович доброй улыбкой. Любил он людей. И было это чувство похоже на то, как агроном любит хорошо возделанное поле, как садовник любит свой сад.
Немного и времени-то прошло, каких-нибудь два дня. Отпросился Иван Белоусов у Няги в разведку и привел пленных петлюровцев. Где он их добыл, никто так и не узнал. Сам он не рассказывал, а только отмахивался:
– Ну, взял и взял. Велико дело.
Пленные следовали за Белоусовым покорно и не проявляли никаких поползновений к бегству. Возглавлял это печальное шествие сельский учитель, щуплый и в очках.
Привели их в штаб. Котовский стал расспрашивать каждого, кто он, откуда и почему с петлюровцами оказался, по каким взглядам и убеждениям. Еще спрашивал он их, знают ли они, кто такой Петлюра, и кому он служит, и за чьи права борется.
– Давайте, давайте, рассказывайте все, – говорил Котовский спокойно, серьезно, без издевки и даже с болью, с состраданием. – Вот стоите вы передо мной и молчите. Объясните мне, почему вы в меня, в нас стреляли? Какую вы правду отстаивали? Мы вот боремся за рабоче-крестьянское государство, за Советскую власть, за то, чтобы людям лучше жилось. А вы за кого идете? Если мы ошибаемся, объясните нам, тогда и мы вместе с вами будем сражаться...
– Да ладно уж, – тоскливо отозвался один, босой, нескладный, в синей рубахе без пояса, в драных портках. – Расстреливай скорей, не размусоливай...
Бородатый и тощий выглянул из-за его плеча и добавил:
– Мы не добровольцы. Дали нам винтовки: воюй! Вот и воюем.
Котовский подождал, не скажут ли еще чего. Но они замолчали.
– "Расстреливай"! А за что вас расстреливать? За вашу дурость?
– Это конечно... неграмотные мы...
– Зачем зря говорить? – рассердился босой в синей рубахе. Грамотные, разбираемся! Мы за большевиков, против коммуны. Нечего нюни распускать! "Неграмотные"!
– Вижу, какие вы грамотные, как разбираетесь! Вот и доразбирались до того, что с Петлюрой оказались! А если поглядеть – какие вы петлюровцы? И вовсе вам с ними не по пути. Возьмем такой случай: капиталист. Не наш, иностранный. Но у него в нашей стране деньги вложены, обидно ему деньги потерять, а Советская власть открыто заявляет, что никаких царских долгов она не платит. Вот и начинает этот капиталист дураков искать, чтобы они головы подставляли, эту Советскую власть свалили, денежки ему, капиталисту, вернули – и порядочек! А у вас что, своя торговля была? Капиталы у вас отняли? Золотые прииски? Вон у тебя и сапог-то нет.
Котовский обернулся к учителю:
– Учитель?
– Собственно говоря, да.
– Горькая доля была у сельского учителя в царское время. Вы, может быть, успели запамятовать? Глушь, бездорожье, захолустье. Жалованьишко ничтожное, школа нуждается в ремонте, крыша течет, ребята зимой ходят в опорках, и каждый инспектор унизит, распечет, накричит... Что же ты, учитель?! Опять хочешь старое вернуть? Не вернешь старое, не допустим! Кому прислуживаешь? Ты, образованный человек!
Угрюмо слушали пленные.
– Собственно говоря... – бормотал учитель.
От напряжения у него запотели очки.
– Передать в трибунал? – спросил Колесников, полагая, что разговор окончен.
– Кого в трибунал? – удивился Котовский. – Их в трибунал?! Да если они и сейчас ничего не поняли... тогда что же получается? Тогда и жить не хочется на свете! Ведь люди же они! Или кто?
Котовский встал во весь рост – крупный, сильный, эфес сверкает, красные галифе пузырями, широченные, сапоги начищены до ослепительного блеска, грудь колесом – богатырь, и голос у него зычный, как труба. Встал и отдал команду:
– Беспрекословно выполнять приказания вашего командира! Вот этого! он показал на учителя, стоявшего с удивленной и растерянной физиономией. Он сельский учитель, я агроном, а вы – кто вы такие? Простые люди, которым хочется человеческой жизни. Значит, нам с вами по пути. Даю вам задание: выбить петлюровцев из хутора Большие Млины, захватить трофеи и через сутки быть у меня с донесениями. Все ясно? Выдать им оружие, одеть, накормить. Отряд выступит в девятнадцать ноль-ноль. Приступайте к выполнению.
Няга покачивал сомнительно головой. Колесников хмурился. Начальник штаба даже морщился от досады: переборщил! Дал маху на этот раз командир! Ошибся малость!
Пленные перестроились.
– Шагом арш! – скомандовал учитель.
Огненно-рыжий, с зарубцевавшимся шрамом на лбу, кряжистый солдат, когда выдавали ему оружие, прослезился, выругался и сказал, ни к кому не обращаясь, с удивлением:
– Поверил! Мне поверил! Да мне, так-растак, никто еще в жисть не верил с тех пор, как мать меня родила!
Затем они ушли.
– Не вернутся, – определил Колесников.
Котовский вызвал между тем Ивана Белоусова и с глазу на глаз с ним говорил:
– Попросишься в разведку, Белоусов, возьмешь человек пять, кого знаешь, по выбору. Боже упаси, чтобы тебя заметили! Такой обиды они не простят. Ну, и погляди, как они там... чтобы дороги не спутали...
– Понятно!
– Никто не должен знать о нашем разговоре, ни одна душа.
Иван Белоусов вышел от комбрига красный как рак. Это он от гордости раскраснелся, что ему такое поручение дали, а все подумали, не головомойку ли он получил за какой-нибудь проступок: командир любил иной раз, как говорили, "мораль прочитать".
Вскоре Белоусов и с ним четверо ускакали в степь. И все разбрелись по своим местам. В этот вечер была неприятная, напряженная тишина. Любили командира, и не хотелось, чтобы он даже в мелочи оказался неправ. Нельзя, чтобы командир оказался неправ! Как подчиняться тому, кто хотя бы однажды сплоховал? А еще того хуже – кто оказался в смешном положении, кого одурачили!
И каждый старался – для самого себя, а не для других – заранее подыскать оправдание этому промаху, незаметно, деликатно прийти командиру на выручку.
– А хотя бы и не вернутся! – говорил Няга, сверкая глазами и свирепея от одной мысли, что с ним не согласятся и осмелятся осуждать Котовского. А хотя бы и не вернутся?! Совесть-то он им ранил? Как они теперь пойдут в бой против нас? В бой идут в чистой рубахе! Значит, даже если не вернутся, польза все равно есть! Понятно или непонятно? Почему молчите? Почему в рот набрали воды!
– Предположим, что они не вернутся, – доказывал Колесников с жаром, но ни к кому в частности не обращаясь. – Хорошо. Но как с ними разговаривали, они расскажут? А что обули-одели их, они расскажут? Пытали их? Расстреливали? Нет, с ними обращались как с людьми и объясняли им, в чем их ошибка, заблуждение, объясняли простыми, доходчивыми словами, которых нельзя не понять, нельзя не запомнить. Я считаю, – говорил твердым голосом Колесников, хотя, может быть, и не считал, – я считаю, что даже лучше, если они не вернутся к нам: они будут живой агитацией, хотят или не хотят, они будут служить делу революции!
Через сутки прискакал Белоусов и доложил Котовскому:
– Идут.
Действительно, отряд шествовал. В ногу, щеголевато, напоказ. Учителя нельзя было узнать: бравый, подтянутый, и очки куда-то девал. Командует звонко, отрапортовал лихо. Да и все остальные преобразились. Торжество было на усталых загорелых лицах.
Эти люди, хлебнувшие разгула и дебоширства петлюровцев, да и сроду не видавшие ничего, кроме нужды, водки, пьяных драк, собачьей жизни и воловьего труда, – эти люди сами, по доброй воле сдержали слово, оправдали доверие, осмыслили по-новому свою жизнь. Вот почему на их лицах было такое торжество. Нет большего счастья, чем оказаться хорошим, когда никто не верил, что ты хороший.
И все радовались.
Котовский был доволен. Он так бы и обнял и сельского учителя, и вон того, рябого, которого аж пот прошиб, так старался не подкачать, взмахивать по-солдатски рукой и шагать в ногу.
Но вдруг потемнело лицо комбрига и морщины собрались на его лбу.
– А этот, – загремел его голос, – такой еще рыжий и со шрамом на лбу? Н-неужели переметнулся к Петлюре?!
– Убит в бою, – ответил учитель. – Пал смертью храбрых.
– Понравился он мне, – тихо произнес Котовский, снимая фуражку. Вечная память ему и слава. Разудалая, должно быть, голова!
Колесников подошел к учителю.
– Такое испытание, какое выдержали вы, – сказал он со сдерживаемым волнением, – крепко, как присяга!
– Сегодня большой праздник у нас! – добавил сияющий Няга.
– Нет человека, если нет в нем собственного достоинства, – говорил Котовский, когда вся, так сказать, торжественная часть кончилась и остались одни командиры. – Надо выращивать достоинство, как выращивают цветок, как берегут яблоню.
– Удивляюсь я, как это люди не догадываются... Честное слово, быть хорошим выгоднее, чем плохим! Да и гораздо приятнее! Как ты думаешь, товарищ комбриг? – не унимался Няга.
Когда поили коней, Иван Белоусов сказал Маркову:
– И чего вы тут беспокоились? Я слушаю того, слушаю другого говорят, как о чуде: хорошо, что пленные петлюровцы пришли! Попробовали бы они не прийти! Уж если я один раз взял их в плен, то и в другой раз не растерялся бы! Знаю, чего хотел командир: совести. А чтобы праведник не сбился с пути, поддержи праведника под локоток, помоги ему войти в царствие небесное, в райские врата. Так-то вернее будет!
– Так ты их... тово? Поддержал под локоток? – разочарованно спросил Марков.
– Не понадобилось. Они оказались парни хоть куда! Неужели этот, в очках который был, – просто учитель? А знаешь, как командовал! И первый бросился в атаку.
– И ты все видел?
Белоусов замялся:
– Никому только не говори. Я не утерпел, тоже немножко бил Петлюру. Учитель-то в лоб атаковал, а мы с ребятами с тыла ударили, шум произвели. Я ведь здешний, каждый овраг знаю.
– Так кто же все-таки у вас сражение выиграл?
– Они! Учитель этот самый.
– Тебя что-то не разберешь. И брагу пил, и пироги ел, а на свадьбе не был и знать ничего не знаешь.
– Ты не сердись. Всего рассказывать не могу: у нас с командиром военная тайна.
4
Когда вернулся из Бессарабии Леонтий, Миша Марков расстроился, запечалился, что вот вернулся же Леонтий, а где же отец? И хотелось и страшно было заговорить об этом с Леонтием.
И Леонтий избегал Маркова. Жалко было расстраивать парня, а ничего утешительного рассказать он не мог.
Так или иначе, а когда-то надо было начать этот разговор. Однажды Леонтий увидел Маркова, и поразило его грустное лицо Миши.
"Надо поговорить с ним об отце, – подумал Леонтий, – нехорошо, что я сразу не сделал этого".
– Ну! Чего такой скучный?
– Об отце все думаю... Жив или нет?..
– Если бы я что-нибудь точное знал, давно бы сказал, какое бы горькое известие ни было, оно лучше неизвестности.
– Верно, Леонтий. Если нет отца в живых, говори, я ведь уже не мальчик. Да и время сейчас такое, что смертью не удивишь: война!
– Ничего я о Петре Васильевиче не знаю. Как расстались на том берегу, так больше ничего о нем и не слышал. Но так полагаю, что был бы он жив дал бы о себе знать. Ведь времени прошло немало.
– Вот и я так думаю...
– Кто у тебя еще-то из родни?
Участливо смотрел Леонтий. Оттаяло сердце Миши. Стал рассказывать про свои детские годы, о сестренке, о матери. И так же, как не мог, беседуя в московской столовой со Всеволодом Скоповским, вспомнить ни одного кушанья, кроме вареной кукурузы, так и сейчас в голову не приходило ничего значительного, и он перебирал милые сердцу мелочи, маленькие семейные происшествия, дорогие для него одного пустяки: как однажды Татьянка потерялась, еще совсем маленькая, заблудилась в городе, как в лесу... как отец один раз лисенка живого принес...
Детство! Как священную ладанку, подаренную матерью в час расставания, храним мы в памяти милые нам простые слова, маленькие и в то же время большие события, не передаваемые словами ощущения... Их можно рассказать только очень близким людям, другие не поймут. А как они запомнились, как они дороги! Материнский голос... Птицы... Снег... Какой-то весенний день, в который ровно ничего не случилось, но он запомнился, на всю жизнь озарил сознание ослепительным светом, задорным журчаньем ручьев... И даже в значительной степени сформировались вкусы и побуждения в этот ничем не выдающийся, незабываемый весенний день!..
Леонтий слушал Маркова, и у самого у него сердце щемило: ведь и он ничего о своем доме не знал, рядом был, а не довелось повидаться...
– Время, сынок, сейчас разлучное. Жены не знают, где их мужья, дети растеряли родителей. Иной ждет-пождет, когда встретится, а его, желанного, родного, и в живых-то давно нет... Бывает и другое: человека в поминальник запишут, а он и явится, жив-здоров! В смятенное время живем.
– А вдруг, – размечтался Миша, – мы сидим, разговариваем, а в это время отец-то и войдет...
– Ничего удивительного!
– Войдет и скажет: "Здравствуйте, дорогие! Тебе, Миша, шлют привет мать и сестра!"
Миша радостно смеялся, и долго они в тот вечер говорили.
С того дня повеселел Миша. И хорошо, что до поры до времени не знал он всей правды...
Петра Васильевича как увели ночью, так больше никто и не видел. Марина куда только не ходила, где только не справлялась! Везде один ответ: не значится. Наконец один старичок сжалился, догнал ее в коридоре.
– Женщина, – говорит, – не терзайте себя. Неужели вы не понимаете, что вашего мужа давным-давно на свете нет? Идите себе домой и примиритесь с сим прискорбным фактом.
– Его убили в тюрьме?!
– Я начинаю жалеть, что сказал вам, казалось бы, исчерпывающе точную вещь. Какая вам разница, кончил он дни в подвале или на виселице, от удара сапогом в живот или от пули в затылок? Его нет, и больше уже нельзя его арестовать, он уже избавлен от забот, от простуды, от миллиона страданий, страхов, на которые мы, живые, обречены...
Она убежала от этого страшного, беззубого, сморщенного старика, каркавшего, как ворон перед бедой. Он все врал, откуда он мог знать? Он что-то кричал ей вдогонку, но она не слушала. Вернулась домой и поражена была странной тишиной, глубоким молчанием. Почему так тихо? Но ведь и раньше часто бывало так, когда Марина оставалась одна, когда все разбредались, кто на работу, кто в школу... На этот раз была другая, мертвая тишина.
Тогда Марина взметнулась: где Татьянка? Почему не идет Татьянка?! И тут заметила белое на столе... Сразу почему-то поняла, что это записка и что пришло новое горе.
"Прости, дорогая мамочка, больше не могу, ухожу, туда же, где наш Миша".
Может быть, Марина выдержала бы удар, но, когда все навалилось в один день, чуть ли не в один час, это было слишком...
Ее нашла соседка лежащей на полу без сознания. Некоторое время она еще не поддавалась смерти. Сиделки в больнице уверяли, что даже хорошо, что она умерла: зачем же растягивать страдания?
– Ей было ни много ни мало – пятьдесят лет, так она хоть жизнь видела. А сейчас без счета молодых умирает. Молодых, конечно, жалко, а что касается старых – закон природы.
Ожесточились сердца сиделок, примелькались им слезы человеческие. Но все, кто знал эту женщину в ее квартале, – соседи, железнодорожники очень жалели ее и всегда вспоминали о ней с любовью.
– Отмучилась, бедняжка! – говорили они.
Татьянка была порывиста и нетерпелива. Она никак не могла согласиться, чтобы на земле торжествовало зло. Когда в ту памятную ночь прилизанный плюгавый офицеришка ударил ее отца и получил от нее за это хорошую затрещину по щеке, по гладкой розовой морде, она долго не могла успокоиться, ей казалось, что она должна была не награждать пощечиной она обязана была убить его.
Приятель отца, тоже железнодорожник, требовал, чтобы Татьянка еще и еще раз повторила рассказ о том, как она отделала этого негодяя.
– Размахнулась? И потом – р-раз? Молодец, Татьянка! Будет из тебя толк! Учить их надо, вертопрахов!
Старый железнодорожник усаживал затем Татьянку поближе и рассказывал ей вполголоса, что есть много людей, которые тоже дают пощечины всем этим щеголям, всей этой дряни собачьей:
– Мир построен, дочка, неважно. Ломать надо! А то нехорошо получается. И мы сломаем, вот увидишь. Нас много, ты не думай. И если появился на земле один остров, одно такое местечко, где наперекор всему этому свинству рабочие добились власти и строят социализм, значит, это не выдумка, значит, можно это сделать! Я, дочка, говорю про Советскую страну. Понятно? Надо беречь ее, не дать в обиду. Вот твоего отца здесь в тюрьму упрятали. А там его, может быть, министром бы сделали...
Старик закурил трубку и продолжал:
– Мы делаем, что можем. Мы не дали грузить оружие против них.
Если бы знал этот железнодорожник, какое впечатление производят его слова на девочку! Татьянка думала:
"Миша уехал в эту счастливую страну, и я отправлюсь туда же и тоже буду бороться!"
Конечно, ей бы следовало посоветоваться, прежде чем решиться на такой отчаянный поступок. Она захватила с собой немножечко еды – кусок хлеба и брынзу. И отправилась. Она слыхала, что многие переправляются через Днестр и уходят к красным. Вот и она уйдет к красным. Она не хочет уже убивать одного этого плюгавого. Что толку? Она будет помогать Ленину устанавливать справедливый порядок на земле, вот что она будет делать!
Татьянка сначала шла открыто, прямо по дороге. Потом стала расспрашивать, как пройти к Днестру, стала наводить разговор на то, как охраняется берег да бывают ли случаи, что переправляются на ту сторону. Дивились деревенские жители на эту странную девочку, предупреждали ее: не так-то просто подойти к Днестру и лучше бы вернуться домой... Понимали, что у нее на том берегу кто-то из родни... Качали головой: неладное затеял ребенок!
И ведь выискала Татьянка безлюдное место! И лодку брошенную нашла, и вместо весла жердь приспособила, и в сумерки оттолкнула от берега лодку...
Но тотчас же по лодке стали стрелять. Страшно было Татьянке и в то же время весело. Уж вот она будет хвастать, когда отыщет Мишу! Ее обстреливали, как настоящего контрабандиста!
Надо только сильнее грести! Ого! Пуля расщепила борт! И вдруг стало темно в глазах, круги, круги пошли... Но ведь если бы попали в нее, было бы больно?
Сильнее, сильнее надо грести! Берег, берег уже видно... Еще одно усилие – и Миша протянет ей руку, и поможет выйти из лодки, и скажет ей: "Молодчина у меня сестренка!"
Но жердь уже давно выпала из рук в воды Днестра. Лодка, делая медленные круги, плыла по течению. Не стало Татьянки, отчаянной, гордой девчонки...
– Лодка непременно застрянет на отмели, – сказал солдат из пограничной стражи, вешая на плечо винтовку. – Проверь, может быть, это контрабандист и нам есть чем поживиться...
Не знал ничего этого Миша и жил уверенностью, что его ждут, что рано или поздно он встретится со своими родными... Ему часто снилось, что он дома, и мать заботливо смотрит на него, и Татьянка слушает с обожанием его рассказы, а отец молчит и пыхает своей коротенькой трубкой-носогрейкой... Миша просыпался с улыбкой и все думал, думал о них.
5
Марков получил обозную лошадь. У нее был меланхолический характер, и вся ее внешность свидетельствовала о полном равнодушии к своей судьбе.
Звали ее Зорькой.
Когда Марков вскарабкался на ее спину, она раскорячила мохнатые ноги, поникла головой и распустила губу.
"Я и это перенесу, – говорил ее понурый вид, – мне уже безразлично: тащить ли телегу по непролазной грязи или быть посмешищем кавалеристов. Я очень устала и хотела бы только одного – как можно скорее околеть".
– Ну и животная! – удивился Савелий Кожевников, взглянув на Маркова, проскакавшего мимо. – Прямо форменный верблюд!
Сказал он это без злорадства, а, скорее, огорченно. У них была настоящая дружба с Марковым. Савелий Кожевников был старше возрастом, но простодушен и чист помыслами как дитя.
Савелий Кожевников был степенным пензенским мужиком. Как его судьба сюда закинула, он и сам не мог понять. Чудной он был, этот пензяк! Всюду, куда ни попадал, разыщет непременно либо поросшего мхом ветхого старика, либо бойкую молодайку и примется выспрашивать, как анкету заполнять, о видах на урожай, о поголовье скота, когда думают косить – все подробно расспросит. А вот с географией он был не в ладах. Где он находится, на какой точке земного шара, на каком от чего расстоянии – ни в чем этом он никак не мог разобраться и все надеялся, не забредет ли ненароком, вот так-то, воюючи, в свою родную Пензу.
– Как полагаешь, сколько верст отсюдова до Москвы? – спрашивал он иногда Маркова, задумчиво глядя в степную даль.
– А тебе зачем, дядя Савелий?
– Так, любопытствую.
– Верст с тысячу.
– С тысячу?! А до Волги?
– До Волги еще дальше.
– Вре-ешь! А до Сибири?
– До Сибири и вовсе далеко.
– Но-о?
Савелий некоторое время молчал, мысленно рисуя себе все эти пространства.
– Как человек разбросался по земле!
Савелий Кожевников не меньше Миши был огорчен обличьем Зорьки. Когда Марков пускал ее в галоп, зрелище было действительно запоминающееся. Зорька шла боком, как краб. Пускаясь галопом, она почему-то обязательно начинала мотать головой и фыркать, одновременно вскидывая тощим, мухортым задом. При этом она призводила необычайный шум. По топоту можно было подумать, что гонят целое стадо. Проскакав некоторое время, Зорька покрывалась испариной, бока ее вваливались, ребра выступали наружу... И тут уже ничем нельзя было ее расшевелить. Несколько минут она еще двигалась вперед по инерции, еле переступая, потом и вовсе останавливалась, уныло уставясь в землю.








