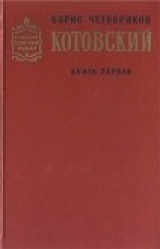
Текст книги "Человек-легенда"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
На летние каникулы вместе со Всеволодом часто приезжал безусый гимназист Коля Орешников. Собственно, дружил-то Всеволод со старшим братом Коли. Но тот всегда ускользал в последний момент, намекая на нечто романтическое и даже говоря со вздохами влюбленного: "Если бы ты ее видел, ты бы понял меня! Она едет с мужем в Ялту, и я должен последовать за ней..." И тут он подсовывал вместо себя братишку: "В общем, вы пока поезжайте, а там, глядишь, и я пожалую. Тебя же прошу, как друга: посылай от моего имени моим родителям телеграммы, чтобы они думали, будто я у тебя гощу..." С этими словами он исчезал, а Всеволод ехал домой с неуклюжим, застенчивым гимназистом.
Прибыв в "Валя-Карбунэ", Коля Орешников немедленно вооружался удочкой и целыми днями просиживал на берегу пруда, внимательно следя, как покачивается на прозрачной поверхности заводи полосатый поплавок.
Гимназист Коля Орешников жил, ни над чем не задумываясь. Он принимал мир таким, как он есть. Очевидно, всегда были и будут мужики, которые косят сено и едят очень вкусный черный хлеб, прихлебывая квас. И так уж придумано, что есть солнце на небе, папа и мама в Петербурге, на Васильевском острове, помещик Скоповский в "Карбунэ", а главное – рыба в карбунском пруду.
Коля был страстный, неукротимый рыболов, и первое знакомство его с управляющим Котовским произошло у пруда: они тогда заспорили, в какое время рыба лучше клюет – перед дождем или после дождя. Кстати, на этом знакомство и кончилось.
Для того чтобы в кладовых Скоповского не переводилась всяческая снедь, а в кармане Скоповского не переводились денежки, на полях работали сотни людей. Самая тяжелая работа поручалась молдаванам. Вероятно, потому, что они выполняли самую тяжелую работу, их больше всего и презирали. Все в них раздражало Скоповского: их невозмутимость, и их необычайная выносливость, и их покорный вид. За что, за какие заслуги им отпущено такое феноменальное здоровье? Это он имеет право на здоровье и долголетие! Он, испокон веку владеющий пастбищами и садами, он, оберегаемый няньками, докторами и полицией!
Котовский возненавидел помещика с первого дня, и это нерасположение все возрастало. Скоповский, напротив, терпимо относился к новому управляющему. Силач и здоровяк, Котовский не вызывал в нем зависти. Управляющий должен быть силен, чтобы раздавать зуботычины. Это так же бесспорно, как то, что горничные должны быть миловидны, а кучера толсты.
– Я с вами, а не с ними, – говорил Григорий Иванович молдаванам. Верно говорит народная пословица: ива не плодовое дерево, барин не человек. Хотя и говорят, что за деньги и черт спляшет, но меня им не купить, не продажный.
– Мы тебя сразу поняли, какой ты есть, – отвечали молдаване.
Они относились к Котовскому с доверием и платили за человеческое участие усердием в работе.
– Мы тебя не подведем, человече добрый! За добро добром платят!
А Скоповскому это и на руку: достатки росли, имение процветало, чего же еще надо.
Так до поры до времени и жили. Когда Скоповский отдавал вздорные распоряжения, Котовский молча выслушивал его и поступал по-своему. Трудно ему было. Только и отводил душу, когда уезжал на луга, на сенокосы, когда бывал на виноградниках или проезжал через тенистые рощи. Природа настраивала на торжественный лад. Слушая, как шумят вершины деревьев, как звенят птичьи голоса и жужжат медуницы и пчелы, Котовский думал о счастье, о светлом будущем, которое сулили человечеству в книгах. И ведь надо же, чтобы все эти приживалки народа, эти обжоры и бездельники, жили в таком раю! Как будто нарочно красоты природы хотели подчеркнуть душевное убожество этих трутней.
Июльские полдни безмятежны, зеленую прохладу лесов сменяют яркие солнечные поляны. Густая трава, кустарники, поля и рощи – все звенело и пело.
Котовский не знал, как сложится его личная жизнь, но чувствовал всей своей действенной натурой, что впереди еще много неизъезженных дорог, много непройденных путей, много ждет испытаний.
Все, что узнаешь, пригодится в жизни. Котовский деловито изучал помещичий быт, все повадки этих сытых людей, все правила "хорошего тона". Много бывало в "Валя-Карбунэ" военных. С презрительным любопытством наблюдал он за щегольством офицеров, гостивших в помещичьем доме. Как они щелкали шпорами! Как умышленно картавили! Как презирали штатских!
Однажды понаехавшая на летние каникулы молодежь поставила управляющего в неловкое положение, в его присутствии и явно о нем заговорив между собой по-французски. (Было заведено в присутствии слуг изъясняться на французском языке).
Котовский на другой же день приобрел самоучитель французского языка.
– Не можете ли вы мне показать, как произносится это слово? обратился Котовский к дочери хозяина, белокурой Ксении.
Ксения производила на него странное впечатление. Она постоянно ходила с книжкой. Котовский успел разглядеть, что это были французские романы.
Ксения мечтала. Она всегда мечтала. Она рассеянно садилась за стол, рассеянно ела. За ней ухаживали молодые люди – студенты, офицеры. Она удивленно смотрела на них. Она с наивной откровенностью спрашивала:
– Неужели вы думаете, что могли бы мне понравиться?
Ксения мечтала о принце, который придет и завладеет ее сердцем. Все, что она видела вокруг, казалось ей такой скучной прозой, такой обыденщиной!
В Ксению был влюблен гусар – молоденький, хорошенький, с черными усиками. Он порывисто садился за рояль и пел, сам себе аккомпанируя и принимая эффектные позы:
Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы блистали,
И горек был ветер морской...
Голос у него был недурной, и когда он пел, то так выразительно смотрел на Ксению! Да, но он вовсе не был сказочным принцем и даже не обладал состоянием. Поэтому, когда гусар заканчивал пение, особенно напирая на слова: "А третий любил королеву, он молча пошел умирать", Ксения смотрела на него спокойными светлыми глазами и думала:
"Интересно, если бы этот красавчик от любви ко мне застрелился или сделал растрату в полковой кассе..."
Когда управляющий обратился к ней с просьбой помочь ему разобраться в произношении французских слов, Ксения спросила:
– А зачем вам французский язык? Вы меня удивляете.
– Как зачем? Я хочу научиться говорить по-французски.
– Но вам это совсем не нужно. Неужели вы думаете, что если научитесь говорить по-французски, то перестанете быть тем, кто вы есть, управляющим?
– Кроме того что я управляющий, я еще и просто человек.
– Человек, конечно. Но не человек общества.
– Что же мне нужно знать, по-вашему?
– Вам нужно уметь слушаться и уметь угождать. А говорить по-французски – это не обязательно.
Ксения подумала, наморщив свой розовый хорошенький носик, и добавила:
– Обезьяну тоже можно приучить держать вилку... Но от этого она не перестанет быть обезьяной.
Больше Котовский не обращался к ней за помощью, но французский язык изучил, и необычайно быстро: у него вообще были способности к языкам. Уроки согласился давать ему француз-парижанин месье Шер, преподаватель танцев. Шер хвалил его способности и говорил, что у Котовского лионский выговор.
Приехав на рождественские каникулы, Ксения случайно услышала, как они непринужденно болтают по-французски.
– Однако, вы упрямый человек, – строго заметила она. – Очевидно, вы ровно ничего не поняли из того, что я вам говорила.
– Я понял, – ответил Котовский, – что вы невоспитанная девушка. Одно из правил хорошего тона – не давать почувствовать собеседнику разницы общественного положения. А вы же считаете себя аристократкой!
2
В скучный, дождливый день возвращался Котовский с поля. Ездил проверять, как идут осенние работы, вспашка зяби, подготовка к зиме. Уже появились утренники, и надо было спешить.
Котовский ехал, прислушиваясь к птичьему гомону и шелесту деревьев. Он приближался уже к имению, когда услышал позади конский топот, и мимо него прошел на рысях эскадрон.
"Куда это они? – подумал Котовский. – В такую-то погоду!"
Откуда ни возьмись – крестьянин, молодой, статный, смотрит на Котовского пристально. Верхом и, видать, прямиком ехал: к мокрым сапогам прилипли листья и травка.
– Что, – спрашивает, – не понимаешь, куда скачут? Скачут мужиков усмирять.
– Мужиков усмирять?
– Ну да. В Трифанешты. Помещик вытребовал. Настоящие военные действия, не хватает только, чтобы из пушек начали палить!
Новый знакомый назвал себя Леонтием, и теперь Котовский вспомнил, что не раз видел его в соседней деревне.
– Понимаешь, какое дело, – рассказывал Леонтий. – В Трифанештах что ни год – недород. Одно несчастье! Рядом, у соседей, еще туда-сюда, худо-бедно, а какой-то колос болтается, а у них в поле, глянешь – ни былинки! Слезы одни! И вот потихонечку-помаленечку стали они землицу свою помещику продавать. Продавали-продавали, да и совсем без земли остались. Стало еще хуже. Пошли к помещику батрачить. Сначала-то он с десятины, чтобы полностью ее обработать – вспахать, засеять, скосить и вымолотить, два рубля платил и урожай мерка на мерку: мерка помещику, мерка мужику. Кое-как перебивались. А потом помещик стал платить иначе: два рубля по-прежнему, а урожай – три мерки ему, одна мерка крестьянину. Хлеба стало хватать только до рождества. Главное, и на заработки податься некуда. Здесь, в Бессарабии, и без них голодного люда хватает, а в Россию поехать – языка не знают. И стали они проситься на Амур. Говорят, река есть такая и привольные там места.
– Вон чего надумали! На Амур!
– Надумали-то хорошо, да что толку? Помещик не позволяет: ему самому дешевые работники нужны.
– Чего его слушать?
– Мужики говорят: "Съезди к губернатору, за нас похлопочи". Не знаю, ездил он или не ездил, но только объявил, что губернатор тоже отказал. Крестьян сомнение взяло: "Напиши, говорят, на бумаге, что губернатор отказал и по какой причине, а мы дальше хлопотать будем, пока до самого царя не доберемся". Помещик и этого сделать не хочет. Тогда собрался народ с трех деревень, никак с полтысячи, встал перед господским домом и решил ждать, пока помещик согласится и бумагу подпишет.
– Смирные мужички!
– Они по-хорошему хотели. Никого не трогали, никому входить или выходить из помещичьего дома не препятствовали. Что у них – пистолеты какие? Разве что у дедов сучкастые палки имеются, с которыми они всегда ковыляют. А помещик испугался и сразу солдат вытребовал.
– Как ты думаешь, будут стрелять?
– Тут у одного солдата лошадь захромала, поотстал, так я у него все выспросил. Приказано, говорит, острием шашки не рубать, а бить плашмя по чему попало. Боевых патронов им выдано на каждого по пятнадцать штук. Но стрелять велели только в воздух, над головами, и то по команде. У нас, говорит, не кое-как, у нас с народом вежливое обхождение.
– Поедем! – предложил Котовский.
– В Трифанешты? Да они и нас зарубят!
А сам уже и коня подхлестывает. Видно, что и сам устремлялся туда.
Трифанешты, если лесочком проехать, – вот они, рукой подать. А эскадрон по дороге двигался. Поэтому Котовский и Леонтий в самый раз подоспели. Видят: у помещичьего дома толпа, а по деревне уже конные скачут. Толпе надо бы разбегаться, а она – непонятно почему – навстречу солдатам двинулась. Кавалеристы приняли это за дурной знак. Горнист сыграл атаку – и они понеслись на толпу полным карьером.
У Котовского кулаки сжались, на глаза навернулись слезы:
– Что же они, подлецы, делают? Ведь они н-народ потопчут. Нельзя этого допустить!
А те уже врезались. Крики, вопли оттуда доносятся, а "славное воинство" избивает шашками, топчет конями...
Леонтий еле удержал Котовского, тот уже готов был ринуться.
Толпа врассыпную! Конные преследуют бегущих, заскакивают в крестьянские дворы, гоняются по огородам, выгонам и бьют, бьют с остервенением, с дикой злобой, благо можно бить безнаказанно и даже заслужить благодарность. Некоторые мужики, спасаясь, бросились в реку и стояли по пояс в воде, но их и оттуда выволакивали и тоже били.
– Это что же т-такое делается! – шептал Котовский. – И чего м-мы стоим? Ударим, для них это будет н-неожиданно... Эх, оружия нет. Открыть бы огонь! Ладно же! Пусть п-погуляют! Пусть потешатся! Это вперед наука, разве так н-надо бунтовать!
Леонтий взглянул на своего спутника. Котовский был бледен, весь дрожал.
– Тоже, – бормотал он, – бунтуются! С палками! Н-нет уж... если на то пошло...
В это время один кавалерист догнал возле ворот молодого парня и только замахнулся на него, как парень схватил очутившиеся под рукой вилы и всадил их в ногу солдата.
– Молодец, не растерялся, – проговорил Котовский, глядя на эту короткую схватку. – Хоть один осмелился дать отпор!
Лошадь шарахнулась в сторону. Кавалерист, рассвирепев, выхватил шашку и бил молодого парня по голове, по плечам до тех пор, пока парень не свалился на землю.
– Дорого ему стоило, – сказал Леонтий.
– Что ж. Война не обходится без жертв. А уж парня, если еще не убили, то, наверное, сгноят в остроге!
Между тем в деревне сгоняли народ на площадь. Подоспевший исправник собирался держать речь. Котовский и Леонтий подъехали ближе, чтобы было слышно.
– Эй, вы! – закричал исправник, искоса поглядывая на командира эскадрона и ища у него одобрения. – Бараньи головы! Тридцатая вера!
Кавалеристы, видя улыбку на лице командира, приняли это за команду, по их рядам прошел смешок: здорово он честит, этот исправник! Хо-хо! И выдумает же такие названия!
– Бунтовать?! – кричал исправник, помахивая плеткой. – И старики туда же ударились?!
Тут старики на колени бухнулись:
– Прости, батюшка... Ошиблись малость... Нечистый попутал... Нужда заела... Да разве мы не понимаем, мы же по-хорошему, где нам, чтобы насупротив...
– Молчать! – рявкнул исправник и в наступившей тишине долго кричал на мужиков.
А тем временем побитых да потоптанных в сторону отволокли, кровь на дороге засыпали... И все приходило в порядок. Оставалось только написать донесение по инстанции – и крышка.
– Поедем, – предложил Котовский, – невыносимо на это смотреть...
Молча ехали, а пока ехали, много о чем передумали.
Наутро все население "Валя-Карбунэ" высыпало на дорогу посмотреть, как ведут арестованных.
– Это, наверно, самые главные, – рассуждал повар, в белоснежном колпаке, с засученными рукавами, с огромным ножом в руке, но очень добродушно настроенный.
– А по-моему, чего зря водить, – суетился приказчик, человек с бегающими беспокойными глазами и носом, свидетельствующим о том, что его обладатель – большой любитель выпить. – Приканчивали бы здесь, на месте, вернее бы было.
– Изверги! Изверги! – приговаривала к каждому слову ключница Дарья Фоминична, неизвестно кого имея в виду, карателей или бунтовщиков.
– Ведут! – сообщили босоногие мальчишки, мчась по дороге и выбивая заскорузлыми пятками брызги.
Из-за поворота дороги показалось печальное шествие. Впереди ехал невыспавшийся, с зеленым, помятым лицом кавалерийский офицер. Он после экзекуции всю ночь напролет играл в карты в помещичьем доме, причем неизменно при сдаче прикладывался к рюмочке, и теперь чувствовал себя отвратительно. Кроме того, он не любил медленной езды.
– Тащись из-за них, как на похоронах! – ворчал он.
Однако, проезжая мимо усадьбы Скоповского, приосанился и даже прикрикнул на солдат для порядка службы.
Четырнадцать арестованных "зачинщиков" шли по дороге пешком. Некоторые еле двигались после побоев. Парень, тот самый, что защищался вилами, шел с перебинтованной головой, со связанными за спиной руками.
Троих везли на подводе, и, кажется, со слабой надеждой довезти живыми. Седой старик тоже сидел на телеге и непрерывно кашлял. Прокашлявшись, он говорил, как бы извиняясь, что производит такой шум:
– Скажи, пожалуйста! Все нутро отбили!..
Впереди, позади и с боков арестованных шагали спешенные кавалеристы. Они шли с шашками наголо и перепрыгивали через лужи.
Дальше следовал эскадрон. В Трифанештах оставили только взвод для наведения порядка.
Котовский встретил эту процессию в поле. Он долго смотрел вслед. Давно уже скрылся эскадрон, и затих цокот копыт, и не стало слышно команды офицера. А Котовский все стоял. Он хотел разобраться во всем сумбуре мыслей, которые нахлынули на него в эти дни. Он снял шапку перед этими четырнадцатью крестьянами, идущими на страдание. И все еще стоял так, с непокрытой головой, не замечая холодного порывистого ветра и водяной пыли, с утра падавшей на разбухшую, хлюпающую землю.
3
Если вначале Скоповский был доволен сильным, смышленым, распорядительным практикантом и даже назначил его управляющим, то в дальнейшем он все больше разочаровывался в нем.
То Скоповскому доносили, что управляющий по собственному усмотрению отпустил крестьянина с полевой работы только потому, что, видите ли, у того жена рожает. Подумаешь – телячьи нежности! И еще вывел этому бездельнику за полный рабочий день!
То разговоры какие-то неуместные. О бесправии, о бедственном положении крестьян, о безземелье. Иди да выдели мужикам десятин по пять, если такой богатый!
Вдруг Скоповский узнал, что новый управляющий читает какие-то книжки. Что за книжки? Откуда книжки? И зачем, спрашивается, управляющему читать?
Наконец, Скоповский совсем уже был взбешен, когда исправник Денис Матвеевич, направляясь в Трифанешты, мимоездом заглянул к нему и совершенно секретно сообщил, что его управляющий находится под негласным надзором полиции.
– Я давно вижу, какого полета эта птица! – негодовал Александр Станиславович. – Ладно же, отблагодарю я господина директора, что подсунул мне такое сокровище!
И вот, когда Котовский, вернувшись в имение, после того как мимо провели арестованных трифанештинских крестьян, стал с возмущением рассказывать об избиении беззащитной толпы войсковой частью, предназначенной, казалось бы, для защиты отечества, а не для того, чтобы расправляться со стариками, Скоповский не выдержал и высказал все управляющему, чтобы поставить его на место:
– Вот что, милейший, так дело не пойдет. Предупреждаю, что у меня не Трифанешты, да-алеко не Трифанешты! У меня не побунтуешь! А ваше поведение, давно хочу вам сказать, ни к черту не годится. Вы у меня совершенно распустили мужиков. Вы это кончайте. Довольно.
– Простите, я не совсем понимаю, что вы хотите сказать.
– Я вижу, вы вообще многого недопонимаете.
– Напротив, с каждым днем все больше начинаю разбираться.
– Что-о?
– Я говорю, что не я, а вы многого недопонимаете. Так обращаться с крестьянами, как вы себе позволяете, это сошло бы еще в прошлом веке. Не те времена, господин Скоповский! Не ошибитесь.
– Вы слышите? Он еще меня учит! А я сам и не собираюсь "обращаться с крестьянами", позвольте поставить вас в известность. Для этого занятия я нанял вас. И я именно хочу дать вам указания, чтобы вы перестали миндальничать. Пороть лодырей! Пороть смутьянов! Нечего на них глядеть!
– Попробуйте!
– Попробую!
– Добьетесь, что они вам красного петуха пустят.
– Подожгут? Это мы увидим. А пока вот вам три фамилии. Я узнал, что они не являются на работы. Завтра же выпороть. Имейте в виду, я проверю.
– Пока я здесь, никто и пальцем не тронет мужиков.
– Ах, вот вы какой?!
– Да, я такой.
– Значит, правильно меня предупреждали! – Глаза Скоповского все больше округлялись, шея багровела, голос его превратился в пронзительный визг.
Из внутренних покоев выплыла мадам Скоповская, обеспокоенная криками. Она увидела разъяренного супруга. Скоповский кричал и хлестал себя по голенищу сапога стеком. Управляющий весьма дерзко отвечал, но о чем они спорили, понять было трудно.
Мадам Скоповская только было собралась вставить слово, попросить супруга не портить себе нервы, но в этот момент Скоповский завизжал:
– Крамольник! Это ты мужиков портишь! Я тебе покажу: "не имеете права"! Я тебя самого на конюшне выпорю!
И в полном исступлении Скоповский взмахнул стеком... мадам Скоповская ахнула... и на лице управляющего отпечаталась яркая полоса от удара.
– Александр!.. – простонала мадам.
У нее было мягкое сердце, и она не выносила подобных сцен. Она придерживалась либеральной точки зрения и считала, что надо мужиков не пороть, надо их сажать в тюрьмы.
Только что намеревалась она высказать свое мнение и посочувствовать управляющему, как в это мгновение произошло нечто совершенно бесподобное, трудно было даже поверить, что это действительно так и было.
Управляющий поднял ее супруга, так что тот успел только комически дрыгнуть ногами. Взмах – и Скоповский, как сказочная птица, мелькнув фалдами, вылетел в окно, высадив собственной тяжестью оконную раму, и исчез в образовавшемся отверстии.
Если бы она сама не видела этого, она ни за что не поверила бы, что живого человека можно вот так вышвырнуть, как какой-нибудь окурок или засохший букет цветов.
Скоповский благополучно пролетел по кривой от окна до земной поверхности и приземлился на клумбе с почерневшими от первых заморозков левкоями. Здесь он поднял крик, хромая и отряхивая с брюк свежую землю и раздавленные бутоны. Он кричал, что его убили, что он искалечен и что "он этого не потерпит"...
Сбежалась дворня, и, хотя Котовский отчаянно отбивался, слуги взяли численностью, навалились и били, стараясь своим усердием понравиться хозяину. Только значительно позднее кучер удосужился спросить:
– Что же он наделал, мазурик? За что мы его?
И к полному удивлению мадам Скоповской, которая вообще медленно соображала, ее супруг крикнул:
– Мошенник! Он... это... он меня обокрал! Что?
Собственно, почему обокрал? Когда обокрал? Он что-то не то выговорил. Но не рассказывать же всем, как его, известного помещика и дворянина, вышвырнули в окно на левкои.
– Да, да! Деньги! Вяжите его!
И подумав немного:
– Точно! Семьсот рублей, вырученные за продажу свиней! Что?
– Шуренька, а как же ты говорил, что эти деньги...
– Молчи, коли бог ума не дал! Не лезь, куда не спрашивают! Раз говорю, украл – значит, украл! Доставить его, живого или мертвого, к Денису Матвеевичу, к исправнику! Что? Или еще лучше – связать и выбросить в поле, как мусор! Пускай подохнет! Небольшая потеря!
Садовник, который видел странный полет барина из окна, еле сдерживал улыбку. Впоследствии он рассказал о происшествии своему шурину, шурин рассказал друзьям... И пошел гулять по свету забавный рассказ о помещике, вышвырнутом из окна собственного дома.
Пока Котовского связывали по рукам и ногам, выполняя приказ барина, пока волокли к телеге, всё продолжали бить. Подскочил Скоповский:
– Пустите, я сам!
И тоже ударил связанного. Вошел во вкус и стал наносить удары.
Когда Котовский очнулся, его тащили с телеги. Где-то далеко видны были огни. Небо было звездное. Подернутая инеем земля блестела голубыми искрами.
– Что ж ты делаешь? – сказал Котовский приказчику, который распоряжался, покрикивая: "Тяни, берись за ногу!" – Ведь я замерзну в одном белье! Развяжи меня!
– Нельзя, – ответил приказчик, – барин приказал бросить связанного. Мне-то что, но раз приказано – значит, и говорить нечего.
– Эх ты! Холуй!.. – пробормотал Котовский.
Он окончательно очнулся. Чувствовал, как холод пронизывает тело. Погромыхивала, удаляясь, телега. Они о чем-то разговаривали – приказчик и кучер – спокойно, как будто возвращались с базара...
– Н-но-о! – мирно понукал кучер.
Потом стало совсем тихо.
"Долго не выдержать", – подумал Котовский.
Попробовал освободить руки – веревка больно врезалась. У приказчика был большой опыт: ведь он постоянно завязывал и упаковывал тюки.
"Нужно двигаться, самое главное, – приказал себе Котовский, – тогда я согреюсь".
До рассвета было еще далеко. Трудно надеяться, что кто-нибудь проедет мимо. Степь молчала. И только далеко где-то настойчиво кричал, видимо у семафора, паровоз.
Сколько прошло времени? Два часа? Или четыре? По-видимому, Котовский опять терял сознание.
И вдруг он услышал громкий голос:
– Вон он где! Всю степь обшарил! Говорят, бросили возле станции, а где возле станции? Небось руки-то занемели?
Это был Леонтий. Вот она – дружба!
Развязал. Синюю домотканую куртку на плечи накинул.
– Ну, дорогой, теперь тебе тикать надо отсюда. В город отправляйся. Скоповский – серьезный господин, он очень просто и пристрелить может, если увидит.
– Пристрелить – это положим...
– Почему бы нет? Скажет: потраву делал, лес пришел рубить. У них ведь как? Судьи свои, полиция своя. За нас только один бог...
Леонтий подумал и, хитро подмигнув, добавил:
– А может быть, и бог-то... тово... тоже в ихней компании? Тоже переметнулся?
Он покрутил головой:
– Пожалуй, так оно и есть. Одна шайка-лейка.
4
Было отвратительное, промозглое утро, а тротуары скользки и липки, когда Котовский добрался наконец до Кишинева и зашагал по хмурой, заспанной улице.
Тело ныло. Была тупая боль в груди и пояснице.
"Должно быть, помещик Скоповский знает анатомию, – думал Котовский с некоторой досадой, – он бил по самым чувствительным местам, не так, как другие".
По улицам шли женщины с сумками, с корзинами, направляясь вниз по Армянской улице, очевидно, на рынок. Сейчас они купят какой-нибудь провизии, вернутся домой и приготовят завтрак...
Котовский при мысли о еде почувствовал, что очень голоден. А судя по тому, как от него шарахались прохожие, понял, что вид у него ужасный.
Он шел, но, собственно, и сам не знал, куда направлялся. Одно он твердо решил: в Ганчешты не поедет. Обе сестры вышли замуж. Зачем им портить семейную жизнь?
Котовский шагал по мокрым тротуарам и перебирал в памяти людей, которых в этом городе знал. Он не раз приезжал с поручениями из имения. Но все те, с кем он имел дело по продаже сена или покупке инвентаря, не приняли бы его.
И вдруг вспомнил: переплетчик Иван Маркелов, которому он давал переплести конторские книги! И живет рядом, около рынка, и человек простой, наверное, приютит на первое время.
Быстро миновал Котовский богатую часть города, где пестрели занавесками и комнатными цветами на окнах кирпичные одноэтажные дома. Начищенные медные дощечки на парадной двери извещали, кто проживает в доме: присяжный ли поверенный Зац, или купец Аввакумов, или зубной врач Любомирский...
Вот и кончились эти богатые кварталы, а дальше вдоль улицы пошли лепиться глиняные хибарки, вросшие в землю, с грязными дворами, с незакрывающимися калитками. Вот и дом No 48, кажется, самый неказистый в этом скопище убогих домишек.
Котовский постучал. Открыла ему бледная, в лице ни кровинки, женщина, безучастно посмотрела, спросила:
– Вам что, наверное, Ивана Павловича? Он спит.
Но Иван Павлович, переплетчик, сразу же проснулся, узнал Котовского, спросил, не заказ ли он принес, и сказал разочарованно:
– Значит, заказа не принес? А то я как раз свободен... Мы, брат, бастуем. Третий день.
– И голодаем столько же, – добавила жена Ивана Павловича.
Тут Иван Павлович встал и, оглядывая Котовского с ног до головы, нахмурился:
– Да ты, кажется, сам-то тово... на новом положении?
Котовский рассказал, как он расстался со Скоповским, как чуть не замерз, связанный и избитый, в степи, как спас его от смерти один хороший человек.
– Понятно, – в раздумье произнес Иван Павлович. – А я спросонок ничего не разобрал и к тебе с заказом...
– Ну, и как же вы бастуете? – спросил Котовский.
Он не любил распространяться о своих бедах и вообще не любил долго говорить о себе.
– В Кишиневе восемь переплетных мастерских, – рассказывал Иван Павлович, усадив за стол пришельца, – в них работают двадцать шесть взрослых и четырнадцать мальчиков. Работаем по восемнадцать часов в сутки, а получаем по двенадцать рублей в месяц – никак не прожить. Вот мы и надумали бастовать. Сейчас время горячее, подоспели заказы, может быть, чего добьемся.
– А чего вы добиваетесь?
– Чтобы работать по-человечески, ну хотя бы двенадцать часов в сутки, и чтобы повысили заработок. А что голодаем третьи сутки – это она выдумывает, нам ведь немного-то комитет помогает.
– Комитет?
– Ну да, социал-демократы... Ты, Раиса, расшевели самоварчик-благоварчик, хоть чаем гостя побалуем, вот только хлеба-то у нас нет... Ты, что же, к себе в Ганчешты поедешь?
– Нет, в Ганчештах делать мне нечего. Как-нибудь здесь.
Маркелов помолчал, подумал, несколько раз произнес: "Так-так-так... Так-так-так..." – затем засуетился, пробормотал: "Ты ничего, сиди, сиди тут, я в минуту!" Выскочил в дверь, нахлобучив на голову старенький картузишко, и вскоре появился с хлебом: купил на рынке, и мало того принес еще и кусок колбасы.
Котовский старался не смотреть на эти соблазнительные предметы, которые хозяин дома положил на тарелки и стал резать на куски.
– Вот какие дела, – продолжал Маркелов, – шорники тоже бастуют, а завтра не выйдут на работу токаря. Да вот почитай, тут все написано. Раиса, как у тебя там самовар? Шуруй, шуруй его!
Иван Павлович извлек из-под рубахи аккуратно завернутую в переплетную бумагу газету.
– "Искра", – прочитал он и гордо добавил: – Здесь, в Кишиневе, напечатана! Ленинская!
Но быстро спрятал газету обратно, потому что кто-то шаркал у двери ногами.
Вошел мужчина в ситцевой в горошинку рубашке, с небольшой русой бородкой, росшей почему-то немного вбок. Он был в очень возбужденном состоянии. Покосился на Котовского, как бы взвешивая, опасаться ли постороннего человека, и, не сказав даже "здравствуйте", закричал:
– Продали! Продали нас, собаки!
– Садись, Василий, да говори толком. Какая польза от крику? Кто продал? И если продал – почем?
– Хозяин продал. Идельман. Набрал к себе новых рабочих. "А вы, говорит, бунтовщики-забастовщики, можете убираться на все четыре стороны, вы мне не нужны".
– Как так не нужны?
– Очень просто.
– Здорово!
Иван Павлович как нарезал хлеб, так и сел с ножом в руках на табурет, сел и молчит, ошеломило его известие. Молчит и оглядывается на жену: слышала или не слышала? Зачем раньше времени ее огорчать?
– Ты тут питайся, – сказал Маркелов гостю. – Ешь все, ничего не оставляй. Чай пей. Сахару у нас нет, но ничего, можно и без сахару. И ночевать оставайся, место найдется. Пошли, Василий. Надо немедля в стачечный комитет. Не нужны! Как это так не нужны? Как это так на все четыре стороны?
Котовский совестился есть. Люди сами голодают, а впереди их ждут еще более горькие дни. Жена Маркелова приготовила чай, поставила на стол чашку.
– Кушайте, – сказала она.
Голос у нее был отсутствующий. Говорила, а сама не думала, что говорит.
– Давайте вместе, хозяюшка, перекусим... Что ж я один?
– Я после, обо мне не беспокойся, батюшка.
Котовский поел немного. Выпил чашку горячего чая. Чай был не то морковный, не то фруктовый. Котовский никогда не пробовал такого, но чай понравился.
– С таким чаем никакого сахару не надо, – сказал он, прихлебывая с блюдечка.
Женщина ничего не ответила. Она сидела на лавке, опустив костлявые, жилистые руки. Она смотрела в окно.








