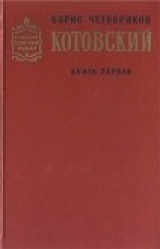
Текст книги "Человек-легенда"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
"Если бы мог я знать о планах контрразведки хотя бы за полчаса до выполнения, – думал он в отчаянии. – Если бы не так быстро все произошло! Я бы сделал нападение, перебил бы охрану... Я бы дал им настоящее сражение на улице... Они бы не успели опомниться, как все было бы выполнено..."
Перед ним стояло лицо Жанны – смелое, с широко открытыми, любопытными ко всему происходящему в мире, приветливыми и привлекающими глазами... А эти задорные мальчишеские кудряшки черных волос на голове! А этот звонкий голосок!.. Милая Жанна! Маленькая Жанна! Как странно, что ты уже никогда больше не засмеешься, не встряхнешь непослушными прядями, не крикнешь задорно: "Добрый день, Поль! Здорово, Жюльен! Salut aux matelots!.."
7
Секретаря губкома Ивана Федоровича Смирнова взяли ночью в его квартире. Услышав стук в дверь, Смирнов сразу понял, что это не к добру.
– Кто там? – спросил он, не отпирая.
– Откройте, срочное дело.
Смирнов, не отвечая, немедленно стал уничтожать бумаги, которые могли бы навести на какой-нибудь след. Он знал по голосу всех своих товарищей. Да и стук у своих был условный. А это были хриплые, чужие голоса.
В дверь ломились. Когда все было готово, Иван Федорович спокойно подошел и откинул крючок.
– Почему не открывали? – ворвались охранники, направляя на него револьверы.
– Мне нужно было успеть кое-что сделать.
– Почему пахнет жженой бумагой?
– Уничтожил лишние документы.
– Ласточкин?
– Ласточкин.
– Давно мы за вами охотились.
– Мухи осенью сильнее кусают. А ваша осень пришла.
– Смотрите, он и нас, кажется, хочет сагитировать!
Когда закончился обыск и вышли на улицу, Смирнов увидел, что арестовывать его прибыл чуть ли не целый взвод. Насколько хватал глаз сверкали в темноте штыки, мелькали шинели. Смирнов посмотрел вокруг себя. Была холодная, неприветливая ночь. Но все-таки как прекрасно это небо, как широк мир, как пахнет морем!.. Смирнов прощался с этой красотой, которой ему так редко и так мало приходилось любоваться. Смирнов понимал, что больше он этого не увидит. Он все успел мыслью окинуть. Догадался приблизительно, кто предал. Озабоченно подумал:
"Неужели не сумеют без меня выпустить очередной номер газеты? Выпустят! А там пришлют нового работника, незаменимых нет..."
Вспомнил о жене. Бедняжка. Не сладкая ей выпала жизнь... Сын – сын выбьется в люди. И не придется ему стыдиться отца.
Он не раз обдумывал, как будет держаться в случае провала. Он просто будет молчать. Что бы они ни изобретали, каких бы пыток ни выдумывали – он будет молчать. В самом деле, не пробовать же их в чем-то убеждать! Им разговаривать не о чем.
И Смирнов молчал. Вначале они надеялись заставить его заговорить. Они применили весь ассортимент самых мучительных пыток, изобретенных современными истязателями и палачами прежних эпох. Они были большими знатоками этого дела. Они потратили на секретаря губкома несколько ночей, каждый раз прекращая свои старания лишь тогда, когда не могли жертву привести в сознание никакими средствами.
Тогда волокли изуродованное тело и бросали на пол в одиночке полутемном каменном мешке с плесенью на стенах и тяжелым промозглым воздухом, таким, что даже тюремщики отшатывались от двери. Здесь Иван Федорович приходил в себя. Он мучительно вспоминал, что произошло и где он находится. Он не мог пошевельнуть вывихнутыми руками, чтобы вытереть кровь с лица, а главное – с глаз, затянутых кровавой пленкой. Впрочем, все равно не на что было смотреть. Черный мрак! И только мысль, упрямая человеческая мысль пробивалась через этот мрак.
Смирнов проверял себя. Да, он не сдался! Он даже не доставил палачам удовольствия своим криком боли, стоном. Он только скрипел зубами, а потом и этого не было, потому что ему выбили зубы... И на лице, превращенном в один сплошной синяк, в одну кровавую ссадину, мелькало подобие улыбки. Ну что такое все они – усердные палачи, потерявшие в своей отвратительной профессии все человеческое, – что такое все они перед волей большевика?
Все еще не чувствуя себя спокойными, контрразведчики поместили Смирнова в плавучей барже-тюрьме. Обезображенное тело Смирнова было вывезено на моторном катере в открытое море. Волны приняли его в свои ласковые объятия. Черное море стало его величавой могилой. В этот день ветер поднимал штормовые волны. Море хмурилось, море разверзало темные пучины и с грохотом и стоном обрушивало гребень волны...
Палачи боялись секретаря Одесского губкома даже после его смерти! Вот почему они выбросили тело в море. Вот почему они заметали следы.
8
Ревкомовцы собрались, чтобы обсудить положение. Это были люди, привыкшие бороться, переносить удары судьбы, видеть гибель собратьев и смотреть смерти в лицо. Но все же события этих дней потрясли их.
Удар нанесен метко. Особенно горестно потерять руководителя подполья сейчас, когда дни интервентов и белогвардейцев сочтены. Вполне объяснима торопливость контрразведчиков: они поспешили прикончить Смирнова, так как не надеялись ни на толстые тюремные стены, ни на решетки, ни на самих себя.
– Здесь предательство! – решили все, нахмурясь.
В сознании стоял неотступный вопрос: кто? Все обдумали, все припомнили – и сошлись на одном.
...Незадолго до ареста секретаря губкома в одесскую подпольную организацию явился некий Ракитников. Он предъявил документы, довольно убедительно рассказал о себе, о своей работе, о Москве. Люди в подполье были нужны, время было горячее. Новые работники прибывали почти ежедневно, и появление Ракитникова не вызвало никаких подозрений.
Ракитников назвал себя "подрывником" и настойчиво просился "в распоряжение Котовского". К Котовскому его не направили, это делалось совсем не так, в дружину к нему вообще не "направляли", но дали Ракитникову ответственное поручение. Он по этому поводу виделся с товарищем Николаем, получил подробные инструкции, двадцать тысяч рублей на различные расходы и... скрылся. Так как он сам лично беседовал с Ласточкиным, он, конечно, запомнил его и мог препоручить кому-то другому дальнейшую слежку.
Явку в ателье "Джентльмен" тогда же ликвидировали. Но было непростительной неосторожностью, что хотя бы на некоторое время не отправили секретаря губкома в какое-нибудь надежное место, чтобы контрразведчики совсем потеряли его из виду. Но разве Ивана Федоровича уговоришь? Других он распекал за неосторожность, а своей головой постоянно рисковал. Он говорил, что еще точно не известно, может быть, Ракитников запоролся, может быть, он и не шпион...
Никаких сомнений не оставалось: Смирнова отдал в руки контрразведчиков Ракитников. Нужно было его найти.
Котовского вызвали на это совещание ревкома. Он сказал:
– Если только этот н-негодяй н-на поверхности земли – я его отыщу!
Котовский не мог привыкнуть к мысли, что Ивана Федоровича нет и ничего уже нельзя тут сделать. Но поймать и уничтожить предателя – это его прямое дело, его святой долг.
Поиски долго не давали результатов. И вдруг обнаружили Ракитникова в Одессе: видели, как он шел преспокойно по улице, раскланивался со знакомыми офицерами, а затем исчез в подъезде ресторана.
– Пока он сядет за столик и закажет украинский борщ и шницель по-гамбургски, мы уже будем там, – сказал Котовский.
Несколько дружинников быстро превратились в военных. Котовский привычно облачился в офицерский китель.
– Пошли! – объявил он, накладывая перед зеркалом грим.
– Если будет сопротивляться – стреляем? – спросил Вася, заранее предвкушая удовольствие пустить пулю в лоб провокатора, предавшего самого Ласточкина.
– Нет, возьмем живьем! – ответил Котовский. – Пусть он сначала все расскажет.
Больше он ничего не добавил. Куда они денут его? Как поведут? Ведь он может крикнуть, позвать на помощь...
В ресторане было много народу. Обстановка пышная. Белые скатерти, толстые метрдотели, позвякивание рюмок, блестящие судки... Это было священнодействие. Разговаривали тихо. Или даже вовсе молчали, придерживаясь золотого правила: когда я ем, я глух и нем. В воздухе носились дразнящие запахи лаврового листа, мясного бульона, и сочных котлет. Мундиры... фраки... дорогие меха... голые плечи... браслеты...
Рассеянно смотрят посетители, как вваливаются в ресторан военные и топают между столиков. Ракитникову и в голову не приходит, что это имеет к нему какое-нибудь отношение. Он уже приступил ко второму блюду и маленькими глотками пьет белое вино.
– Виноват, – козыряет офицер, склоняясь над ним, – я попрошу вас предъявить паспорт.
– Я? Паспорт? С какой стати? И не подумаю.
– Вы задерживаете нас. Поторопитесь.
– Странно! Паспорт, конечно, у меня есть...
– Фамилия?
– Евтихий Павлинович Ракитников.
– С каких пор вы стали Ракитниковым?
– Знаете... это уже слишком!
За столиками перешептываются:
– Кажется, сцапали. Наверное, красный... Какой-нибудь террорист...
– Прекрасно у нас работает контрразведка!
– Так и надо! Нельзя спуску давать! Хватать их без всякой жалости!
– Ха-ха! Слышали? Паспорт на Ракитникова, а сам, вероятно, Сидоров или Петров!
– Я вас попрошу проследовать за мной, – вежливо, но решительно говорит офицер.
– Пожалуйста! – обиженно бормочет Ракитников. – Уверяю вас, что это недоразумение. Меня здесь хорошо знают!
– У меня есть приказ, я не сам выдумал. Выясним – и отпустим. Что делать? Мы обязаны проверять.
Ракитников заранее торжествует. Хорошо же! Он пойдет! Но когда все выяснится, он пожалуется самому Иваницкому! Что это за безобразие? Днем хватают людей!
На улице Ракитникова окружают конвоиры. Он спокоен. Чем скорее его доставят в контрразведку, тем лучше!
– Позвольте! Куда же мы идем?
– Вас будет допрашивать сам главнокомандующий.
– Ничего не понимаю. Я вас прошу об одном: позвоните в контрразведку, капитану Мыльникову.
– Вот Мыльников меня и послал. Однако кончайте разговоры.
Провокатор понял все только тогда, когда его привели на конспиративную квартиру и он увидел представителей ревкома.
Котовский смотрел на его поникшую фигуру. Спросить бы его, почему предал? Исходя из каких-нибудь убеждений? Или за деньги? Или просто по слабости характера: заставили – и пошел?
– Итак, вы были связаны с капитаном Мыльниковым? От него вы и получили задание проникнуть в подпольный губернский комитет?..
Три дня допрашивали Ракитникова. Сначала он предал секретаря губкома. Теперь он, с противной дрожью в голосе, жалкий и ничтожный, выбалтывал все, что знал о деникинской контрразведке.
Через три дня ему объявили приговор революционного суда.
Он был расстрелян.
9
Ничего не могли понять, не могли приложить никакой мерки к этой огромной стране, к этой силище, к этому народу-сфинксу, к этому восточному богатырю некоторые тонкие, ловкие, прожженные, видавшие виды иностранные дипломаты, мыслители, торговцы невольниками, атташе, наблюдатели, завоеватели, коммивояжеры. Почему это никак нельзя завоевать, поставить на колени, просто обмануть, наконец, эту, казалось бы, такую простую, добрую, отзывчивую и приветливую страну?
Четырнадцать держав взялись объединенными усилиями покончить с этой неслыханной затеей – построить государство на совершенно новых основах. Ни много ни мало – четырнадцать держав!
Увязали в сугробах, плутали по дремучим лесам, как четырнадцать убийц, крались в глухую полночь, держа отточенный нож за пазухой... А все живет и цветет молодая держава, по-прежнему румяны девушки и задушевны песни о березе, о соловьях, о неуемном ожидании счастья, о немеркнущей надежде на будущее.
Командующий вооруженными силами Антанты на востоке Франше д'Эспре пригласил к себе деникинских генералов и долго читал им нотацию. Генералы слушали почтительно, с поникшими головами.
– Ваши офицеры имеют скверную репутацию, – отчитывал д'Эспре, – их приходится арестовывать десятками за неприличное поведение! Фи, как нехорошо! Господа! Они получают жалованье! А? И ничего не делают? Они должны побеждать, вот что они обязаны делать! А?
В этом отношении Франше д'Эспре был прав: действительно, офицеры получали жалованье и – не побеждали. Больше того, они терпели поражения! Даже в самой Одессе становилось небезопасно жить! И хотя Франше д'Эспре делал все, чтобы попасть в историю, но даже у себя во Франции не встретил одобрения и России не завоевал.
Единственное, в чем он преуспел, – это в создании при французском командовании российского "совета министров". Ему приходилось торопиться с этим мероприятием, потому что дела на фронте ухудшались с каждым днем. Два дня министры ходили с портфелями, как и полагается настоящим министрам. На третий день, не совершив никаких преобразований, министры в самом срочном порядке погрузились на иностранный пароход: Одесса спешно эвакуировалась.
Революционный комитет руководил партизанским движением. В Одессе кроме пересыпской дружины и матросской действовали еще комсомольцы. Успешно шла борьба в Николаеве и Херсоне.
Котовский в облике представителя фирмы по оборудованию механических мельниц направлялся то в Вознесенское, то в Ясское, то в Беляевку и Маяки.
Отряд приднестровских партизан насчитывал уже более четырехсот человек. Объединившись с одесскими отрядами, он начал бои с интервентами.
Вскоре Котовский привез радостное сообщение:
– Большие успехи! Партизанами занят Овидиополь и вот-вот будет захвачен Тирасполь!
Состоялась вторая губернская партийная конференция в Одессе. Несмотря на облавы, обыски, аресты, на конференцию явились двадцать семь делегатов. Постановлено было считать все партийные организации губернии на военном положении. Предложено повсеместно открыть военные действия и захватывать власть на местах.
Не помогла интервентам и присылка свежих подкреплений. По улицам Одессы маршировали греческие войска, удивляя глазеющую публику ярким обмундированием.
– Смотри, смотри! – переговаривались в толпе, – пестрые, как попугаи!
– А обоз-то, обоз! – разглядывали зеваки двухколесные арбы с высокими решетчатыми ящиками; эти арбы волокли тощие, унылые ослы, готовые вот-вот издохнуть.
Вскоре стало известно, что разноязыкая, разноплеменная армия терпит одно за другим поражения. Нами захвачены орудия, танки. Один из танков послан в Москву, в подарок от победителей.
В эти дни к д'Ансельму явилась делегация рабочих.
– Пусть войдут, – с кислой миной распорядился д'Ансельм.
Рабочие требовали прекращения вошедших в практику безответственных убийств, совершаемых по ночам патрулями, и передачи власти в городе в руки Совета рабочих депутатов.
– Пардон, – переспросил д'Ансельм, – каких депутатов?
– Рабочих, – ответила Елена Соколовская, пришедшая в составе делегации.
– Очень интересно, – прошипел д'Ансельм. – Рабочих депутатов? Замечательно!
Он не хотел выбалтывать, что ожидается прибытие крупных подкреплений французских, африканских и румынских войск. Он не хотел говорить, что пока не собирается сдаваться. Он только ответил, что осведомлен об агитационной работе среди иностранных войск и о том, что в Одессе пятьдесят тысяч вооруженных рабочих.
– Но имейте в виду, – добавил он после эффектной паузы, – что у меня здесь на рейде флот. Да, флот! И жерла пушек, я не скрою, наведены на город. Еще один момент: на моем столе лежит депеша. Кто из вас сочиняет эти отвратительные листовки на иностранных языках? Поручите этому субъекту прочесть – депеша изложена по-французски: на пути в Одессу следует крейсер. А крейсер – это вещь! Вот все, что я могу вам ответить, господа.
10
Красные под Одессой! Город как разворошенный муравейник. По улицам мчатся подводы. Люди собираются толпами, и кто-нибудь, опасливо озираясь, выкладывает последние новости. Одни радуются, другие мечутся в безысходном отчаянии. Кто-то хвастается, что у него есть знакомый капитан иностранного парохода. Кто-то уверяет, что "ерунда, союзники не допустят", что "вот увидите сами: подпустят их поближе, а потом ка-ак ударят!"
– Ударят, когда у самих шишка на лбу!
– Обязаны предоставить транспорт для желающего населения!
Но вот уже даже за бешеные деньги невозможно приобрести билет на пароход.
Горячие дни! Губернский комитет партии – военный штаб. Срочное задание – вывезти под самым носом у военных властей все ценности из подвалов Государственного банка.
– Отнеситесь со всей серьезностью к этому поручению, – говорили Котовскому в губкоме. – Нельзя допустить, чтобы наше народное достояние уплыло за границу! Ну, и нужно ли говорить, что желательно произвести эту операцию без потерь. Хватит уж потерь!
На грузовиках, сопровождаемых усиленной вооруженной охраной, подкатили дружинники среди бела дня к массивному зданию Государственного банка. Директора не оказалось.
– Где же он? Разыщите его немедленно! Саботаж? Почему не приняты меры к эвакуации? Что вы тянете? На что рассчитываете? – распоряжался Котовский, одетый в полковничью шинель.
Банковские чиновники засуетились. Зазвонили телефоны.
Выяснилось, что директор банка с семейством погрузился на иностранный пароход. Даже и мебель прихватил! И пуделя! И няню!
Тут прибывшие военные подняли на ноги всех. Они угрожали револьверами, они кричали, что всех переарестуют, перестреляют... Бледные, перепуганные насмерть чиновники сами помогали грузить ценности на машины. И солдаты, охранявшие банк, тоже грузили.
Спустя несколько часов после того, как последняя машина отъехала от Государственного банка, сюда прибыли генерал, полковник из генштаба в сопровождении иностранцев.
– Все в порядке, ваше превосходительство! – радостно сообщили банковские чиновники. – Ценности вывезены под большой охраной. Можете не беспокоиться. Поработали на совесть!
– Вот как? Похвально, похвально! А вы, полковник, жалуетесь на медлительность нашего аппарата, настаиваете на решительных мерах, а оказывается, все сделано?
Его превосходительство даже поблагодарил чиновников за оперативность, и все это переводилось иностранцам.
Пока они таким образом обменивались любезностями, к банку стали прибывать какие-то грузовые машины, затем явился и сам директор банка в сопровождении целой комиссии по приему ценностей на предмет вывоза их за пределы страны.
– Никита Петрович! Но нам же ясно по телефону сказали...
– Что сказали? Кто сказал? Что вы мне ерунду мелете?
– Но позвольте! Ведь даже такие подробности... что и пудель ваш, Никита Петрович... Я сам лично говорил по телефону...
– "Никита Петрович", "Никита Петрович"! Что вы мне голову морочите?! Короче говоря, приступайте к передаче всех ценностей и прежде всего золотого запаса. Где Иван Иванович? Давайте его сюда!
– Вы напрасно горячитесь, Никита Петрович, – остановил его полковник из генштаба. – Все уже вывезено, вы немножко опоздали. Я тоже беспокоился, но, оказывается, все в порядке.
Директор банка Никита Петрович Кудрявцев был непомерно толст, и, например, в театре для него всегда специально отводилось двойное кресло, так как на одном он не помещался. Но тут он как-то осунулся, обмяк и выслушал терпеливо подробный рассказ, как прибыли грузовые машины, как Никиту Петровича разыскивали по всем телефонам и как, наконец, получили сведения, что Никита Петрович отбыл со всем своим семейством на иностранный пароход...
– На иностранный? – заинтересованно переспросил директор.
– Да, да, на иностранный! Я сам лично говорил по телефону... Но мы все сделали! Тут приезжали военные, с охраной!
Но директор уже не слушал. Он все понял. Ценности вывезены, но кем?
– Благодарю вас, – спокойно произнес он. – Попрошу вас, откройте мой кабинет... Мне все ясно.
Он медленно поднялся по роскошной лестнице, устланной ковровой дорожкой, мимо пальм, мимо почтительных кассиров и бухгалтеров. Проследовал в свой шикарный директорский кабинет, вынул из письменного стола никелированный револьвер и застрелился.
В это время на улице послышались выстрелы, застрекотал пулемет.
– Ваше превосходительство! – подошел адъютант к генералу, находившемуся в каком-то оцепенении. – Здесь оставаться небезопасно. Улица обстреливается!
Вся блестящая свита тронулась по направлению к порту. Все смущенно молчали. Испуганно прислушивались к близкой беспорядочной стрельбе.
– Однако... – пробормотал его превосходительство, большой любитель пошутить. – Одесса провожает нас просто с триумфом!
– На-зад! – закричал патруль, вымахивая на взмыленных лошадях из-за угла. – Здесь проезда нет! На чердаках домов засели пулеметчики!
Что творилось в порту! Крики, ругань, вопли, команда...
– Нельзя ли хоть на палубе? – кричал растрепанный жалкий человек в котелке. – Я согласен на палубе! Поймите, наконец, у меня жена!
– У всех жены!
Какие-то дети сидели на перевязанных ремнями корзинах... Кто-то бежал по сходням, и за ним несли кожаные чемоданы... Счастливец!
Матросы иностранных кораблей безучастно глазели с палубы на все это смятение. Американские журналисты фотографировали берег, толпу и панораму города.
В Одессе расклеен приказ французского командования. В приказе сообщалось, что союзниками принято категорическое решение: Одессы не сдавать!
Но вот уже под самой Одессой после упорных семидневных боев интервентами оставлены укрепленные пункты Очаков и Буялык. Воинские части отказываются грузить на корабли орудия и танки. Но даже под обстрелом предприимчивые командиры иностранных войск грабят склады, тащат все, что попадется под руку. Они похитили уцелевшие советские военные суда. Более ста советских торговых кораблей, нагруженных разным имуществом, угнано из Одесского порта.
Приказ французского командования еще висел, расклеенный по стенам домов и на заборах. А между тем пришло из Парижа указание – срочно эвакуировать войска с Украины "ввиду трудностей снабжения продовольствием", как пояснялось в этом правительственном распоряжении.
Вооруженные отряды рабочих заняли почту, телеграф, помещения штаба и контрразведки. Последний иностранный корабль скрылся за горизонтом.
– Так-то лучше, – говорили рабочие, поглядывая на удаляющиеся черные дымки, – незваный гость хуже татарина.
– А главное, ушли не солоно хлебавши.
– Это как сказать. По-моему, так им солоно приходилось!
На одесских улицах идет чистка и уборка. И город кажется еще прекрасней, еще белоснежней, еще милей теперь, когда его пришлось освобождать от вражеских полчищ. По улицам собирают и увозят трупы. Сдирают вывески несуществующих отныне учреждений.
Был такой старый давнишний герб Одессы: щит разделен на две части, в золоте верхней половины императорский орел с тремя коронами, в нижней червленой части серебряный якорь. Нет теперь этого герба! Над советской Одессой полыхает, переливается, плещет полотнищем красный революционный стяг.
Какой-то матрос стоит, высоко задрав голову и шевеля губами, и читает приказ французского командования о том, что Одесса не будет сдана.
– Пленум Одесского Совета рабочих депутатов!
– "Известия Одесского Совета рабочих депутатов"! – весело выкликают мальчишки-газетчики, размахивая, как флагами, газетными листами.
Апрельское солнце заглядывает в каждый сквер, в каждый дворик, в каждое окно Одессы.
11
Не в долгополом сюртуке помещика Золотарева, не в сверкающем нашивками облачении капитана Королевского, не в той роскошной дохе, в которой он однажды навестил напуганного фабриканта, и не в облике священника, спасшем ему когда-то жизнь, – в полном блеске кавалерийской формы шествует Григорий Иванович Котовский по улицам Одессы в сопровождении своих друзей. Какое счастье – вот так, жмурясь на солнце, шагать по широкой улице, по советской освобожденной земле!
– Что будем делать теперь? – спрашивают бойцы нетерпеливо.
Им скорее хочется узнать, что же дальше. Наверное, Григорий Иванович узнал что-нибудь определенное в Одесском военно-окружном комиссариате, куда он сегодня заходил.
Котовский не спешит с сообщениями. Он просто хочет побродить по городу. Один день отдыха – и можно снова с головой уйти в работу.
Вот здесь, в этом ресторане, Котовский арестовал Ракитникова... А здесь, на Французском бульваре, присутствовал на торжественном ужине у военного атташе... Вот она, вот она, та самая скамейка на Соборной площади! Как раскудрявился сквер! Все так же сидят и судачат няни и тихие старушки, все так же играют дети, катая тележки и подбрасывая в воздух мяч.
– Красивая площадь! – останавливается и любуется Котовский. – Бывали у меня здесь деловые встречи...
– Солнце печет, как будто уже лето! – удивляются молдаване. Наверное, сейчас так же солнечно в Кишиневе...
Вот она, вот она, явка подпольщиков! Здесь постоянно можно было видеть нашего дорогого Ивана Федоровича, нашего секретаря губернского комитета Смирнова!..
– Как! – удивляются все. – Вот здесь, в самом центре? Да ведь это было в двух шагах от контрразведки!
– Вот потому-то и было всего безопасней. И если бы не эта провокация... он и сейчас был бы жив...
Котовский печально замолк, погруженный в воспоминания.
Солнцем залиты улицы. И какими красками переливается безмятежное море! Насколько глаз хватает раскинулось оно на просторе. Ходить бы здесь всегда мирным кораблям, нагруженным товарами, скользить бы по волнам парусным лодкам рыбаков, прогулочным яхтам... Бескрайнее, наполняющее сердце большими чувствами, оно еле-еле всплескивает, набегает прозрачной волной, шуршит прибрежными гальками и дальше, дальше уводит взор – то бирюзовое, то темно-зеленое, то серебристое... спокойное, сильное, доброе море.
Котовский перебирает в памяти названия иностранных кораблей, совсем недавно стоявших здесь на рейде:
– Флагман оккупационной эскадры дредноут "Жан Барт", линкоры "Франс", "Вернье", "Мирабо", "Жюстис"...
И опять резнула боль в сердце;
"Жанна! Маленькая Жанна!.. Веселая, доверчивая, бесстрашная, заслужившая бессмертную память коммунистка Жанна Лябурб!.."
Группа людей шагает по Ришельевской. Здесь, в доме сорок один, помещается теперь ревком.
– А все-таки что же мы будем делать дальше? – спрашивает опять кто-то.
– Дорогие друзья! – говорит, останавливаясь, и с большой торжественностью Котовский. – В нашем отряде двести пятьдесят отборных храбрецов. Ревком принял отряд в свое подчинение!
Котовский развернул и показал всем мандат, скрепленный печатями. Мандат гласил, что Котовскому поручается организация боевых частей для освобождения Бессарабии от гнета мирового империализма.
И Котовский немедленно приступил к делу. Он не хотел терять ни одного дня. И все стоял у него перед глазами старик, который провожал советские воинские части, покидавшие Кишинев. Ведь ждет он, и весь народ ждет освобождения от чужестранцев!
Д Е В Я Т А Я Г Л А В А
1
Записку, которую дал Котовский, Миша крепко держал в руке, блуждая по Москве. Никогда он не думал, что на улицах может быть столько людей, столько шума, грохота, голосов. Миша путался у всех под ногами, всем мешал, его толкали, ему делали внушения: "Молодой человек! Ну как вы не понимаете?" Сколько народу! Все улицы заполнены толпами, и все, не останавливаясь, торопятся, бегут, вскакивают в трамваи... И надо найти среди этой толчеи, среди огромных площадей, улиц, тупиков и переулков эту самую Маросейку. Неужели он когда-нибудь привыкнет и тоже помчится в потоке людей, поймет, что такое кольцо "А" и где тут делать пересадки?
Маросейка оказалась улицей довольно узкой и довольно кривой, так что не сразу и разберешься. Дом номер тринадцать был большим, несуразным, с облупленным серым фасадом, с грязными помойками.
– Квартира сто семьдесят пять? – переспросил Мишу серьезный человек в каракулевой шапке, вышедший из ворот этого дома. – А разве тут есть квартира сто семьдесят пять?
И ушел, оставив Мишу в недоумении.
Оказывается, нужно было миновать первый двор, второй двор, войти под арку, пройти мимо гаража, на воротах которого написано мелом "No 6", и там подниматься по темной лестнице, распугивая тощих кошек.
Записку прочел усатый черный дядя, товарищ Стефан.
Котовский писал:
"Товарищ Стефан! Направляю к тебе в краткосрочный отпуск моего молодого бойца. Он мне скоро понадобится, но временно пристрой, пусть поживет настоящей жизнью, о которой нам, ветеранам, пока что приходится только мечтать".
– Ничего не понял, что он тут пишет. Надолго ты приехал?
– Григорий Иванович насчет этого ничего не говорил.
– Ладно. Я тебя на курсы устрою. Будет хлебная карточка, прикрепишься к столовой. В этой комнате живет человек, но он, хотя здесь и живет, дома никогда не бывает, должность у него разъездная. Вот и помещайся. Примус в кухне. Синий чайник – мой. Я тоже редко бываю. А Григорий Иванович где?
– Остался там... Хотя я одного не понимаю: остался, но ведь там же белые?
– Там всякие есть, и беленькие, и черненькие, а есть самые настоящие люди, он с ними и будет, уж я его знаю! Ордер возьми. Хотел себе купить, да обойдусь. Вот. По этому ордеру тебе выдадут одежду. Обмотки свои скинь, не модно. Деньги-то есть? Держи на первое время. Да ты не спорь, раз тебя прислал Григорий Иванович, значит, ты все равно что мой.
И он ушел. Он сказал, на дежурство. И стал Миша Марков жить.
Первое время, попав в Москву, он никак не мог насмотреться, никак не мог насытиться впечатлениями. Перед ним раскинулся неисчерпаемо богатый, изумительно красивый, сверкающий, многообразный мир – мир новых идей, новых чувств, нового сознания. Школа гражданственности, университет творческой мысли, штаб революции. Москва живет быстро, стремительно. Здесь все быстрей. Здесь сходятся все линии.
Миша Марков понял теперь, почему Котовский послал его в Москву. Он ходил до изнеможения по улицам, обежал все музеи. Присутствовал на митингах и уже два раза слышал выступления Владимира Ильича. Ильич говорил просто, как будто беседовал, но каждое слово его западало в душу.
Затем Миша приволок ворох книг в свою не блещущую красотой и обстановкой комнату, залез под одеяло (температура в комнате к зиме стала доходить до плюс шести по утрам и до плюс двенадцати к вечеру) – и читал, читал, делал выписки, чем дальше, тем больше убеждался, что многого совсем не знает, даже многих слов, и тогда кидался к словарям... Посещал одно время какие-то курсы, аплодировал футуристам, замирал от восторга, попав во МХАТ на самую что ни на есть галерку, бывал в Третьяковке...
"Эх, Татьянка бы меня сейчас видела!.." – думал он часто.
И стал Миша Марков настоящим москвичом. И не заметил, как настала зима и как она кончилась.
2
"Москва. Маросейка, 13, квартира 175. Маркову. Выезжай. Формирую конный отряд. Котовский".
Как был взволнован Миша Марков, как обрадован, как гордился! Командир жив, командир помнит о нем, командир зовет! Вот она! Вот она, телеграммочка! Узнает ли Григорий Иванович своего питомца? Миша очень изменился за это время, вырос, повзрослел. Москва – ведь это такая школа!
Телеграмма лежала на столе, на самом видном месте. Это была серая бумажка с наклеенной узкой полоской, неказистая, некрасивая, но такая дорогая!








