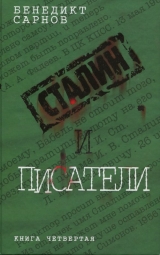
Текст книги "Сталин и писатели Книга четвертая"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 58 страниц)
Правильные соображения, оказывается, лежали и в основе развязанной Сталиным гнусной кампании по борьбе с «безродными космополитами»:
► Борьба эта очень быстро стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед заграницей и так же быстро приняла разнообразные уродливые формы, которыми почти всегда отличается идейная борьба, превращаемая в шумную политическую кампанию, с одной стороны, подхлестываемую, а с другой, приобретающую опасные элементы саморазвития. Многое из написанного и напечатанного тогда стыдно читать сейчас, в том числе и появившееся из-под твоего пера или за твоей редакторской подписью. Однако при всем том, что впоследствии столь уродливо развернулось в кампанию, отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью варварства, а порой и прямой подлости, в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, с самоощущением нестопроцентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здравое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись в обществе, возникшая духовная опасность не была выдумкой, и вопрос, очевидно, сводился не к тому, чтобы отказаться от духовной борьбы с подобными явлениями, в том числе и средствами литературы, а в том, как вести эту борьбу – пригодными для нее и соответствующими ее, по сути говоря, высоким общественным целям методами или методами грубыми и постыдными, запугивавшими, но не убеждавшими людей, то есть теми, которыми она чаще всего впоследствии и велась.
(К. Симонов. Истории тяжелая вода. Стр. 375).
Как говорил один персонале Зощенко: «Бывают ошибки, но линия правильная».
Так рассуждать Симонова побуждала не только еще не изжитая до конца его вера в Сталина – в то, что «Сталин всегда прав». К тому времени, когда он писал (диктовал) свои предсмертные записки, эта его былая вера давно уже развеялась. Но трезво и беспощадно оценить все зигзаги и повороты сталинской «генеральной линии» он не мог. Ведь для этого ему понадобилось бы так же беспощадно оценить – переоценить! – все крутые повороты и зигзаги своего собственного пути – в жизни и в литературе.
* * *
Самая ранняя – и, наверно, лучшая – пьеса Симонова «Парень из нашего города» была пронизана предощущением надвигающейся на страну большой войны.
В этом Симонов был не одинок. О близкой будущей войне на всю страну гремели песни:
Полетит самолет,
Застрочит пулемет,
Загрохочут железные танки.
И пехота пойдет
В свой последний поход,
И промчатся лихие тачанки.
Неизбежная будущая война авторам этих песен рисовалась, конечно, победоносной, а главное – быстрой:
И на вражьей земле
Мы врагов разгромим
Малой кровью,
Могучим ударом.
В полный голос, но по-иному звучала эта тема в предвоенных стихах молодых поэтов, сверстников Симонова. Не так легкомысленно-беспечно, но тоже романтически приподнято:
В те годы в праздники возили
Нас по Москве грузовики,
Где рядом с узником Бразилии
Художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
Как нынче, разные враги).
На перечищенных, охрипших
Врезались в строгие века
Империализм, Антанта, рикши,
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее...
Павел. Коган
О том, как долог и тяжел будет их путь до «речки Шпрее», они тогда не догадывались. Только в 42-м, уже кое-что повидав на этой большой войне, друг и сверстник Павла Когана Михаил Кульчицкий напишет:
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель...
Война ж совсем не фейерверк,
а просто – трудная работа,
когда —
черна от пота —
вверх
скользит по пахоте пехота.
Симонову уже в той, довоенной его пьесе будущая война видится как предстоящая его героям долгая и трудная работа:
► М о т о ц и к л и с т (входя).Товарищ майор! Пакет из штаба бригады. (Передает пакет, вынимает из кармана кожанки газету.)А это – из политотдела.
Приказали лично вам передать. Срочный выпуск фронтовой газеты. Разрешите ехать?
С е р г е й. Можете ехать. (Разрывает пакет.)К двадцати одному – на исходные позиции. Значит, правильно. Штурм. Севастьянов! Начинайте выводить вашу роту. Пойдете головным.
С е в а с т ь я н о в. Есть. (Уходит.)
С е р г е й (к Гулиашвили).Вы начнете через пять минут следом за ним.
Г у л и а ш в и л и. Дорогой! В этой газете указ, непременно указ о героях. Из нашей бригады – ты. Я точно знаю. Посмотри.
С е р г е й (складывает газету вдвое, потом вчетверо, решительно засовывает ее под кожанку, застегивает пуговицу).После боя прочту.
Г у л и а ш в и л и. Ну, как же ты, дорогой? Идти в бой, не зная: вдруг – да, а вдруг – нет.
С е р г е й. Ничего, злей буду.
Г у л и а ш в и л и. А если...
С е р г е й. Что – если? Если убьют? Да? Так эти «если» в нашей с тобой жизни уже десять раз были и еще сто раз будут. О них думать – воевать разучишься. (Дотрагивается рукой до кожанки там, где под ней спрятана газета.)Здесь не только те, что дожили: здесь ведь и те, что не дожили. Победу одни живые не делают. Ее пополам делают: живые и мертвые. А война еще только начинается.
Г у л и а ш в и л и. Начинается? Последний штурм, дорогой.
С е р г е й. Последний штурм? Чего? Зеленой сопки на реке Халхин-Гол? Ты сегодня плохо слушал радио, Вано.
Г у л и а ш в и л и. Почему плохо?
С е р г е й. Плохо. Ты сейчас о последней сопке думаешь, а я – о последнем фашисте.
(К. Симонов. Стихи. Пьесы. Рассказы. М. 1949. Стр. 407-408).
В этом проявилось изначально, с молодых лет, с самых ранних его стихов свойственное Симонову политическое чутье. Его сверстники самовыражались, а он уже знал, чувствовал, понимал, чего ждет, чего требует от него время.
Но, опередив их в предвидении тягот и сроков будущей войны, в своем представлении о ее конечной цели он был с ними заодно.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях.
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
Так представлял себе свое будущее не дошедший до «речки Шпрее» Павел Коган.
А вот о чем мечтает герой пьесы Симонова «Парень из нашего города» Сергей Луконин:
► С е р г е й. Знаешь, Аркаша, когда на параде знамена проносят, красные, обожженные, пулями простреленные, у меня слезы к горлу подступают. Мне тогда кажется, что за этими знаменами можно всю землю пройти и нигде не остановиться. (Пауза.)Говорят, многие мечтают на родине умереть, а я нет. Я, если придется, хотел бы на чужой земле, чтобы люди на своем языке – на китайском, на французском, испанском, на каком там будет – сказали: «Вот русский парень, он умер за нашу свободу». И спели бы не похоронный марш, а «Интернационал». Он на всех языках одинаково поется.
(Там же. Стр. 351).
Вот говорит погибший на финской войне сверстник Симонова Николай Майоров:
Мир яблоком, созревшим на оконце,
Казался нам... На выпуклых боках
– Где Родина – там красный цвет от солнца,
А остальное – зелено пока...
А вот – герой пьесы Симонова «Парень из нашего города»:
► П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Меня очень растрогало, когда вы захотели брать уроки французского. Все занимаются английским, говорят: нужнее.
С е р г е й. И правильно говорят, я тоже занимаюсь английским.
П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Да, но вы и французским.
С е р г е й. А мне все нужно, Полина Францевна. Иностранные языки – все еще может случиться, они еще могут перестать быть иностранными. Вы знаете, когда я смотрю на карту, мне почему-то нравится только та часть ее, которая покрыта красным цветом.
(Там же. Стр. 358).
И вот, наконец, – апофеоз. Заключительная сцена пьесы, ее финал:
► С е р г е й. Ты сейчас о последней сопке думаешь, а я – о последнем фашисте. И думаю о нем давно, еще с Мадрида. Пройдет, может быть, много лет, и за много тысяч километров отсюда, в городе... в общем, в последнем фашистском городе поднимет этот последний фашист руки перед танком, на котором будет красное, именно красное знамя.
(Там же. Стр. 408).
Непоколебимую веру в неизбежность Мировой революции, в торжество идеи всемирного пролетарского братства Симонов в этой своей пьесе утверждает не только декларативно, – монологами и репликами главного ее героя. Эта авторская идея формирует сюжет пьесы, самую основу ее драматургии. С почти плакатной наглядностью это выражено в одной из самых драматических ее сцен. Его герой, воюющий с фашистами в Испании, попадает в плен. На допросе выдает себя за француза. Допрашивает его – соотечественник, русский эмигрант, белогвардеец. Тщетно пытается он «расколоть» допрашиваемого, заставить его признаться, что на самом деле никакой он не француз, а русский. Но тот упорно стоит на своем: на все вопросы и провокации отвечает несколькими короткими французскими фразами, делая вид, что по-русски не понимает ни слова. В конце концов, ведущий допрос бывший белогвардеец в бешенстве приказывает его расстрелять.
Ни тени симпатии к соотечественнику не возникает ни у того, ни у другого. Они – смертельные враги. И никакого значения для обоих не имеет то, что «русская мать их на свет родила». Не национальные симпатии и отталкивания (пока) движут героями Симонова, а идейные, классовые.
Конечно, не случайно все это происходит в Испании. Вообще-то такая встреча соотечественников, стоящих по разные стороны баррикад, только там, в Испании, и могла произойти. Где же еще?
Но испанская тема Симонову была особенно близка.
Первым стихотворением, которым он привлек к себе внимание, было написанное им в июле 1937 года стихотворение «Генерал», посвященное, как было обозначено под его заглавием, памяти Матэ Залки:
В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем,
В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.
Давно уж он в Венгрии не был —
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.
Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,
Мадьяр повезли поезда.
Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,
Бежать за границу опять?..
С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слыхали о нем...
Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.
Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.
Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.
Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.
Я слышал, что за одно это стихотворение, которое он прочел публично, Симонова приняли в Союз писателей – вопреки всем пунктам и параграфам устава (по уставу полагалось, чтобы принимаемый представил хоть одну опубликованную книгу.)
Как видно, оно пришлось ко времени.
Вообще-то у Симонова всё, что он писал, всегда приходилось ко времени. Но это его стихотворение не было конъюнктурным. Доказательством тому может служить другое, написанное им шесть лет спустя:
Кружится испанская пластинка.
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.
Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придет,
Вечные слова «Yo te quiero» [3]3
Я тебя люблю! (исп.)
[Закрыть]
Пляшущая женщина поет.
В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.
У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый
И под Сталинградом – в пятый раз.
Он глаза устало закрывает,
Он да песня – больше никого...
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?
Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.
Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева...
На одной из улочек Дель-Кампо
Если ты сейчас еще жива,
Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он, тот голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?
Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,
В грузном поседевшем человеке,
В новом, грозном имени его.
Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
«Ну-ка, заведи вдогонку нам».
Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоет.
Потеряв в снегах его из виду,
Пусть она поет еще и ждет.
Генерал упрям, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет.
Это стихотворение было написано в 43-м.
Сталин давно уже пересажал всех «испанцев» (не настоящих испанцев, а наших, воевавших в Испании). Уцелели немногие. И не то что для Симонова, для людей, куда менее осведомленных, чем он, это не было секретом:
► Был у нас в училище комиссар, подполковник Видеман. И вдруг узнаем: воевал в Испании. И какая же мысль самая первая, чему удивились? В Испании воевал и не арестован... А ведь мы, школьниками, рвались туда воевать с фашистами. И мы же удивляемся: не арестован.
(Г. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды. М., 1999. Стр. 112).
Вернулись они из сталинских лагерей (не все, разумеется, а те, кто уцелел) через семнадцать лет. Так что сейчас такое стихотворение было совсем не ко времени. Тем не менее, Симонов его написал.
А тогда, в 37-м, когда родилось у него то, первое, – когда Сталин еще не вывел из Испании интербригады и Мадрид еще не пал, – в том же самом году Симонов вдруг почуял перемену курса.
Стихотворение «Генерал», посвященное памяти Матэ Залки, как уже было сказано, он написал в июле. А через месяц – в августе – начал писать поэму «Ледовое побоище».
* * *
Поворот «всем вдруг» от интернациональной идеологии к национальной, дер;авной, осторожно начатый Сталиным в начале 30-х, с годами обозначался все явственнее. Одним из самых первых отчетливых знаков этого поворота стал фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». На смену героям Гражданской войны (Чапаев, Щорс, Пархоменко) пришел новый герой – князь, причисленный Русской православной церковью к лику святых.
Сразу отменить революционную идеологию и заменить ее державной, царистской, было невозможно. На первых порах эти две идеологии надо было как-то совместить.
Задача была непростая, но Эйзенштейн с ней успешно справился.
► Можно было бы до мельчайших подробностей, до ничтожных деталей пейзажа, жестов второстепенных лиц и складок одежды, до последнего такта великолепной музыки Прокофьева проследить, каким образом слово и буква идеологии нашли свое воплощение в этом фильме. Перед нами нечто в своем роде совершенное, шедевр политической низости; как во всяком шедевре, в нем нет ничего лишнего и случайного, фильм, получивший всенародное признание, напоминает произведения немецкой кинематографии и литературы времен национал-социализма, но в русском варианте. Князь выглядит славянским арийцем Он снят так, что всегда кажется выше всех остальных и выше зрителя. Его язык представляет собой смесь архаически-народного словаря с языком газеты. Он враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно преданного ему народа и, судя по всему, атеист. В Новгороде тринадцатого века вообще нет никаких следов христианства, если не считать колокольного звона, который, однако, созывает людей не в храмы, а на городскую площадь, где князь выступает с речью, в которой клеймит врагов народа и изменников родины (процессы 1937—1938 гг.). Изменниками оказываются эксплуататоры народа – богатые купцы. Совмещение двух систем координат совершается легко и просто: классовый враг есть не кто иной, как враг национальный. Б отличие от обаятельных, душевно щедрых и свободомыслящих новгородцев, немцы преувеличенно богомольны. Они высокомерны, жестоки, коварны, трусливы и ненавидят русский народ. В фильме с изумительным искусством обыгрываются простейшие символы и элементарные семиотические приемы... Контрасты белого и черного, теплых грудных голосов русских женщин, поющих величественно-задушевную песню о родном крае, и мрачной дисгармонической мелодии рыцарского рога, лик Солнца на княжеском стяге и страшный, могильный латинский крест, вознесенный над коленопреклоненными немцами, над снежной пустыней, движение орденского войска, мертвого механического Запада, который замыслил поработить Русь и сломает себе на этом шею, – все сходится на одном, соединяется в единый вектор.
(Б. Хазанов. Миф Россия. Опыт романтической политологии. New York, 1986. Стр. 47-48).
Фильм «Александр Невский» вышел на экран в 1938-м.
Симонов над своей поэмой «Ледовое побоище», как уже было сказано, начал работать в августе 1937-го и в декабре того же года он ее закончил/ Я бы не стал на этом основании утверждать, что он был первым, а Эйзенштейн вторым. (Фильм тоже не в один день делается.) Но, во всяком случае, тут с полным основанием может быть применена утвердившаяся у нас несколько позже формула о Ломоносове и Лавуазье: «Одновременно, или даже несколько раньше».
Проблемой приоритета, однако, я заниматься не собираюсь. Гораздо больше меня тут занимает проблема пресловутой «смены парадигм».
Эйзенштейну, хоть он и был создателем самого знаменитого революционного фильма, было легче, чем Симонову. Его «Броненосец «Потемкин» вышел на экран в 1925-м, то есть тринадцать лет тому назад. А Симонов своего «Генерала» написал буквально вчера.
Как тут не вспомнить жалобу Маяковского:
Лицом к деревне
заданье
дано.
За гусли,
поэты други.
Поймите ж!
лицо у меня
одно.
Оно – лицо,
а не флюгер.
И тем не менее, с задачей совмещения двух, казалось бы, взаимоисключающих идеологических парадигм Симонов справился не хуже Эйзенштейна. Пожалуй, даже лучше.
Но, решая эту непростую задачу, он пошел другим, своим путем.
В отличие от Эйзенштейна он не стал изображать князя «славянским арийцем», который «всегда выше всех», а рисовал его портрет совсем другими красками:
Был жилист князь и тверд, как камень,
Но не широк и ростом мал...
Лицом в отцовскую породу,
Он от всего отдельно нес
Большой суровый подбородок
И крючковатый жесткий нос
И язык князя не являет «смесь архаически-народного словаря с языком газеты». Это несколько осовремененный, но – живой язык. И уж, конечно, никакой он не атеист, этот симоновский князь:
«Пусть с немцами нас Бог рассудит
Без проволочек тут, на льду,
При нас мечи, и, будь что будет,
Поможем Божьему суду!»
Да и картина взаимоотношений князя с народом не отдает такой грубой фальсификацией, как у Эйзенштейна, где князь «враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно преданного ему народа и, судя по всему, атеист».
Разве вот только к боярам князь у него относится неприязненно:
В подушках прыгая седельных,
Вцепясь с отвычки в повода,
Бояре ехали отдельно,
За каждым челядь в два ряда
Всех, даже самых старых, жирных,
Давно ушедших на покой,
Сам князь из вотчин их обширных
Железной выудил рукой.
Из них любой когда-то бился,
Ходил за Новгород в поход,
Да конь издох, поход забылся,
И меч ржавел который год.
Но князь их всех лишил покоя —
Чем на печи околевать,
Не лучше ль под стеной псковскою
Во чистом поле воевать?
Уже давно бояре стали
Нелюбы князю. Их мечам,
Доспехам их из грузной стали,
Их несговорчивым речам
Предпочитал людишек ратных
В простой кольчуге с топором —
Он испытал их многократно
И поминал всегда добром!
Во всю дорогу он, со злости
Со всеми наравне гоня,
Не дал погреть боярам кости,
Ни снять броню, ни слезть с коня.
Но это не противоречит исторической правде. У реального князя с боярами были даже более крупные счеты.
Не противоречит исторической правде и изображенная Симоновым картина взятия Пскова и Ледового побоища.
Но эту – более или менее реалистическую – картину он ВСТАВИЛ В СВОЮ РАМУ.
Названиями глав поэмы служат даты, обозначающие время действия.
Первая глава называется: «1918 год». И это не опечатка. Не в 1240-м и не в 1242 годах происходят события, с описания которых, как можно было бы ожидать, открыв сочинение, которое называется «Ледовое побоище», начинает Симонов свою поэму, а именно в 1918-м:
Всю ночь гремела канонада
Был Псков обложен с трех сторон.
Красногвардейские отряды
С трудом пробились на перрон.
И следом во мгновенье ока
Со свистом ворвались сюда
Германцами до самых окон
Напичканные поезда.
Без всякой видимой причины
Один состав взлетел к чертям.
Сто три немецких нижних чина,
Три офицера были там.
На рельсах стыли лужи крови,
Остатки мяса и костей.
Так неприветливо во Пскове
Незваных встретили гостей!
В домах скрывались, свет гасили,
Был город темен и колюч.
У нас врагу не подносили
На золоченом блюде ключ.
Продолжая свое описание событий, развернувшихся в захваченном немцами в 1918 году Пскове, Симонов не пренебрег теми же «простейшими символами и элементарными семиотическими приемами», которыми пользовался в своем фильме Эйзенштейн. Но время действия позволяет ему оставаться (пока) на твердых классовых позициях, не смешивая их с национальными:
Для устрашенья населенья
Был собран на Сенной парад.
Держа свирепое равненье,
Солдаты шли за рядом ряд.
Безмолвны и длинны, как рыбы,
Поставленные на хвосты;
Сам Леопольд Баварский прибыл
Раздать Железные кресты...
А население молчало,
Смотрел в молчанье каждый дом,
Так на врагов глядят сначала,
Чтоб взять за глотку их потом.
Нашлась на целый город только
Пятерка сукиных детей,
С подобострастьем, с чувством, с толком
Встречавших «дорогих» гостей.
Пять городских землевладельцев,
Решив урвать себе кусок,
Сочли за выгодное дельце
Состряпать немцам адресок.
Они покорнейше просили:
Чтоб им именья возвратить,
Должны германцы пол-России
В ближайший месяц отхватить...
На старой, выцветшей открытке
Запечатлелся тот момент:
Дворянчик, сухонький и жидкий,
Читает немцам документ.
Его козлиная бородка
(Но он теперь бородку сбрил!),
Его повадка и походка
(Но он походку изменил!),
Его шикарная визитка
(Но он давно визитку снял!) —
Его б теперь по той открытке
И сам фотограф не узнал
Но если он не сдох и бродит
Вблизи границы по лесам,
Таких, как он, везде находят
По волчьим выцветшим глазам...
А немец, с ним заснятый рядом,
В гестапо где-нибудь сидит
И двадцать лет всё тем же взглядом
На землю русскую глядит.
Так кончается эта первая глава. А в завершающей поэму последней (точнее – предпоследней) он вновь переносит нас из 1242 года в 1918-й:
Не затихала канонада.
Был город полуокружен,
Красноармейские отряды
В него ломились с трех сторон.
Германцы, бросив оборону,
Покрытые промозглой тьмой,
Поспешно метили вагоны:
«Нах Дейтчлянд» – стало быть, домой!
Что ж, добрый путь! Пускай расскажут,
Как прелести чужой земли
Столь приглянулись им, что даже
Иные спать в нее легли!
На кладбище псковском осталась
Большая серая скала,
Она широко распласталась
Под сенью прусского орла.
И по ранжиру, с чувством меры,
Вокруг нее погребены
Отдельно унтер-офицеры,
Отдельно нижние чины.
Мне жаль солдат. Они служили,
Дрались, не зная за кого,
Бесславно головы сложили
Вдали от Рейна своего.
Мне жаль солдат. Но раз ты прибыл
Чужой порядок насаждать —
Ты стал врагом. И кто бы ни был —
Пощады ты не вправе ждать.
Так он «закольцевал», в такую вот раму вставил свой рассказ о победе новгородского князя Александра Невского над немецкими псами-рыцарями на Чудском озере в 1242 году.
Но и это еще не все.
За этой, как будто бы уже последней, завершающей главой, следует еще одна «ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1937 год»:
Сейчас, когда за школьной партой
«Майн кампф» зубрят ученики
И наци пальцами по картам
Россию делят на куски,
Мы им напомним по порядку —
Сначала грозный день, когда
Семь верст ливонцы без оглядки
Бежали прочь с Чудского льда.
Потом напомним день паденья
Последних орденских знамен,
Когда, отдавший все владенья,
Был Русью орден упразднен.
Напомним памятную дату,
Когда Берлин дрожмя дрожал,
Когда от русского солдата
Великий Фридрих вспять бежал.
Напомним им по старым картам
Места, где смерть свою нашли
Пруссаки, вместе с Бонапартом
Искавшие чужой земли.
Напомним, чтоб не забывали,
Как на ноябрьском холоду
Мы прочь штыками выбивали
Их в восемнадцатом году...
Как мы уже тогда их били,
Пусть вспомнят эти господа,
А мы сейчас сильней, чем были,
И будет грозен час, когда,
Не забывая, не прощая,
Одним движением вперед,
Свою отчизну защищая,
Пойдет разгневанный народ.
В общем, как пелось в одной из самых популярных тогдашних наших песен, – «Били, бьем и будем бить!»
Но тут, словно бы спохватившись, он вспоминает, что в Германии живут не только помещики и капиталисты, но и наши кровные братья – пролетарии.
Как с этим быть?
А очень просто:
Настанет день, когда свободу
Завоевавшему в бою,
Фашизм стряхнувшему народу
Мы руку подадим свою.
В тот день под радостные клики
Мы будем славить всей страной
Освобожденный и великий
Народ Германии родной.
Мы верим в это, так и будет,
Не нынче-завтра грохнет бой,
Не нынче-завтра нас разбудит
Горнист военного трубой.
«И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей».
Тем, кто не вспомнит, откуда это, взятое автором в кавычки, заключительное четверостишие (а не вспомнят, я подозреваю, многие), напоминаю: из «Интернационала», тогдашнего советского государственного, а потом партийного гимна.
Так просто Симонов решил проблему совмещения двух взаимоисключающих идеологических «парадигм». Решение, конечно, искусственное. По правде говоря, даже довольно-таки топорное. Но худо ли, хорошо ли, концы были сведены с концами. Выход из непростого, казалось бы, даже неразрешимого противоречия был найден.
А год спустя явилась на свет другая историческая поэма Симонова: «Суворов». (Фрагмент из нее появился в «Литературной газете» 15 октября 1938 года, полностью поэма была напечатана в 1939-м, в 5—6 номере «Знамени».) И тут уж он обошелся без «Интернационала».
* * *
В речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года, произнесенной с трибуны Мавзолея перед войсками, которые, выслушав напутствия вождя, прямо с этого парада двинутся на фронт, Сталин вспомнил 1918 год:
► Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, – мы ее только начали создавать, – не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы...
Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад.
(И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950).
А закончил он эту, наверно, самую знаменитую свою речь так:
► Пусть вдохновляет вас в этой войне мркественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!
Мало кто из тех, кто слушал тогда эту его речь (а слушала ее, затаив дыхание, вся страна), обратил внимание на то, что между этими «Пусть вдохновляет...» и «Пусть осенит...» было некоторое – и немалое – противоречие. И не только потому, что любая несообразность, вылетавшая из уст Сталина, давно уже воспринималась всеми как откровение. Противоречие это не было замечено, потому что к восприятию этой очевидной несообразности страна к тому времени уже была готова.
В докладе «24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», который Сталин прочитал днем раньше той речи, в которой объединил победоносное знамя Ленина со знаменами, под которыми сражались русские генералы и князья, содержалось одно весьма любопытное признание, которое – и тогда, да и потом – тоже мало кем было замечено. Объясняя, что гитлеровцы, именующие свою партию национал-социалистической, не имеют на это права, так как никакими социалистами на самом деле они, конечно, не являются, он в том же тоне и в тех выражениях подчеркнул, что не только социалистами, но и националистами в собственном смысле этого слова они тоже называться не могут:
► Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не националистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т.п., их можно было с известным основанием считать националистами. Но после того, как они захватили чужие территории и поработили европейские нации – чехов, словаков, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, белорусов, прибалтов и т. д. и стали добиваться мирового господства, гитлеровская партия перестала быть националистической, ибо она с этого момента стала партией империалистической, захватнической, угнетательской.
(Там же).
По тону и точному смыслу этого высказывания получается, что быть империалистом, конечно, очень нехорошо, а националистом, в сущности, не так уж и плохо.
Сталин, конечно, так прямо сказать это не мог, да и не хотел. Но – проговорился.
Советский идеологический иконостас являл собою тогда весьма странное зрелище: рядом с Суворовым и Кутузовым на нем по-прежнему красовались изображения предводителей крестьянских бунтов и восстаний – Степана Разина, Ивана Болотникова, Емельяна Пугачева. И мало кому при этом приходило в голову, что плененного Пугачева привез в Москву в железной клетке не кто иной, как вот этот самый Суворов.
Поворот от революционной идеологии к национальной – можно даже сказать националистической, – как мы знаем, был начат давно. Но не только сам этот поворот, но и перечень имен «наших великих предков», которые призваны были вдохновлять советских воинов в войне с немецко-фашистскими захватчиками, тоже был определен Сталиным еще в предвоенные годы.
Вслед за Александром Невским, фильм о котором, конечно же, был заказан Эйзенштейну самим Сталиным, тоже по личному указанию вождя были возведены на пьедестал убранные ранее с центра Красной площади на ее обочину Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.








