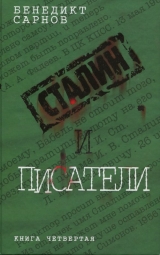
Текст книги "Сталин и писатели Книга четвертая"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 58 страниц)
А он всегда стремился к тому, чтобы при любых обстоятельствах, во всех его спорах и разногласиях с кем бы то ни было, последнее слово всегда оставалось за ним.
Ему мало был убить Зиновьева и Каменева, Бухарина и Рыкова. Ему надо было, чтобы они публично признались, что в их борьбе со Сталиным прав был он. Всегда и во всем.И когда Томский и Гамарник застрелились, уйдя от публичного судилища и публичных признаний (известно, какой ценой достигаемых) его правоты,он наверняка испытал тот же гнев, ту же бессильную злобу и ярость, какие испытал, когда его Надя покончила с собой, избежав последнего объяснения, в котором он, конечно же, сумел бы ей доказать, что всегда и во всем был прав.
Продолжая размышлять о реакции отца на самоубийство матери, Светлана Аллилуева мимоходом замечает:
► В те времена часто стрелялись. Покончили с троцкизмом, начиналась коллективизация, партию раздирала борьба группировок, оппозиция. Один за другим кончали с собой многие крупные деятели партии. Совсем недавно застрелился Маяковский...
(С. Аллилуева. Двадцать писем к другу. Стр. 109).
Упоминание Маяковскою в этом ряду невольно наводит на мысль: уж не считал ли Сталин, что и Маяковский, как покончившая с собой его жена, как покончившие с собой «крупные деятели партии», выстрелив себе в сердце, тоже совершил по отношению к нему личное предательство?
Предположение это отнюдь не бессмысленно.
Если вдуматься, для такого отношения к самоубийству Маяковского у Сталина причин было не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем во многих других случаях. Ведь выстрел Маяковского был личным «проколом», личным поражением Сталина. Хотел того Маяковский или нет, но, выстрелив себе в сердце, он громогласно, во весь голос сказал стране и миру, что не верит в сталинский социализм.
Об этом я подробно – более подробно, чем здесь, – говорил в главе «Сталин и Маяковский». Но тут счел не лишним обо всем этом напомнить, чтобы пояснить, почему тема самоубийства,независимо даже от того, как была бы она решена, уже сама по себе, неизбежно должна была вызвать у Сталина отрицательную и даже раздраженную реакцию. Что же касается Эрдмана, то он не просто прикоснулся к этой болезненной для Сталина теме, но и решал ее в совершенно неприемлемом для Сталина духе. Ведь весь смысл этой его пьесы, – так, во всяком случае, трактовал это дело председатель Главреперткома, – сводился к ОПРАВДАНИЮ САМОУБИЙСТВА.
Да, конечно, главным героем пьесы и двигателем ее сюжета был не настоящий, а мнимый самоубийца, самозванец. И все это – до поры до времени – выглядело фарсом. Но финал пьесы, ее последняя реплика, сообщающая о реальном самоубийце, оставившем перед смертью записку «Подсекальников прав, жить не стоит» – действительно бросала на этот фарс тень трагедии.
В общем, что говорить! Причин для запрета пьесы у Сталина было предостаточно.
Тем не менее, он все-таки – на этом этапе – ее не запретил. Согласился «дать театру сделать опыт и показать свое мастерство». И даже как будто благосклонно позволил двум самым знаменитым московским театрам соревноваться: у кого лучше получится. (Так, во всяком случае, интерпретировал разрешение Сталина ставить пьесу Станиславскому Мейерхольд.)
Как и можно было предположить, ничего хорошего из этого не вышло.
* * *
Постановка «Самоубийцы» в Театре имени Мейерхольда была запрещена в октябре 1932 года после закрытого просмотра спектакля комиссией во главе с Л.М. Кагановичем.
А Станиславский прекратил репетиции еще в мае. Начал он репетировать пьесу 16 декабря 1931 года (то есть через месяц после получения сталинского письма). А прекратил 20 мая 1932-го. В отличие от Мейерхольда, который довел спектакль до генеральной репетиции и закрытого просмотра, Станиславским пьеса показана так и не была
Значит ли это, что он отказался от постановки «Самоубийцы» сам, добровольно, без всякого давления извне?
Трудно сказать.
► Впервые я увидела его, когда в Художественном театре он читал своего «Самоубийцу» труппе.
Первый, даже не смех, а хохот всей нашей тогда такой благовоспитанной труппы раздался на первых же репликах.
Сам автор ждал тишины с каким-то даже отрешенным лицом.
Читал Николай Робертович невозмутимо, ровным голосом, а слушатели давились от смеха: так ясно вставала вся картина «драмы» семьи Подсекальниковых.
Кто-то из наших стариков, кажется, Иван Михайлович Москвин, простонал что-то вроде: «Ох, погоди, дай отдышаться!»
Василий Григорьевич Сахновский рассказывал, что когда Константин Сергеевич и Мария Петровна Лилина слушали «Самоубийцу» у себя в Леонтьевском, «Ка-эС» с 1-го акта смеялся до слез, а через некоторое время попросил сделать маленький перерыв – «сердце заходится».
Из протокола заседания художественного совещания при дирекции МХАТа 1 июня 30-го года:
«Слушали: О пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».
Постановили: Ввиду того что пьеса Н. Эрдмана представляет собой прекрасный художественный материал и может быть поставлена театром как сатирическое произведение... Раскрывая сатирически проблему быта, такая пьеса дает возможность театру отозваться со всей силой на поставленные нам советской действительностью вопросы, волнующие зрителя»...
Были распределены роли: Подсекальников – Топорков, в остальных ролях – Фаина Васильевна Шевченко, Анастасия Платоновна Зуева, Вера Дмитриевна Бендина... На все другие роли и даже эпизоды – много великолепных артистов. В те времена большие актеры любили играть эпизоды, даже как бы состязались в остроте создаваемого характера.
За постановку этой комедии очень ратовал Авель Софронович Енукидзе – тогдашний секретарь ВЦИКа. Он очень любил Художественный театр, заботился о стариках, об их отдыхе, помогал в сложных ситуациях того времени; но и ему не удалось отстоять этот спектакль. В самом начале работы – запрет...
(С. Пилявская. Эрдман в Саратове. Цит. по кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 331).
Давление извне, стало быть, все-таки было. И давление, наверно, сильное, если даже Авель Софронович не смог тут ничем помочь.
► Этот человек был самым близким другом Сталина еще со времен их юности. В середине 30-х годов Енукидзе занимал высокий пост председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК)...
Я никогда не мог понять, на чем зиждется столь тесная дружба Сталина и Енукидзе, людей разительно непохожих друг на друга. Это касалось даже их внешности. Енукидзе был крупным светловолосым мужчиной с приятными и учтивыми манерами. В отличие от прочих сталинских приспешников он мало интересовался своей карьерой. Мне, в частности, известно, что когда в 1926 году Сталин собирался ввести его в Политбюро, ленивый Авель сказал: «Сосо, я так или иначе буду тянуть свою лямку; ты лучше отдай это место Лазарю (Кагановичу), он так давно стремится его получить!»
Сталин с ним согласился. Он знал, что Авеля не требуется подкупать разного рода подачками, что на него можно положиться, не прибегая к специальным поощрениям. И, насколько мне известно, в дальнейшем никогда не пытался продвигать его на освобождающиеся посты, а использовал открывавшиеся в Политбюро вакансии в качестве соблазнительной приманки для других.
Теперь, когда я знаю о Енукидзе больше, я склонен думать, что он отказался от членства в Политбюро не потому, что был лишен амбиций, а потому что понимал: нужно быть слишком жестоким и беспринципным человеком, чтобы держаться за место в этом сталинском Политбюро.
Человек по натуре добродушный, Енукидзе любил приходить людям на помощь, и счастливы были те, кому в минуту житейской неудачи приходила спасительная мысль обратиться к нему. ЦИК удовлетворял почти каждую просьбу о смягчении наказания, если только она попадала в руки Енукидзе. Жены арестованных знали, что Енукидзе – единственный, к кому они могут обратиться за помощью. Действительно, многим из них он помогал продуктами питания, направлял к ним врача, когда они или их дети были больны. Сталин обо всем этом знал, но, когда дело касалось Енукидзе, смотрел на такие вещи сквозь пальцы.
Сам я однажды тоже был свидетелем эпизода, который как нельзя лучше характеризует этого человека. В 1933 году, будучи с семьей в Австрии, я узнал, что туда прибыл Енукидзе в сопровождении свиты личных врачей и секретарей. Пробыв некоторое время в медицинской клинике профессора фон Нордена, он отправился отдыхать в Земмеринг, где занял ряд номеров в лучшей гостинице. Как-то, приехав в Вену, мы с женой встретили его возле советского полпредства. Он пригласил нас провести выходной день вместе. По дороге в Земмеринг мы проезжали небольшой городок, где как раз шумела сельская ярмарка со своей традиционной каруселью и прочими нехитрыми развлечениями. Мы остановили машину и стали свидетелями живописной сцены. Невдалеке от дороги плясала группа терских казаков в национальной кавказской одежде. Завидев наш лимузин, казаки подошли поближе и, явно надеясь на щедрое вознаграждение, исполнили кавказский танец, ловко жонглируя при этом острыми кинжалами. Казаки не подозревали, что они развлекают члена советского правительства, вдобавок настоящего кавказца. Когда танец кончился, один из них приблизился к нашей машине и, с трудом переводя дыхание, протянул свою кавказскую папаху. Енукидзе вынул бумажник и положил в нее стошиллинговую купюру. Потом он жестом пригласил всех танцоров подойти поближе и каждого оделил такой же суммой, составлявшей по тем временам пятнадцать долларов – очень немалые деньги. Когда мы двинулись дальше, телохранитель Енукидзе, ехавший с нами, обратился к нему:
– Это же были белоказаки, Авель Софронович!..
– Ну и что же? – откликнулся Енукидзе, заметно покраснев. – Они тоже люди...
Помню, на меня слова Енукидзе произвели большое впечатление... Любой другой за такое поведение лишился бы партбилета, но Авелю все сходило с рук...
Енукидзе не был женат и не имел детей, хотя, казалось, самой природой он был предназначен на роль образцового семьянина. Всю душевную нежность он расточал на окружающих, на детей своих приятелей и знакомых, засыпая их дорогими подарками. В глазах детей самого Сталина наиболее привлекательным человеком был, разумеется, не их вечно угрюмый отец, а «дядя Авель», который умел плавать, катался на коньках и знал массу сказок про горных духов Сванетии и другие кавказские чудеса.
Авель Енукидзе был не только кумиром сталинских детей, но и близким другом его жены, Надежды Аллилуевой. Он дружил еще с ее отцом и знал ее буквально с пеленок. Во многих случаях, когда Аллилуева ссорилась со Сталиным, ему приходилось играть роль миротворца.
(А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М., 199. Стр. 290—292).
В продолжение этой темы я тут слегка забегу вперед, на короткое время перескочив из этого сюжета в следующий. Можно было бы, конечно, этого не делать, строго придерживаясь хронологической последовательности изложения событий и сохраняя таким образом стройность повествования. Но я не уверен, представится ли мне более удобный повод для обращения к короткому эпизоду, который я собираюсь сейчас изложить.
Год спустя после описываемых событий Николай Робертович Эрдман был арестован и сослан в город Енисейск. (Причины и обстоятельства его ареста и ссылки как раз и составят содержание следующего, второго сюжета моего повествования, в который я сейчас ненароком заскочил.)
А в это время у него был бурный роман с юной красавицей Ангелиной Иосифовной Степановой.
Вообще-то, слово «роман» тут не очень годится. Это была любовь. Быть может, самая большая любовь его жизни. А в жизни Ангелины Иосифовны, пожалуй, можно сказать – единственная.
Времена были совсем не те, что столетие назад, когда жены декабристов отправлялись в Сибирь вслед за ссыльными мужьями. Но отчаянная Ангелина Иосифовна вбила себе в голову, что непременно должна съездить к Николаю Робертовичу в Енисейск, хоть ненадолго скрасить ему его тоскливое ссыльное существование.
Она добилась невозможного. Сперва свидания с любимым на Лубянке, а потом и разрешения на поездку в Енисейск. Разрешение и на свидание, и на поездку ей выхлопотал не кто иной, как еще всесильный в ту пору Авель Софронович Енукидзе.
Когда дело было уже решено, он спросил у нее, что заставляет ее, восходящую юную звезду самого знаменитого в стране (а может быть, и в мире) театра поступать так опрометчиво, ставя под удар не только все свое театральное будущее, но, может быть, и самую жизнь.
Она ответила:
– Любовь.
Авеля Софроновича этот ее простой и откровенный ответ так поразил, что он не нашел ничего лучшего, чем пригрозить, как бы ей самой при таких старомодных взглядах на жизнь не оказаться в ссылке.
Сказано это было как бы в шутку, но по обстоятельствам того времени шутка была зловещая и при ином раскладе (если бы дело происходило не в 1934-м, а два-три года спустя) вполне могла бы обернуться реальностью.
К этому – слегка затянувшемуся – наброску портрета Авеля Софроновича Енукидзе необходимо добавить, что он был завзятым театралом и уже по одной только этой причине, казалось бы, больше, чем кто другой из сталинских «товарищей, знающих художественное дело», годился на роль «суперарбитра», которому Сталин мог бы вручить судьбу эрдмановской пьесы. Но именно поэтому он на эту роль как раз и не годился.
Сталину в этом случае нужен был не склонный к сопереживанию, то есть мягкосердечный, а бессердечный(на его языке – «принципиальный») человек. И чем меньше «понимающий художественное дело», – тем лучше.
Такой человек, надо полагать, нашелся (окружение Сталина, как мы знаем, именно из таких и состояло: Авель Енукидзе был там белой вороной), и судьба спектакля была решена
Кто именно в этом случае был назначен на роль «суперарбитра» и в какой форме был вынесен запрет на продолжение репетиций, мне установить не удалось. Может быть, никакого прямого запрета даже и не было. Но давление безусловно было.
Это видно по контексту, в котором эрдмановский «Самоубийца» постоянно упоминается в письмах Станиславского:
►...За «Самоубийцу» боюсь в том смысле, что актеры не поверят в возможность его осуществления, а потому работать будут без энергии, а между тем она наиболее важна с художественной стороны!.
(Из письма К.С. Станиславского Л.М. Леонову 26 сентября 1932 г. К.С. Станиславский. Собр. соч., т. 8. Стр. 312).
►...Несколько слов о «Самоубийце». Спросите прямо Авеля Софроновича [Енукидзе], ставить нам пьесу или же отказаться? Я стоял за нее ради спасения гениального произведения, ради поддержания большого таланта писателя. Если на пьесу начальство не сможет взглянуть нашими глазами, то выйдет ерунда и затяжка.
(Из письма К. Станиславского В. Сахновскому. 2 сентября 1934 г. Цит. по кн.: И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись, т. 4, с. 374).
Да и в самом театре отношение к этой эрдмановской пьесе было далеко не однозначное:
►...Однажды осенью 1936 года меня вызвал к себе Константин Сергеевич и целый вечер мы беседовали вдвоем. Он убеждал меня принять к постановке пьесу Эрдмана «Самоубийца». Мне с большим трудом удалось убедить его, что это пьеса лживая... Мы спорили четыре часа. Я не сдался. Константин Сергеевич был сильно недоволен мною.
(И. Судаков. Моя жизнь в труде и борьбе. Воспоминания. Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 310-311).
Судя по датам, стоящим под этими документами, Станиславский долго еще не оставлял надежду все-таки увидеть «Самоубийцу» на сцене МХАТа.
Но о том, почему в мае 1932 года работа театра над этой эрдмановской пьесой была вдруг прекращена, можно только гадать. И кое-какие догадки на этот счет у меня имеются.
* * *
Между пьесой и поставленным по этой пьесе спектаклем – дистанция огромного размера. Дело это известное. Не случайно с давних времен – в разных странах – существовали две цензуры для произведений драматургического жанра. Одна – литературная, разрешающая (или запрещающая) пьесу, – и другая – театральная, разрешающая (или запрещающая) спектакль.
Причин для такого разделения было множество.
Начать с того, что в спектакле всегда были возможны, можно даже сказать, неизбежны разного рода режиссерские или актерские импровизации.
История мирового театра насчитывает тьму-тьмущую самых знаменитых из них, нередко придававших играемой пьесе совершенно иное звучание, порой имеющее весьма мало общего с тем, какое хотел в нее вложить – и вложил – автор.
При желании я мог бы припомнить и привести здесь немало таких выразительных актерских или режиссерских «отсебятин», но ограничусь только двумя, напрямую связанными с театральной судьбой двух пьес Николая Эрдмана.
В первой его пьесе – «Мандат», принесшей ему славу одного из лучших драматургов страны, был такой, можно сказать, кульминационный эпизод:
► О л и м п В а л е р и а н о в и ч. Вы насчет контрреволюции потише, товарищ, у нее сын коммунист.
И в а н И в а н о в и ч. Коммунист?! Пусть же он в милиции на кресте присягнет, что он коммунист.
О л и м п В а л е р и а н о в и ч. Что это значит, Надежда Петровна?
Н а д е ж д а П е т р о в н а. Он, кажется, еще не записался, но он запишется.
П а в е л С е р г е е в и ч. Силянс! Я человек партийный!
И в а н И в а н о в и ч. Теперь я этого, Павел Сергеевич, не испугаюсь.
П а в е л С е р г е е в и ч. Не испугаешься? А если я с самим Луначарским на брудершафт пил, что тогда?
И в а н И в а н о в и ч. Какой же вы, Павел Сергеевич, коммунист, если у вас даже бумаг нету. Без бумаг коммунисты не бывают.
П а в е л С е р г е е в и ч. Тебе бумажка нужна? Бумажка?
И в а н И в а н о в и ч. Нету ее у вас, Павел Сергеевич, нету!
П а в е л С е р г е е в и ч. Нету?
И в а н И в а н о в и ч. Нету!
П а в е л С е р г е е в и ч.А мандата не хочешь?
И в а н И в а н о в и ч. Нету у вас мандата.
П а в е л С е р г е е в и ч. Нету? А это что?
И в а н И в а н о в и ч (читает).«Мандат». Все разбегаются, кроме семьи Гулячкиных.
П а ве л С е р г е е в и ч. Мамаша, держите меня, или всю Россию я с этой бумажкой переарестую...
Н а д е ж д а П е т р о в н а. Неужто у тебя, Павел, и взаправду мандат?
П а в е л С е р г е е в и ч. Прочтите, мамаша, тогда узнаете.
Н а д е ж д а П е т р о в н а. «Мандат»...
П а в е л С е р г е е в и ч. Читайте, мамаша, читайте.
Н а д е ж д а П е т р о в н а (читает).«Дано сие Павлу Сергеевичу Гулячкину в том, что он действительно проживает в Кирочном тупике, дом № 13, кв. 6, что подписью и печатью удостоверяется».
П а в е л С е р г е е в и ч. Читайте, мамаша, дальше.
Н а д е ж д а П е т р о в н а . «Председательдомового комитета Павел Сергеевич Гулячкин».
П а в е л С е р г е е в и ч. Копия сего послана товарищу Сталину.
Занавес.
(Н. Эрдман. Самоубийца. Екатеринбург. 2000. Стр. 71—72).
В тексте эрдмановской пьесы последняя, заключающая эту сцену реплика была иной. Под занавес совсем уже обалдевший от обладания своим липовым мандатом Гулячкин выкрикивал:
– Копия сего послана товарищу Чичерину!
В то время (дело было в 1925 году) Чичерин был наркомом иностранных дел, и в сложной международной обстановке тех лет имя Чичерина было у всех на слуху. Ничего удивительного поэтому в том, что Гулячкин в трансе выкрикивал именно его имя, не было. Это даже как-то само собой напрашивалось.
Но на одной из репетиций эта реплика Гулячкина Мейерхольда вдруг смутила:
► ...когда в 1925 году репетировали «Мандат», то был случай, который теперь покажется совсем неправдоподобным. У Эрдмана Гулячкин, когда выживают жильца, кричит, что копия его мандата послана товарищу Чичерину. Эраст на репетиции это выкрикнул, а Мейерхольд говорит: «Товарищи, все-таки Чичерин такое лицо... Неудобно! Надо кого-нибудь помельче». И предложил заменить Чичерина Сталиным. Так и орал потом Эраст на спектаклях.
(Е. Тяпкина. Как я репетировала и играла в пьесах Н.Р. Эрдмана. В кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы Воспоминания современников. Стр. 329).
Так эта мейерхольдовская «отсебятина» и вошла в текст пьесы и по сей день именно в таком виде и печатается во всех ее изданиях.
История, конечно, комическая. Но Мейерхольду, когда он потом вспоминал об этой замене, она такой, наверное, не казалась.
Видимо, Э. Гарин, игравший Гулячкина, с таким надрывом выкрикнул эту реплику, что она могла быть воспринята как издевательская по отношению к наркому.
На судьбе эрдмановского «Мандата» все это никак не отразилось. Сталин об этом, надо полагать, даже не узнал, а если бы и узнал, не исключено, что эта мейерхольдовская «отсебятина» ему бы даже понравилась.
А вот другая режиссерская импровизация на судьбе игравшегося спектакля сказалась самым роковым образом.
На сей раз дело касалось не «Мандата», а «Самоубийцы».
финальная сцена этой пьесы, в которой Подсекальников объявлял, что отказывается от самоубийства, у Эрдмана завершалась так:
► П у г а ч е в. То есть как проживем? Это что же такое, друзья, разворачивается? Я молчал, я все время молчал, любезные, но теперь я скажу. Ах ты, жулик ты эдакий, ах ты, чертов прохвост! Ты своими руками могилу нам выкопал, а сам жить собираешься. Ну, держись. Я себя погублю, а тебя под расстрел подведу, грабителя. Обязательно подведу.
Р а и с а Ф и л и п п о в н а. Расстрелять его!
Г о л о с а. Правильно.
С е м е н С е м е н о в и ч. Маша, Машенька! Серафима Ильинична! Что они говорят? Как же можно... Простите. За что же? Помилуйте! В чем же я виноват? Все, что вы на меня и на них потратили, я верну, все верну, до последней копейки верну, вот увидите. Я комод свой продам, если нужно, товарищи, от еды откажусь. Я Марию заставлю на вас работать, тещу в шахты пошлю. Ну, хотите, я буду для вас христарадничать, только дайте мне жить. (Встает на колени.)
А р и с т а р х Д о м и н и к о в и ч. Какая гадость! Фу!
С е м е н С е м е н о в и ч (вскакивая).Пусть же тот, кто сказал это «фу», товарищи, пусть он выйдет сюда. (Вытаскивает револьвер.)Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь. Одолжайтесь! Пожалуйста!
А р и с т а р х Д о м и н и к о в и ч. Что за глупые шутки, Семен Семенович, опустите револьвер. Опустите револьвер, я вам говорю.
С е м е н С е м е н о в и ч. Испугались, голубчики. Ну, так в чем же тогда вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что живу.
(Н Эрдман. Самоубийца. Екатеринбург. 2000. Стр. 215).
Короткая реплика Подсекальникова: «Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь!» в режиссерской экспликации Мейерхольда разрослась в длинную и весьма выразительную мизансцену, – можно даже сказать, в целую маленькую драму. А на том закрытом спектакле, который приехали смотреть «суперы» во главе с Кагановичем, сцена эта обрела совсем уже скандальный характер.
Вот как рассказывает об этом Игорь Ильинский, игравший в том спектакле роль Подсекальникова:
► А знаете, почему Мейерхольду запретили «Самоубийцу»? Из-за одной мизансцены, на которой настаивал Всеволод Эмильевич. Ведь спектакль был уже готов полностью. И, как это было заранее оговорено, его должна была принимать комиссия ЦК. Вот приходит комиссия, которую возглавлял, кажется, Каганович. Рассаживаются в первом ряду. А мы репетировали в клубе, где не было подмостков. Актеры и зрители располагались на одном уровне... И вот...
Играем мы спектакль. Некоторые из членов комиссии даже изволят улыбаться в отдельных местах...
Доходит дело до финала. А там у меня (я играл Подсекальникова) есть приблизительно такие слова: «В чем же вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что я живу. Я живу и другим не мешаю, товарищи! Никому на свете вреда не принес. И если, мол, кто желает вместо меня с собой покончить – вот револьвер, пожалуйста...»
И я протягивал оружие членам комиссии. Они инстинктивно отшатывались.
– «Одолжайтесь. Одолжайтесь, пожалуйста...» – говорил я и клал револьвер этаким осторожным манером на пол Да еще и носком сапога им пододвигал, чтобы удобнее было «одолжаться»...
Тут я заметил, как перекосились лица членов комиссии и они стали переглядываться между собой. И увидел боковым зрением лицо Мейерхольда, на котором можно было прочесть смешанное выражение удовлетворения и ужаса: он, должно быть, понимал, не мог не понять в эту секунду, что спектакль будет закрыт, а с ним вместе – закрыт театр... Закрыли его, правда, несколько позже, но обречен он был с этой самой минуты... Очень я убедительно предлагал им застрелиться из этого самого револьвера...
(А. Хржановский. Из заметок и воспоминаний о Н.Р. Эрдмане. В кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 384-385).
Спектакль «суперы» запретили, и театр Мейерхольда потом был закрыт, разумеется, не поэтому. Все это, надо думать, произошло бы и без этого инцидента. Но режиссерские и актерские импровизации такого рода с точки зрения начальства были, разумеется, недопустимы.
Но театральная цензура, более строгая и бдительная, чем литературная, вводилась, конечно, не из-за них. У нее были более сложные и более важные задачи.
► Цензура театральная, как правило, строже, чем цензура в области литературы: пьесы, разрешенные к печати, нередко запрещаются для постановки в театре. Цензура распространяется на актерское исполнение, театральный костюм и т.д.
(Цензура театральная. В кн.: Театральная энциклопедия. Т. 5. и, 1967. Стр. 675).
Вон оно как! Даже театральный костюм цензура, оказывается, могла запретить. И жизнь показала, что мера эта было совсем не лишней.
Чтобы далеко не ходить за примером, напомню наделавший в свое время много шуму спектакль «Доходное место», поставленный молодым Марком Захаровым на сцене театра Сатиры.
Актеры, исполнявшие там главные роли, были одеты в костюмы, мало отличающиеся, – а порой и вовсе ничем не отличающиеся – от современных. И это, конечно, сильно помогло Георгию Павловичу Менглету, игравшему Аристарха Владимировича Вышневского, вылепить этот образ так, что этот высокопоставленный чиновник императорской России сильно смахивал на добившегося такого же высокого положения советского или партийного функционера
Ну, а уж о необходимости цензурного контроля над сценической интерпретацией пьес и говорить нечего. Еще в досоветские времена, в 1901 году в России
► ...утверждается цензурный надзор за сценическим истолкованием пьес в столичных театрах.
(Там же. Стр. 677).
В 1901 году, когда был учрежден этот специальный цензурный надзор, особенно далеко дело еще не заходило. Но в более поздние времена разгул режиссерской фантазии достиг таких высот, что любой пьесе даже и классического репертуара постановщик мог придать смысл не то что сильно отличающийся, но даже прямо противоположный тому, какой вложил в нее автор.
Из собственных моих зрительских впечатлений такого рода сразу приходит на ум «Горе от ума» на сцене того же театра Сатиры. Чацкого там играл Андрей Миронов, и был этот мироновский Чацкий – страдающий недержанием слов резонер и неврастеник. А Молчалина играл красавец Ширвиндт. И был он так вальяжен и так обаятелен в своем веселом цинизме, что ни у одного из зрителей не могло возникнуть и тени сомнений насчет того, КОГО из этих двоих могла, даже должна была предпочесть Софья.
Мог бы я припомнить и другие, даже более яркие примеры таких, мягко говоря, нетрадиционных интерпретаций пьес классического репертуара. Но остановлюсь на одном – самом скандальном. Можно даже сказать – самом одиозном.
Я имею в виду знаменитого акимовского «Гамлета».
Этот спектакль Николай Павлович Акимов поставил на сцене московского театра имени Вахтангова (Премьера состоялась 19 мая 1932 г.)
Более выразительный пример, которым я мог бы проиллюстрировать эту свою мысль, найти было бы трудно. Пожалуй, даже невозможно. Но я решил подробно остановиться именно на этом спектакле еще и потому, что к работе над ним Акимов привлек Николая Робертовича Эрдмана. Так что у меня тут был, так сказать, двойной интерес.
Спектакль, как уже было сказано, назывался «Гамлет». Но правильнее было бы его назвать – «Антигамлет». Потому что главная цель постановщика состояла в том, чтобы опрокинуть, перевернуть, вывернуть наизнанку традиционное, на протяжении столетий сложившееся и утвердившееся прочтение этой великой трагедии Шекспира.
Ничего трагического в этом акимовском «Гамлете» не было и в помине. (Кроме, разумеется, финала, от которого все-таки никуда было не деться.) Сюжетом драмы или, как сказал бы Станиславский, ее сквозным действием стала борьба за престол. А Гамлет являл собой полную противоположность всему тому, что мы привыкли ассоциировать с этим именем.
Не было в этом акимовском Гамлете ни тени колебаний, сомнений, неуверенности, рефлексии. Коротко говоря – ни тени «гамлетизма». Законный наследник датского престола, борющийся за свои наследственные права, предстал передзрителями бодрым, веселым и уверенным в себе парнишкой.
Достаточно сказать, что на роль этого своего нетрадиционного Гамлета Акимов взял Анатолия Горюнова – актера отнюдь не трагического, скорее комического плана. В том же сезоне на сцене того же театра он сыграл весельчака и балагура французского солдата Селестена в «Интервенции» Льва Славина. Другие знаменитые его театральные роли – Бенедикт в «Много шуму из ничего», Городничий в «Ревизоре», Санчо Панса в «Дон Кихоте».
И вдруг – Гамлет...
Нечего и говорить, что в этом акимовском Гамлете не было места никакой мистике. Призрак (тень) отца, явившийся Гамлету с того света, чтобы сообщить сыну о совершенном над ним злодействе, трактовался Акимовым как розыгрыш, озорная мистификация, устроенная Гамлетом и его друзьями для того, чтобы закрутить всю интригу возвращения Гамлету подлейшим образом отнятого у него престола.
В соответствующем духе трактовались и все остальные ключевые эпизоды трагедии. А те, что не вмещались в такую трактовку, без долгих размышлений, легко и безжалостно были из нее выброшены.
Сам я этот акимовский спектакль по понятным причинам видеть не мог (в 1933 году мне было шесть лет), поэтому сошлюсь на впечатления, а отчасти даже и оценку одного из первых и, пожалуй, самых талантливых его рецензентов:
► Горацио, какое по себе
Запятнанное имя я оставлю,
Когда все так останется безвестным.
В предсмертной тоске, обращаясь к грядущим поколениям, восклицает эти слова умирающий Гамлет. С тех пор триста лет его имя волновало всех от олимпийски-спокойного Гете до неистового Виссариона Белинского. Но кто снял пятно с Гамлета? Кто рассказал истину о трагической истории принца датского? Кто сделал «все известным»? Каждая эпоха пыталась обелить Гамлета, дать ему защиту и объяснение. Можем ли мы по-своему прочесть Гамлета? Можем ли мы считать, что нам адресованы его предсмертные слова?
Советский режиссер Акимов в вахтанговском театре взялся за такую задачу. Он обратился непосредственно к Шекспиру, минуя тысячеголосый хор комментаторов, которые, по его мнению, запятнали Гамлета до неузнаваемости. О чем твердят комментаторы, даже выдающиеся, даже Гете? Гамлет – это слабость, безволие, бесхарактерность. Гамлет – это тоска, скорбь, суета сует.
– Неправда! – объявляет Акимов. – «Пусть все станет известным». Гамлет – сила, характер, воля. Гамлет – радость, бодрость, жизнь.
«Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден?» Вильгельм Мейстер Гете в этих словах видит ключ для раскрытия Гамлета. «Дело, возложенное на человека, который не в силах совершить его» – в этом трагедия датского принца.
– Неправда! – утверждает Акимов. – У Гамлета достаточно крепкие и сильные руки, чтобы связать время. Никаких нет у него слабостей, никаких колебаний, никаких интеллигентских «почему» да «зачем». «Распалась связь времен. Я связать ее рожден», – вот как должен произносить эти слова Гамлет. Он не байронический юноша. Он весельчак и храбрец, крепкий боевой парнишка. Вот в чем вопрос.
Акимов хочет «Гамлетом» воспитывать в советском зрителе силу и жизнерадостность, а не слабоволие и тоску. Благородная задача. Прекрасная мысль.
(Ю. Юзовский. Перечеркнутый Гамлет. В кн.:Ю. Юзовский. Спектакли и пьесы. М. 1935. Стр. 333-334).
Все это было в духе того времени. Молодой класс-гегемон, законный наследник всех ценностей мировой культуры, все поставит на свое место, все прочтет, КАК НАДО, все тайны и загадки прошлого решит в своем, пролетарском, марксистско-ленинском, а значит, единственно правильном духе.








