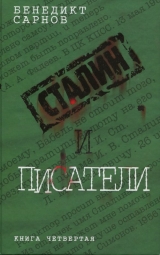
Текст книги "Сталин и писатели Книга четвертая"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 58 страниц)
Но Юзовский был не так примитивен.
Эти фанфары в начале его рецензии были только затравкой, отчасти даже обманкой. Выражаясь языком гегелевской триады, это был ТЕЗИС. За которым должен был последовать АНТИТЕЗИС, а потом, в заключение, как водится – СИНТЕЗ.
Но не только до синтеза, а даже и до антитезиса пока еще далеко. Пока рецензент лишь осторожно добавляет в эту свою бочку меда пару-другую ложек дегтя.
Но чем дальше, тем меньше становится в этой «бочке» меда и тем больше дегтя:
► Борьба за престол – такая интрига требует препятствий, которые герой преодолевает на пути. Нет таких препятствий в трагедии... Гамлет десять раз мог убить короля и десять раз бичует себя за слабость. Какая уж тут борьба за престол! Гете глубоко заметил, что у Гамлета нет плана, но есть план у Шекспира. Притворное сумасшествие вовсе не нужно для захвата престола, наоборот, оно вызывает подозрительность у короля. Бен-Джонсон и Мелон считали, что притворное сумасшествие – бесцельный план. Верно, поскольку нет плана у Гамлета. Но есть план у Шекспира – притворное безумие, как маска, под которой Гамлет может смело издеваться и ненавидеть... Представление актеров тоже бесцельный план, поскольку Гамлету известно имя убийцы его отца. Но есть план у Шекспира: пойманный в «мышеловку» король дает повод Гамлету разразиться негодованием на пошлость и подлость людскую. Гамлет выдумывает мнимые препятствия, чтобы отсрочить месть. Но истинных препятствий, на которых была бы испытана активность Гамлета, – нет, нет, значит, и этой драматической линии.
Так рушится драматический фундамент, и Гамлет, естественно, становится самым слабым звеном спектакля...
(Там же. Стр. 338-339)
Это уже похоже на АНТИТЕЗИС. А вот и СИНТЕЗ. Точнее – ПОПЫТКА СИНТЕЗА
► Центростремительная пьеса превратилась в центробежный спектакль. Постановка – перспектива разрозненных картин, многие из которых сделаны театром и Акимовым с увлекающей смелостью и яркой зрелищностью. Заслуга Акимова, что он хоть и погубил Гамлета, но вывел на свет божий бывшие в загоне образы от Клавдия, в котором Симонов с тонким искусством показал не настоящего, а «примазавшегося» короля, и Полония (Щукин) до Лаэрта (Шихматов) и Гильденштерна и Розенкранца, которые обычно только обслуживали Гамлета, сами оставаясь в тени...
Кроме идеи пьесы, есть идея спектакля, навеянная «Принцессой Турандот». Идея – разоблачение высокого штиля трагедии, издевка над вековой коленопреклоненной почтительностью перед «Гамлетом». Поэтому: невинная Офелия – великосветская потаскушка. Стремительный Лаэрт – галльский петушок. Лукавый Полоний – гороховый шут. Мрачный Гамлет – в ночной сорочке с кастрюлей и огромной морковью. Он же в самом патетическом месте наступает на шлейф королеве. Умирающий Полоний деловито заявляет: «зарезали». Король датский бегает в кальсонах. Пышный Эльсинор показан с заднего двора. Сумасшествие Гамлета – забава, простой «розыгрыш». И как символ этой пародии – трагическое представление актеров, превращенное в фарс.
(Там же. Стр. 339—340).
Для каждого из персонажей трагедии, на свой лад трактуемых и изображаемых режиссером, рецензент нашел какие-то добрые слова. Далее для невинной Офелии, превращенной в великосветскую потаскушку. Даже в этом гротескном превращении он сумел разглядеть какой-то смысл. И только для одного – главного персонажа трагедии – для Гамлета не нашлось у него ни единого доброго слова.
Впрочем, нет. Одно доброе слово даже для этого «перечеркнутого», вывернутого наизнанку и потому провалившегося Гамлета у него все-таки нашлось:
► Превосходна сцена выхода Гамлета под проникновенную траурную музыку Шостаковича, который, пожалуй, единственный в этом спектакле не ссорился с Шекспиром.
(Там же. Стр. 339).
Так оно, наверное, и было. Не стану же я, – не видевший этого спектакля, – спорить с тем, кто был в числе его зрителей.
Но одну поправку в эту тактичную реплику (тактичную, скорее, по отношению к Шостаковичу, чем к Акимову или Горюнову) я все-таки осмелюсь внести.
Был, был в этом спектакле еще один человек, не пожелавший ссориться с Шекспиром
Этим вторым (кроме Шостаковича) участником спектакля, умудрившимся не поссориться с Шекспиром, был Николай Робертович Эрдман.
Ему Акимов заказал для этого спектакля две интермедии. И Эрдман этот заказ реализовал с присущим ему мастерством. Я бы далее сказал – с блеском.
Первая интермедия являла собой диалог Гамлета с Розенкранцем о труппе бродячих актеров, которых Гамлет собирается пригласить, чтобы они разыграли перед королем Клавдием и его свитой сцену так называемой «Мышеловки».
Действие второй происходит на кладбище. Это – сцена-диалог двух могильщиков, которых Эрдман изобразил шутами. В отличие от первой она являет собой чистый дивертисмент, набор остроумных реприз, и в сюжет пьесы практически не включена.
Она тоже представляет для нашей темы некоторый интерес, но я остановлюсь только на первой. Главным образом потому, что в ней действует Гамлет, и тут нам особенно интересно будет проследить, КАКОГО Гамлета изобразил в этой своей интермедии Эрдман – искаженного до неузнаваемости акимовского или – настоящего, шекспировского:
► Р о з е н к р а н ц... и они едут сюда предложить вам услуги!
Г а м л е т. Актеры? Я люблю актеров. Герой, который изображает из себя короля, мне гораздо приятнее, чем король, изображающий из себя героя. Умный шут, играющий маленькую роль на сцене, не лучше ли глупого шута, играющего большую роль при дворе? Первый любовник в театре остается первым любовником до конца представления, даже если между одним актом и другим проходит десять лет... А что это за актеры?
Р о з е н кр а н ц. Те самые, которые вам так нравились. Здешняя городская труппа.
Г а м л е т. Как это случилось, что они странствуют? Ведь давать представления в одном месте выгоднее и для славы, и для кармана.
Р о з е н к р а н ц. Мне кажется, что это происходит от последних новшеств: раньше зритель приезжал в театр, теперь театр приезжает к зрителю.
Г а м л е т. Что же, они так же популярны, как в то время, когда я был в городе? Их представления посещаются так же охотно?
Р о з е н к р а н ц.О нет, принц, – много хуже.
Г а м л е т. Почему? Разве у них изменился репертуар?
Р о з е н к р а н ц. Нет, у них изменилась публика.
Г а м л е т. Что же, разве новая публика перестала понимать старых авторов?
Р о з е н к р а н ц. Нет, старые авторы перестали понимать новую публику.
Г а м л е т. Но разве в театре нет новых авторов?
Р о з е н к р а н ц. Есть.
Г а м л е т. Почему же они не пишут новых пьес?
Р о з е н к р а н ц. Потому что они предпочитают переделывать старые.
Г а м л е т. Чем вы это объясняете?
Р о з е н к р а н ц. Многие из них, вероятно, смущены проблемой творческого метода, споры о которой не прекращаются в Дании.
Г а м л е т. Споры о чем?
Р о з е н к р а н ц.О том, что является столбовой дорогой нашей датской литературы. Живой или неживой человек.
Г а м л е т. К какому же выводу пришли авторы?
Р о з е н к р а н ц. Они решили, что в настоящее время писать о живом человеке – это мертвое дело. Следовательно, нужно писать о неживом человеке, то есть о мертвом. О мертвом же принято либо хорошо говорить, либо не говорить ничего. А так как о том мертвом человеке, о котором они хотели говорить, ничего хорошего сказать нельзя, они и решили пока не говорить ничего.
Г а м л е т. Но есть все-таки новые пьесы, которые нравятся зрителям?
Р о з е н к р а н ц. Есть.
Г а м л е т. Почему же их не играют?
Р о з е н к р а н ц. Потому что они не нравятся критикам.
Г а м л е т. О каких критиках вы говорите?
Р о з е н к р а н ц. О тех, которые играют главную роль во время антракта.
Г а м л е т. И что же, они играют ее хорошо?
Р о з е н к р а н ц. Нет. Они играют свою роль под суфлера, в то время как вся публика уже знает эту роль наизусть.
Г а м л е т. Что же говорят критики?
Р о з е н к р а н ц. Они говорят всегда одно и то же.
Г а м л е т. Что же именно?
Р о з е н к р а н ц. Когда они видят героическую пьесу, они говорят, что этого еще недостаточно, а когда они видят сатирическую пьесу, они говорят, что это уже чересчур.
Г а м л е т. Но ведь в таком случае у авторов есть простой выход из положения.
Р о з е н к р а н ц. Какой?
Г а м л е т. Они должны делать наоборот: в сатирической пьесе говорить недостаточно, а в героической – чересчур.
Р о з е н к р а н ц. Вы совершенно правы, многие этим и занимаются.
Г а м л е т. Что же говорит критика?
Р о з е н к р а н ц. Она говорит, что этого еще чересчур недостаточно. А вот и актеры!
(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 186-187).
Каждая реплика этого диалога отражает жгучую злобу дня. Вот, например, Гамлет спрашивает Розенкранца, так же ли охотно люди теперь посещают театры, как раньше. – О нет, принц, – отвечает Розенкранц. – Много хуже.
► Г а м л е т. Почему? Разве у них изменился репертуар?
Р о з е н к р а н ц. Нет, у них изменилась публика.
Г а м л е т. Что же, разве новая публика перестала понимать старых авторов?
Р о з е н к р а н ц. Нет, старые авторы перестали понимать новую публику.
О том, как изменилась публика и почему старые авторы перестали ее понимать, Эрдман знал не как человек публики, а как человек театра. У него не было никаких иллюзий насчет того, какой публике должен будет он угодить своей новой пьесой. Более чем ясно мог он это себе представить по тому письму, которое получил от Вс.Э. Мейерхольда 19 марта 1928 года
► В.Э. МЕЙЕРХОЛЬД Н.Р. ЭРДМАНУ
РСФСР
НКП
Государственный театр
имени Вс. Мейерхольда
19 марта 1928
№ 968 Москва, Б. Садовая, 20.
Уважаемый Николай Робертович, мы получили от Коллегии Наркомпроса письмо с просьбой не позднее 1 апреля 1928 г. представить репертуарный план на сезон 1928—1929 г. в Главный Репертуарный Комитет, предварительно поставив этот план на утверждение Художественного совета нашего театра.
Просим Вас сообщить нам
1) можем ли мы рассчитывать на предоставление нам Вашей пьесы, над которой Вы, как нам известно, работаете в настоящее время;
2) когда приблизительно может быть эта пьеса зачитана Вами в нашем театре: сначала составу входящих в Художественный совет артистических сил театра, а потом всем членам Художественного совета (состав Художественного совета прилагается).
Директор театра
Народный артист республики (Вс. Мейерхольд).
Художественный совет Государственного театра имени Вс. Мейерхольда
Представители организаций
1. ВЦСПС – Евреинов
2. ЦК Металлистов – Лепсе
3. ЦК Рабис – Алексеев
4. МГСПС – Дулин
5. Московск. Губотдел металлистов
6. Московск. Губотдел совторгслужащих
7. ЦК ВЛКСМ – Ханин
8. МК ВЛКСМ – Гурвич
9. Коммунистическая Академия
10. Институт красной профессуры
11. Гос. Институт журналистики
12. КУТВ
13. КУНМЗ
14. М.Б. Пролетстуденчества
15. Прохоровская Трехгорная Мануфактура
16. Завод им. Авиахим № 1 (б. Дукс)
17. ПУР
18. ПУОКР
19. Политотдел ОСНАЗ ОГПУ
20. Отдельный стрелковый полк
21. МОДПИК
22. Союз драм, и муз. писателей (Ленинград)
23. Союз революционных драматургов
24. Ячейка ВКП(б) ГОСТИМ
25. Ячейка ВЛКСМ ГОСТИМ
26. Местком ГОСТИМ – Козиков
Персонально
1. Бухарин Н.И.
2. Ворошилов К.Е.
3. Луначарский А.В.
4. Яковлева В.Н.
5. Ходоровский И.И.
6. Угланов НА.
7. Микоян А.И.
8. Криницкий А.И.
9. Милютин В.П.
10. Свердлов В.М.
11. Сверчков Д.Ф.
12. Подвойский Н.И.
13. Керженцев П.М.
14. Сарабьянов В.П.
15. Попов-Дубовской В.С.
16. Гусман Б.Е.
17. Раскольников Ф.Ф.
18. Агранов
19. Гончарова
20. Гнесин М.Ф.
21. Беспалов
(И. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 270—271).
Виктор Борисович Шкловский однажды сказал, что увидеть на советском экране полноценную кинокомедию никогда не удастся, потому что невозможно представить себе кинодраматурга, которому удалось бы рассмешить восемнадцать утверждающих сценарий инстанций.
Тут инстанция вроде одна, общая. Но от этого ничуть не легче. Пожалуй, даже труднее.
С грехом пополам еще можно представить себе драматурга, которому удалось создать пьесу, понравившуюся таким разным людям, как Бухарин и Ворошилов, Угланов и Луначарский, Микоян и Агранов, Керженцев и Беспалов. Но мыслимое ли это дело – представить себе пьесу, которая пришлась бы по душе представителям ВЦСПС и ЦК металлистов, ЦК Рабис и МГСПС (Московского городского совета профессиональных союзов), Московского Губотдела металлистов, Московского Губотдела совторгслужащих, ЦК и МК ВЛКСМ, Комакадемии, Института красной профессуры, Государственного Института журналистики, КУТВ (Коммунистического университета трудящихся Востока), КУНМЗ (установить смысл этой аббревиатуры мне не удалось). Представители организаций Пролетстуденчества, Прохоровской Трехгорной мануфактуры, Завода имени Авиахима, ПуРа (Политического управления Реввоенсовета), ПуОКРа (Политического управления округа), Политотдела ОСНАЗа ГПУ, Отдельного стрелкового полка, МОДПИКа, Союза драматических и музыкальных писателей (Ленинград), Союза революционных драматургов, ячейки ВКП(б) ГОСТИМа, ячейки ВЛКСМ ГОСТИМа, Месткома ГОСТИМА...
Мудрено ли, что «старые авторы» перестали понимать эту «новую публику».
И тут у Гамлета возникает такой резонный вопрос:
► Г а м л е т. Но разве в театре нет новых авторов?
Р о з е н к р а н ц. Есть.
Г а м л е т. Почему же они не пишут новых пьес?
Р о з е н к р а н ц. Потому что они предпочитают переделывать старые.
Последняя реплика этого короткого диалога – сугубо автобиографическая. Отчасти даже пророческая: писанию новых пьес Эрдман окончательно предпочтет переписывание старых несколько позже. Но эта суровая необходимость в то время перед ним, как видно, уже маячила. Как и перед каждым талантливым современным драматургом.
► – Тетушка моя, Настасья Ивановна, – сказал Иван Васильевич. Приятная старушка посмотрела на меня ласково...
– Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?
– Леонтий Сергеевич, – отозвался Иван Васильевич, – пьесу мне принес.
– Чью пьесу? – спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.
– Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу!
– А зачем? – тревожно спросила Настасья Ивановна.
– Как зачем?.. Гм... гм...
– Разве уж и пьес не стало? – ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна. – Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть – в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?
Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил и сказал:
– Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!
Тут старушка встревожилась.
– Мы против властей не бунтуем, – сказала она.
(М. Булгаков. Записки покойника. (Театральный роман). М. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. М., 1990. Стр. 486-487).
Но и это – характеристика, так сказать, общего положения вещей, каких в эрдмановской интермедии тоже было немало.
Например, о критиках, которые «играют свою роль под суфлера, в то время как вся публика уже знает эту роль наизусть».
И вот это – о них же:
► Р о з е н к р а н ц. Они говорят всегда одно и то же.
Г а м л е т. Что же именно?
Р о з е н к р а н ц. Когда они видят героическую пьесу, они говорят, что этого еще недостаточно, а когда они видят сатирическую пьесу, они говорят, что это уже чересчур.
Но помимо этих общих убийственных сентенций, есть в этих гамлетовских и Розенкранцевых репризах и другие, более конкретные, нацеленные в определенную и хорошо известную тогдашнему зрителю мишень.
Например, вот эта:
► Р о з е н к р а н ц. Многие из них, вероятно, смущены проблемой творческого метода, споры о которой не прекращаются в Дании.
Г а м л е т. Споры о чем?
Р о з е н к р а н ц.О том, что является столбовой дорогой нашей датской литературы. Живой или неживой человек.
Споры о проблеме творческого метода шли в то время, разумеется, не в Дании. И вопрос о том, что является столбовой дорогой, относился не к датской, а к советской, точнее – пролетарской литературе.
Доклад Фадеева, который подразумевала эта реплика, так прямо и назывался: «СТОЛБОВАЯ ДОРОГА ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». (Л., Издательство «Прибой», 1929).
И главная проблема, обсуждавшаяся в том основополагающем фадеевском докладе, – «ЦЕНТР НАШИХ СПОРОВ», как обозначил ее докладчик в первом разделе своего доклада, – именовалась именно так: «ПРОБЛЕМА ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА»:
► Мой доклад ставит своей целью наметить в свете современных литературных споров те главнейшие, но пока что самые общие вехи, по которым, на наш взгляд, пройдет столбовая дорога пролетарской литературы...
Мне кажется не случайным, что центр споров, которые велись за истекший год, сосредоточился на той проблеме, которую принято называть проблемой «живого человека» в литературе...
Термин этот – «живой человек» – так часто употреблялся и кстати и некстати, и так сильно его заштамповали, что уже не верится, что действительно за этим самым термином может скрываться что-либо живое. Однако мы не будем сейчас заниматься изобретением нового термина, а посмотрим, что же, собственно, говорилось вокруг пресловутого «живого человека»... Говорилось чрезвычайно и излишне много... Очень много говорилось о «психоложестве». Появился на сцену даже «пассеизм»... И вот, когда пришлось разворошить всю эту шелуху, то оказалось, что наша постановка вопроса о показе живого человека в литературе была все-таки самой простой и самой понятной... Ибо наша постановка вопроса сводилась к тому, что мы находимся еще на такой низкой художественной ступени, что не научились показывать людей во плоти и крови, а показываем их схематически. А нужно показывать их так, чтобы читатель верил в то, что такие люди действительно существуют. Ю. Либединский в свое время совершенно правильно определял этот схематизм, который господствовал и еще далеко не изжит в нашей пролетарской литературе: «У нас люди давались так: вот комиссар такой-то. Ему надлежит обладать такими-то определенными чертами. Мы и давали ему такие-то черты и пускали в действие. Дальше – буржуа: ему надлежит обладать вот такими-то чертами. Интеллигент – то же самое: определенный трафарет – и идет в действие...»
Теоретики «Кузницы» на своем совещании говорили так: мол, вапповцы за показ живого человека вообще, а мы, мол, за классового человека. Но недалеко же ушли теоретики «Кузницы», если, имея уже лет по сорок от роду каждый и лет по пятнадцати работая в литературе, восемьдесят лет спустя после открытия Маркса, они продолжают твердить только эту истину.
Да, товарищи, наша постановка вопроса отнюдь не отрицает той элементарной истины, что мы должны показывать классовых, а не выдуманных людей.
Нигде у Маркса не говорится, что классовые люди – не живые люди, а манекены. Именно живые люди – классовые люди. Из этого вы, товарищи, видите, что наша постановка вопроса была все-таки самая простая, самая понятная, и она глубже всяких других проникла в сознание пролетарских писателей.
(А. Фадеев. За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М., 1957. Стр. 13—14).
Вот об этой, с позволения сказать, дискуссии и перебрасывались в эрдмановской интермедии своими сардоническими репликами Розенкранц и Гамлет:
► Г а м л е т. Споры о чем?
Р о з е н к р а н ц. О том, что является столбовой дорогой нашей датской литературы. Живой или неживой человек.
Г а м л е т. К какому же выводу пришли авторы?
Р о з е н к р а н ц. Они решили, что в настоящее время писать о живом человеке – это мертвое дело. Следовательно, нужно писать о неживом человеке, то есть о мертвом. О мертвом же принято либо хорошо говорить, либо не говорить ничего. А так как о том мертвом человеке, о котором они хотели говорить, ничего хорошего сказать нельзя, они и решили пока не говорить ничего.
Все это было чистейшей воды издевательством. По терминологии того времени – «контрреволюцией». (Так вскоре и будут официально квалифицированы шуточки Эрдмана, ничуть не более острые, чем эти.) Но своеобразие той эрдмановской интермедии состоит в том, что все эти жгуче злободневные остроты и репризы, всю эту, выражаясь тогдашним языком, «контрреволюцию» вполне мог нести и Гамлет. И не акимовский, вывернутый наизнанку, превращенный в шута горохового, а самый что ни на есть доподлинный, настоящий, шекспировский.
Именно это я и имел в виду, говоря, что Эрдман был единственным – если не считать Шостаковича – соавтором акимовского «Гамлета», который, выполнив назначенную ему в этом спектакле роль, умудрился при этом не поссориться с Шекспиром.
Но в таком случае получается странная вещь.
Получается, что текст, произносящийся настоящим, шекспировским Гамлетом, может восприниматься и даже квалифицироваться как «контрреволюционный». (В терминологии, утвердившейся несколько позже, – антисоветский.)
Возможно ли такое?
Еще как возможно!
Я даже могу подтвердить это одной невыдуманной историей.
Перед самой войной (мне было четырнадцать лет) я читал роман Фейхтвангера «Изгнание». Эпиграфом ко второй части этого романа был 66-й сонет Шекспира.
Так я прочел этот сонет впервые.
Позже я читал и перечитывал его много раз, в самых разных переводах – Маршака, Пастернака, Бенедиктова и разных других поэтов, старых и новых. Но самое сильное впечатление он произвел на меня именно тогда. Может быть, поэтому тот перевод (О. Румера) и сейчас мне кажется едва ли не лучшим:
Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы Добром.
Поразил меня тогда этот перевод не поэтическими своими достоинствами, а прямо-таки потрясающим совпадением всего того, о чем в нем говорилось, с окружающей меня реальностью. Вряд ли я так уж хорошо осознавал тогда всю полноту этого совпадения. Ведь то, что «над искусством произвол глумится», тогда меня еще мало волновало. И о целомудрии, которому «грозят позором», я тоже не задумывался. Но о том, «как топчется доверье чистых душ», кое-что уже знал. И строка о почестях, которые «мерзавцам воздают», не была для меня абстракцией: она сразу наполнилась живым и вполне конкретным смыслом.
Может быть, я сейчас и преувеличиваю степень моего тогдашнего понимания всех этих, как потом стали у нас говорить, аллюзий. Но как бы то ни было, стихи эти меня тогда поразили до глубины души. Поразили настолько, что я даже переписал их в какую-то свою тетрадку.
Сорок лет спустя я узнал, что точно так же они тогда поразили еще одного московского мальчика, моего сверстника – Гену Файбусовича. (Теперь он известный писатель – Борис Хазанов.) Гена прочел этот шекспировский сонет в той же книге Фейхтвангера. И тоже был потрясен совпадением нарисованной в нем картины с окружающей его реальностью. И тоже переписал его в какую-то свою тетрадку. Но у меня дело на том и кончилось. А в судьбе Гены этот его поступок сыграл впоследствии весьма важную роль.
Когда несколько лет спустя Гену арестовали, в его бумагах – при обыске – нашли и этот сонет. И в числе прочих изъятых документов инкриминировали его арестованному как «создание и хранение документов антисоветского содержания».
Рассказывая мне об этом, Гена даже припомнил такую выразительную подробность.
Во время одного из допросов в кабинет допрашивающего его следователя заглянул какой-то более высокий чин. Небрежно проглядел Генино дело. Взгляд его задержался на переписанном в Гениной тетрадке шекспировском сонете. Прочитав его, он грозно взглянул на подследственного и произнес:
– Хорош!
Следователь, ведущий дело, угодливо поддакнул. Да, мол, что говорить! Хорош голубчик! Из молодых, да ранний. И Гена получил свою «десятку».
Когда спустя много лет он рассказал мне об этом, я, естественно, посмеялся над тупостью и невежеством советских следователей, принявших стихи, написанные великим англичанином четыреста лет тому назад, за сочинение московского школьника.
Но Гена пожал плечами и сказал:
– В сущности, они были правы.
Да, они безусловно были правы. И Эрдману не надо было совершать над шекспировским Гамлетом никакого насилия, чтобы вложить в его уста все эти его «контрреволюционные» реплики. Ведь все факты и обстоятельства, о которых там шла речь, служили лишним, дополнительным подтверждением старой истины, давно уже открывшейся Гамлету и сформулированной им: «Распалась связь времен». Или в другом, пожалуй, более удачном переводе: «Век вывихнул сустав». С тем разве что добавлением, что на этот раз век вывихнул сустав в еще более уродливой и болезненной форме, чем это случилось во времена Шекспира, – о чем с присущей ей исчерпывающей ясностью и внятностью сказала Ахматова:
Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать,
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!
Я так подробно остановился на этой маленькой – к тому же и явно заказной – интермедии Эрдмана к акимовскому Гамлету, потому что в ней особенно ярко проявилась едва ли не главная особенность его дарования.
Художественный образ по самой природе своей многозначен. Один и тот же персонаж может предстать перед нами на сцене не то что в разном, но даже в полярно противоположном качестве. Тому в истории мы тьму примеров сыщем. Достаточно вспомнить горьковского Луку, которого два великих артиста (к тому же родные братья) Москвин и Тарханов играли не просто по-разному, но с разным, полярно противоположным знаком.
Все это трюизмы и общие места.
Но эта многозначность имеет некий предел. И провал акимовского «Гамлета» продемонстрировал это как нельзя более ясно.
Режиссерскому насилию Акимова поддались все персонажи трагедии. И некоторые из них (лукавый царедворец Полоний, «галльский петушок» Лаэрт и даже ставшая «светской потаскушкой» Офелия), по мнению рецензента, от этого даже выиграли, обретя новые, живые краски. Проиграл (собственно, провалился) только Гамлет.
Случилось это потому, что Гамлета нельзя сыграть плоско.
И именно это – при всей несопоставимости художественной основы пьесы – случилось и с эрдмановским «Самоубийцей».
Выяснилось, что и его невозможно поставить и сыграть плоско, как это обещал Сталину Станиславский.
* * *
Вот как он объяснял вождю свое желание во что бы то ни стало поставить эту пьесу на сцене руководимого им театра:
► ...Художественный театр глубоко заинтересован пьесой Эрдмана «Самоубийца», в которой театр видит одно из значительнейших произведений нашей эпохи. На наш взгляд, Николаю Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны.
Прием, которым автор показал живых людей мещанства и их уродство, представляет подлинную новизну, которая, однако, вполне соответствует русскому реализму в ее лучших представителях, как Гоголь, Щедрин, и близок традициям нашего театра.
(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 283).
Объясняя свое желание поставить эту пьесу Эрдмана стремлением «вскрыть разнообразные корни мещанства, которое противится строительству страны», Константин Сергеевич слегка лукавил. На самом деле пьеса пленила его совсем другими своими качествами.
28 марта 1931 года ПА. Марков писал Вл.И. Немировичу-Данченко:
► Насчет «Самоубийцы» открылись новые возможности, т. к. Алексей Максимович имеет предварительную договоренность о разрешении МХАТу (и только МХАТу) репетировать пьесу. Нужно только ждать ответа на письмо К. С., которому пьеса очень понравилась и который считает, что она близка к гениальности.
(И. Виноградская. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись, т. 4. Стр. 255).
Вряд ли Станиславский считал, что пьеса Эрдмана «близка к гениальности», потому что она дает возможность «вскрыть разнообразные корни мещанства, которое противится строительству страны».
Надо полагать, он видел в ней и какие-то другие достоинства.
В другой раз, уже не в чьей-то передаче, а собственными своими словами он высказался о ней с еще большей определенностью:
► Я стоял за нее ради спасения гениального произведения, ради поддержания большого писателя.
(Из письма К. Станиславского В. Сахновскому. 2 сентября 1934 г. Цит. по: И. Виноградская. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись, т. 4. Стр. 471).
Убедить Сталина, что постановка «Самоубийцы» на сцене МХАТа поможет «вскрыть корни мещанства, которое противится строительству страны», видимо, казалось Станиславскому единственной возможностью СПАСТИ гениальное произведение, поддержать большого писателя.
Но ничего хорошего выйти из этого, разумеется, не могло.
Прежде всего, потому что ему самому это было не под силу.
Из числа «товарищей, знающих художественное дело», кто первым ознакомился с пьесой Эрдмана «Самоубийца» и дал Сталину о ней свое заключение, был Александр Иванович Стецкий – в то время заведующий Агитпропом ЦК ВКП(б). (Впоследствии – в 1938-м – конечно, расстрелянный.)
Заключение это по тем временам было довольно либеральным:
► Тов. Сталин,
пьеса «Самоубийца» Эрдмана сделана талантливо и остро. Но она – искусственна и двусмысленна.
Любой режиссер может ее целиком повернуть против нас. Поэтому эту пьесу, ее постановку можно разрешить в каждом отдельном случае в зависимости от того, какой театр и какой режиссер ее ставит.
С коммунистическим прив[етом],
А. Стецкий
(Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917—1956. Документы. М., 2005. Стр. 207).
Заключение это было не только либеральным, но и довольно-таки проницательным. Тут ведь и в самом деле много зависело от того, какой режиссер возьмется ставить спектакль. Вполне можно представить себе постановщика, который увидел бы в персонажах пьесы жалких, пустых, никчемных людей, – как говорилось в старину, «небокоптителей», – и искренно и даже талантливо разоблачил их.
Но Станиславский на эту роль решительно не годился.
По главному свойству своего художественного дарования он всегда стремился знать о роли гораздо больше, чем она в себе вмещает. И этому неизменно учил своих актеров.
Актер, исполняющий у него даже самую крохотную, эпизодическую роль, должен был знать о своем персонаже ВСЁ. Во всяком случае, гораздо больше, чем ему о нем сообщил автор.








