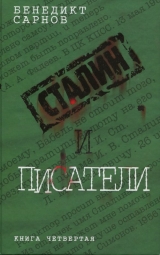
Текст книги "Сталин и писатели Книга четвертая"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 58 страниц)
Даже безоглядно поверив врученным ему документам и твердо зная, кто из краснодонцев был героем, а кто предателем, в жестких границах этого знания он был свободен. Но он не воспользовался этой свободой.
Ну а что касается первого его романа, то в работе над ним он был уж совсем свободен.
Но даже и там он этой свободой не воспользовался. Мечик, которому он заранее определил роль предателя, на протяжении всего романа не совершает ни одного поступка, который вышел бы за рамки этой назначенной ему роли. Образ этого своего героя (антигероя) он выстраивает по той же колодке, по которой в «Молодой гвардии» выстроен образ Выриковой.
Ну а уж о том, чтобы этот его антигерой вдруг, как пушкинская Татьяна, «удрал штуку» и хоть на мгновенье вышел из авторской воли, не может быть даже и речи. И герои, и антигерои у Фадеева ходят по струнке. Идут не своими, ими самими пролагаемыми тропками, а послушно катят по рельсам, которые проложил для них автор.
Тем же способом «подгонки» под заранее известный ответ, каким в «Разгроме» был вылеплен Мечик, в «Молодой гвардии» вылеплена, – а лучше сказать сконструирована – фигура главного антигероя этого фадеевского романа Евгения Стаховича.
При всем сходстве – и даже тождестве – построения образа Выриковой в «Молодой гвардии» с построением образа Мечика в «Разгроме», между этими двумя персонажами нет ни внешней (портретной), ни внутренней (психологической) близости. Иное дело Стахович.
Портретно Стахович тоже не похож на Мечика. Да и не только портретно. Слишком удалены они друг от друга во времени. И обстоятельства, в которых с такой определенностью проявился характер Стаховича, – совсем не те, в каких очутился и проявил себя Мечик. Но генетическая близость этих двух, как будто столь разных персонажей не в том, что оба оказались предателями, а в том, что и мотивацияпредательства, и способ ее выражения в обоих этих случаях – одни и те же.
* * *
Вот как Стахович впервые появляется на страницах романа:
► Среди партизан, оборонявших вершину балки, находился один краснодонский парень, комсомолец Евгений Стахович.
До прихода немцев он учился в Ворошиловграде на курсах командиров ПВХО. Он выделялся среди партизан своим развитием, сдержанными манерами и очень рано сказывающимися навыками общественного работника... И вот слева от себя Иван Федорович увидел его бледное лицо и мокрые растрепавшиеся светлые волосы, которые в другое время небрежными пышными волнами покоились на его горделиво вскинутой голове. Парень сильно нервничал, но из самолюбия не отползал в глубь балки...
(Там же. Стр. 239).
Стахович еще не успел ничего совершить – ни плохого, ни хорошего, – но легкая тень подозрения на него уже брошена. Сразу возникает некоторое сомнение в бойцовской полноценности этого самолюбивого и сильно нервничающего парня.
И сомнение это тут же подтверждается:
► ...начальник штаба отправил большую часть партизан на сборный пункт, в ложбину, а сам во главе двенадцати человек остался прикрывать отход. Стаховичу было страшно здесь и очень хотелось уйти вместе с другими, но уйти неловко было, и он, пользуясь тем, что никто не следит за ним, залег в кусты, уткнувшись лицом в землю и подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши.
(Там же).
И с тою же, сразу возникшей неприязнью, с какой Морозка глядит на Мечика, смотрят на Стаховича и так же настороженно, недоверчиво о нем говорят только что познакомившиеся с ним будущие молодогвардейцы. И так же сразу выясняется, что Стахович им – чужой.Точь-в-точь, как Мечик партизанам, в отряде которых он оказался:
► Стахович очень изменился с той поры, как Уля видела его, – возмужал, его бледное тонкое лицо самолюбивого, даже надменного выражения стало как-то значительнее. Он говорил, легко обращаясь с такими книжными словами, как «логика», «объективно», «проанализируем», говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову с свободно закинутыми назад светлыми волосами, выложив на стол длинные худые руки...
– У первомайцев найдутся смелые, преданные ребята? – вдруг спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей в глаза с покровительственным выражением...
Туркенич и Сережка молчали. Уля чувствовала, что Стахович подавляет всех своей значительностью, самоуверенностью и этими книжными словами, с которыми он так легко обращается...
Любка подсела к Уле...
– Тебе Стахович нравится? – на ухо спросила ее Любка. Уля пожала плечами.
– Знаешь, уж очень себя показывает... Олег в это время сказал:
– За ребятами дело не станет, смелые ребята всегда найдутся, а все дело в организации... Ведь мы же не организация... Вот собрались и разговариваем!.. Нет, поезжай-ка, Люба, дружочек, мы будем ждать. Не просто ждать, а выберем командира, подучимся!..
– Несерьезно все это, – не повышая голоса, сказал Стахович, и самолюбивая складка его тонких губ явственно обозначилась. – Нет, мы в партизанском отряде не так действовали. Прошу прощения, а я буду действовать по-своему!
(Там же. Стр. 274-275).
Слабый, растерянный, жалкий Мечик не то что не похож на высокомерного, уверенного в себе Стаховича, но даже как будто являет полную ему противоположность. Но наедине с собой оба они думают, чувствуют, а главное, поступают – одинаково.
► Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло не более получаса, как отшуршали в траве неспешные шаги разводящего, но Мечику казалось, что он стоит уже очень долго. Он был наедине со своими мыслями в большом враждебном мире, где все шевелилось, медленно жило чужой, сторожкой и хищной жизнью.
В сущности, все это время его занимала только одна мысль, которая неизвестно когда и откуда родилась в нем, но теперь он неизменно возвращался к ней, о чем бы ни думал. Он знал, что никому не скажет об этой мысли, знал, что мысль эта чем-то плоха, очень постыдна, но он также знал, что теперь уже не расстанется с ней – всеми силами постарается выполнить ее, потому что это было последнее и единственное, что ему оставалось.
Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или иным путем, но как можно скорее уйти из отряда
(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. М., 1979. Стр. 114).
То, о чем Мечик только думает, Стахович осуществляет:
► ... пользуясь тем, что никто не следит за ним, залег в кусты, уткнувшись лицом в землю и подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши.
В какие-то мгновения не столь оглушающего сосредоточения огня можно было слышать резкие выкрики немецкой команды. Отдельные группы немцев уже вклинились в лес, где-то со стороны Макарова Яра.
– Пора, хлопцы, – вдруг сказал начальник штаба. – Айда, бегом!..
Партизаны разом прекратили огонь и бросились за командиром. Несмотря на то, что неприятель не только не убавил огня, а все усиливал его, партизанам, бежавшим по лесу, казалось, что наступила абсолютная тишина. Они бежали что было силы и слышали дыхание друг друга. Но вот в ложбине они увидели скрытно залегшие одна возле другой темные фигуры своих товарищей. И, пав на землю, уже ползком примкнули к ним.
– А, дай вам боже! – одобрительно сказал Иван Федорович, стоявший у старого граба – Стахович тут?
– Тут, – не подумав, отвечал начальник штаба. Партизаны переглянулись и не обнаружили Стаховича
– Стахович! – тихо позвал начальник штаба, вглядываясь в лица партизан в ложбине. Но Стаховича не было.
(А. Фадеев. Молодая гвардия. Стр. 239-240).
И объясняют они оба мотивы – Мечик своих тайных дезертирских мыслей и намерений, Стахович своего дезертирского поведения – одинаково. Не трусостью, а соображениями если и не высокими, то, во всяком случае, понятными и простительными.
Мечик:
► – Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?.. – начал Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал – Вы только не подумайте обо мне плохо и вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь, – я буду с вами совсем откровенным...
«Сейчас я скажу ему все», – подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все скажет, не зная, хорошо ли это или плохо.
– Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан, и будет лучше, если вы меня отправите... Нет, вы не подумайте, что я боюсь или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю.
(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. Стр. 114).
Стахович:
► – Я, когда лежал в кустах, я подумал они идут на прорыв, чтобы спастись, и большая часть, если не все, погибнут, и я, может, погибну вместе с ними, а я могу спастись и быть еще полезен... Это я тогда так подумал.. Я теперь, конечно, понимаю, что это была лазейка. Огонь был такой... очень страшно было, – наивно сказал Стахович. – Но все-таки я не считаю, что совершил такое уж большое преступление... Уже стемнело, и я подумал: плаваю я хорошо, одного меня немцы могут и не заметить... Когда все убежали, я еще полежал немного, огонь здесь прекратился, потом начался в другом месте, очень сильный. Я подумал пора, и поплыл на спине, один нос наружу, – плаваю я хорошо, – сначала до середины, а потом по течению. Вот как я спасся!.. Я подумал раз я плаваю хорошо, я это использую. И поплыл себе на спине. Вот как я спасся!.. В конце концов, я ж не просто шкуру спасал, я же хотел и хочу бороться с немцами...
(А. Фадеев. Молодая гвардия. Стр. 323).
Уверяя Левинсона, что хотел бы уйти из отряда не потому, что боится погибнуть, а только лишь потому, что всем – и ему в том числе – ясно, что толку от него тут немного, – Мечик не лжет. Он и сам верит в это.
И Стахович тоже как будто не лжет, не выворачивается, уверяя, что сбежал из отряда не потому, что «шкуру спасал», а потому, что хотел бороться с немцами.
Но истинную мотивацию поведения этих своих героев знает – и сообщает нам – автор.
► Стахович, как все молодые люди его складки, у которых основная двигательная пружина в жизни – самолюбие, мог быть более или менее стоек, мог даже совершить истерически геройский поступок на глазах у людей, особенно людей, ему близких или обладающих моральным весом. Но при встрече с опасностью или с трудностью один на один он был трус.
Он потерял себя уже в тот момент, как его арестовали. Но он был умен тем изворотливым умом, который мгновенно находит десятки и сотни моральных оправданий, чтобы облегчить свое положение...
Жалкий, он не знал, что, выдав Тюленина, он вверг себя в пучину еще более страшных мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны сломить его до конца именно теперь, когда он проявил слабость.
Его мучили и отливали водой, и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик человека, он взмолился: он не заслужил такой муки, он был только исполнителем, были люди, которые приказывали ему, пусть они и отвечают! И он выдал штаб «Молодой гвардии» вместе с связными.
(Там же. Стр. 418).
Такова же в основе своей и психологическая подоплека предательства Мечика. После того как случилось то, что случилось, он уже не тешит себя самообманом. Вернее, автор уже окончательно отбрасывает все мнимо сложные мотивы его поведения, оставляя только один – самый простой, к которому, как он старается это изобразить, в конечном счете все и сводится:
► ...Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал... Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле... «Что я наделал... о-о-о... что я наделал, – повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства... – Что я наделал, как мог я это сделать, – я, такой хороший и честный и никому не желавший зла, – о-о-о... как мог я это сделать!»
Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка. И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе.
Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя – свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки – даже самые отвратительные из них. И он с вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман...
«Я не хочу больше переносить это», – подумал Мечик с неожиданной прямотой и трезвостью, и ему стало очень жалко самого себя. «Я не в состоянии больше вынести это, я не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью», – подумал он снова, чтобы еще сильней разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость.
Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке... Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него...
«А, не все ли равно?» – вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований.
(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. М., 1979. Стр. 156-157).
Как и Мечик, Стахович – человек «с гнильцой». И как у Мечика, эта его «гнильца» имеет социальные корни.
Мечик сразу, с первого своего появления на страницах романа обозначен там как инородное тело среди партизан. Он изначально им чужой.Чужой социально (гнилой интеллигент) и политически (не большевик, а эсер-максималист).
О Стаховиче ничего такого вроде не скажешь. Социально он отнюдь «не чужой» в среде комсомольцев-подпольщиков. Фадеев даже специально это оговаривает:
► Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он не был и карьеристом, ищущим личной выгоды. А он был из породы молодых людей, с детских лет приближенных к большим людям и испорченных некоторыми внешними проявлениями их власти в такое время своей жизни, когда он еще не мог понимать истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера.
Способный мальчик, которому все давалось легко, он был еще на школьной скамье замечен большими людьми в городе, замечен потому, что его братья, коммунисты, тоже были большие люди. С детства вращаясь среди этих людей, привыкнув в среде своих сверстников говорить об этих людях, как о равных себе, поверхностно начитанный, умеющий легко выражать устно и письменно – не свои мысли, которых он еще не сумел выработать, а чужие, которые он часто слышал, он, еще ничего не сделав в жизни, считался среди работников районного комитета комсомола «активистом». А рядовые комсомольцы, лично не знавшие его, но видевшие его на всех собраниях только в президиуме или на ораторской трибуне, привыкли считать его не то районным, не то областным работником.
Не понимая истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался, он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и привык считать, что искусство власти состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей.
Он перенимал у этих людей их манеру насмешливо-покровительственного обращения друг с другом, их грубоватую прямоту и независимость суждений, не понимая, какая большая и трудная жизнь стоит за этой манерой. И вместо живого, непосредственного выражения чувств, так свойственного юности, он сам был всегда сдержан, говорил ровным, тихим голосом, особенно если приходилось говорить по телефону с незнакомым человеком, и вообще умел в отношениях с товарищами подчеркнуть свое превосходство.
Так с детских лет он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития.
Почему, в самом деле, он должен был погибнуть, как другие, а не спастись, как Иван Федорович?..
(Там же. Стр. 323—324).
Вот он – социальный генезиспредательства Стаховича. Имя этой социальной среды, которая его сформировала, – номенклатура.
Слово это Фадееву наверняка было знакомо. Но он, конечно, не вкладывал в него тот смысл, какой вкладываем в него сегодня мы, давно уже прочитавшие книгу Михаила Восленского – «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» (Overseas Publications Interchange Ltd/ London. 1990), а еще раньше – книгу Милована Джиласа «Новый класс». Но кое-что про этот «новый класс» Фадеев уже понимал (тем более что и сам к нему принадлежал). И следы этого понимания довольно ясно проглядывают в только что прочитанном нами тексте:
► ...он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и привык считать, что искусство власти состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей.
При этом, конечно, предполагается, что все это – только внешняя сторона явления, за которой юный Стахович – отчасти по недомыслию, отчасти в силу своей испорченности – не видит
► ...истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался... Истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера...
Но все эти извилистые оговорки не меняют сути дела. Суть же эта состоит в том, что Стахович так же классово чуждОлегу Кошевому, Уле Громовой, Любке Шевцовой и Сережке Тюленину, как Мечик – Морозке, Метелице и другим партизанам, среди которых волею обстоятельств он оказался.
К такому «ответу» Фадеев пришел самостоятельно. Он искренне считал его правильным, а потому не видел ничего зазорного в том, чтобы подгонять под этот, заранее известный ему ответ всё «решение задачи».
Так же обстояло дело и с другим, главным «ответом».
Из документов, которые были ему вручены комиссией ЦК ВЛКСМ, с несомненностью следовало, что никто юными подпольщиками не руководил. Коммунисты, оставленные в Краснодоне для подпольной работы, сразу же провалились. Что поделаешь! Так случилось. Против правды не попрешь.
Этот ответ он искренне считал правильным. Но оказалось, что правильным надлежит считать совсем другой ответ.
Конечно, он был этим слегка обескуражен. Но и сомневаться в правильности этого нового ответа, к которому ему теперь предстояло подгонять свой роман, он не мог. Известно ведь, КЕМ этот новый ответ был ему подсказан.
► Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы – о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»
(И. Эренбург. Люди, годы., жизнь. Т. 3. М., 1990. Стр. 125).
Механизм подгонки решения к заранее известному ответу, как мы теперь уже знаем, был усвоен и разработан им давно. Так не все ли, в конце концов, равно – тот или этот ответ считать правильным? Сталину виднее, он лучше знает.
Именно это имел я в виду, говоря, что Фадеев не врал, уверяя Д. Бузина, что за переделку романа он взялся охотно.
Не следует, однако, думать, что эта переделка далась ему легко и что роману при этом не был нанесен весьма существенный урон.
* * *
Первый вариант «Молодой гвардии» своим появлением на свет тоже был обязан Сталину. На этот раз, правда, не прямо, а косвенно. В отличие от второго варианта он не был Фадееву Сталиным заказан, но именно Сталин создал ситуацию, в которой этот фадеевский роман только и мог быть написан.
ЦК ВЛКСМ предложил Фадееву написать книгу о краснодонском комсомольском подполье в августе 1943 года. Фадеев принял это предложение, поехал в Краснодон, к материалам, собранным специальной комиссией ЦК ВЛКСМ, добавил и свои собственные и вернулся в Москву, пребывая в полной уверенности, что в сравнительно короткий срок, без отрыва от своих главных обязанностей выполнит этот «социальный заказ комсомолии».
Но он никогда не выполнил бы его – во всяком случае, в той романной форме и том объеме, в каком он это осуществил, – если бы не то, что в ноябре того же года Сталин, гневно отреагировав на какой-то очередной донос, вдруг не отправил его в отставку. Это были те самые два года, на которые Фадеев был отстранен от руководства Союзом писателей и заменен Н. Тихоновым. Именно за эти два года он и создал свой роман.
Десять лет спустя он вспоминал об этой своей отставке как о милостиво дарованном ему благодеянии.
► Если бы в 1943 году я не был освобожден от всего, не было бы на свете романа «Молодая гвардия». Он смог появиться на свет, этот роман, только потому, что мне дали возможность отдать роману всю мою творческую душу.
(А. Фадеев. Письма. М., 1973. Стр. 426).
Но осенью 43-го он воспринял эту свою отставку как тяжелейший удар и поначалу пребывал в глубочайшей депрессии, от которой его спасла, из которой вытащила вошедшая к тому времени уже в новую фазу работа над романом.
► ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА М.И. АЛИГЕР
21 ноября 1944 г.
Роман, который и вообще-то в последний месяц, в силу обострившегося душевного противоречия и полной невозможности для меня – в силу характера моего – жить в душевном противоречии, почти не двигался, – роман теперь и вовсе отодвинулся куда-то...
И я поступил так, как только и мог поступить в этих обстоятельствах: я сел писать. Дело в том, что, как бы ни складывалась моя жизнь, каким бы я сам ни выглядел перед Богом и людьми, это самое настоящее, большое, правдивое, сильное, глубоко сердечное, что я могу делать для людей. И я должен был преступить через все и прежде всего делать это, чтобы это не погибло в душе моей и для меня, и для людей. Я знал и знаю это теперь, что, может быть, я вообще должен был жить иначе, чем складывалась моя жизнь до сих пор, что, очевидно, в конкретной ситуации я тогда мог и должен был еще что-то сделать и сказать.... но я лично только запутаюсь душой и погибну в том противоречии, в каком я живу, если я не преступлю через него и не начну писать. И я стал писать. И что бы там ни думали обо мне люди и что бы я, действительно, ни сделал в своей жизни дурного, я счастлив, что я нашел в себе силы поступить именно так...
Моя работа, общественное и моральное значение которой я теперь сам не имею права недооценивать, эта моя работа по многу часов в день (в известной отрешенности от семейных проблем и обстоятельств), наедине с природой и Господом Богом, прежде всего сказала мне, что в моей жизни я всегда и главным образом был виноват перед ней, перед работой. Всю жизнь, в силу некоторых особенностей характера, решительно всегда, когда надо было выбирать между работой и эфемерным общественным долгом, вроде многолетнего бесплодного «руководства» Союзом писателей, между работой и той или иной семейной или дружеской обязанностью, между работой и душевным увлечением, между работой и суетой жизни, – всегда, всю жизнь получалось так, что работа отступала у меня на второй план. Я прожил более чем сорок лет в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту, в том неуважении к нему, которое так осудил Чехов в известном письме к своему брату.
Как ни странно это, но от сознания своих слабостей, недостатков, дурных поступков я часто чувствовал и чувствую себя виноватым перед Богом и людьми, но я никогда не чувствовал самой главной и самой большой не только в личном, но в общественном, даже государственном смысле своей вины – вины перед своим талантом, который не мне принадлежит.
(А. Фадеев. Письма. М., 1967. Стр. 192-193).
Из этого искреннего признания очень в то время близкому ему человеку ясно видно, что работа над «Молодой гвардией» была для него не просто очередным государственным заданием, не «социальным заказом комсомолии», а делом глубоко личным; попыткой вернуться к себе, обрести себя истинного, утерянного и вот – вновь обретаемого.
Это вдруг проснувшееся в нем сознание, что он «не на той улице живет», не тем занимается, для чего был «создан Богом», губит – быть может, даже уже загубил – свое дарование, помимо всего прочего, возникло у него еще и потому, что сюжет романа, в работу над которым он в то время уже втянулся, был ему внутренне близок.
Это был ЕГО сюжет. Вернее, ЕГО ТЕМА.
Сюжет писателю может быть подсказан, подарен. Но ТЕМУ ни подсказать, ни подарить нельзя. У каждого писателя она – своя. Иначе он не писатель.
Гоголь умолял Пушкина:
► Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию... Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта.
(Н. Гоголь. Полное собрание сочинений. Т. 10. Письма. 1820-1835. М., 1940. Стр. 375).
Подарив ему сюжет «Мертвых душ» (не в ответ на это письмо, а раньше), Пушкин не сомневался, что из этого подаренного ему анекдота у Гоголя выйдет что-нибудь «смешнее чорта». Похоже, что не сомневался в этом и сам Гоголь:
► Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон.
(Из того же письма).
Но вышло иначе.
Первые главы поэмы Гоголь еще успел прочитать Пушкину, и тот, совсем было уже настроившись на юмористический лад и приготовившись смеяться до упаду,
► ...начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, и наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!»
(Н. Гоголь. Полное собрание сочинений. Т. 6. Мертвые души. М., 1951. Стр. 900).
Сюжет Гоголю подарил он. Но ТЕМА «Мертвых душ» была ГОГОЛЕВСКАЯ, а не пушкинская. И если бы тот же пушкинский анекдот использовал какой-нибудь другой писатель – положим, Достоевский, – книга вышла бы совсем другая.
Фадеев, конечно, не Гоголь, а Комиссия ЦК ВЛКСМ, подарившая ему сюжет «Молодой гвардии», – не Пушкин. Но и тут тоже, если бы над этим сюжетом стал работать какой-нибудь другой писатель – Василий Гроссман, или Платонов, или хотя бы даже Казакевич, – книга вышла бы совсем другая.
Сюжет «Молодой гвардии» Фадееву был подсказан. Можно даже сказать – заказан. Но тема этого романа была – ЕГО, ФАДЕЕВСКАЯ.
Она была Фадееву не просто внутренне близка. В каком-то смысле она была для него даже автобиографична. Недаром в разговоре с Эренбургом он сослался на свое «преклонение перед партизанщиной». Она была ему близка именно тем, что вызвало осуждение Сталина. Тем, что краснодонские комсомольцы действовали САМИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО, по велению души, а не по приказу какого-нибудь подпольного обкома или райкома.
Именно так, наверно, это было и с ним самим в юности, когда он партизанил на Дальнем Востоке. И лет тогда ему было столько же, сколько его героям-краснодонцам.
Милован Джилас, рассказывая об одной из первых своих встреч со Сталиным (это было, когда он еще оставался верующим ортодоксальным коммунистом), вспоминает, что с особым интересом он отнесся тогда к многочисленным высказываниям вождя на литературные темы: о Горьком, о Шолохове, о Симонове. По поводу некоторых его замечаний и соображений он даже осмелился вступить с ним в осторожный спор. Упомянул он в этих своих воспоминаниях и Фадеева. Но только затем, чтобы подчеркнуть, что на эту тему высказываться ему не захотелось:
► Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которого тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства – схематизм, отсутствие глубины, банальность.
(В. Невежин. Застольные речи Сталина. М.-СПб., 2003. Стр. 496).
С этой нелицеприятной – но и непредвзятой – оценкой фадеевского романа нельзя не согласиться.
Художественная его уязвимость особенно бросается в глаза в прямой речи его персонажей, в любом из их диалогов и монологов. В них нет ни единой черты какой бы то ни было речевой характерности или индивидуальности. Это речь не живых людей, а манекенов, изъясняющихся безликими, готовыми, штампованными, газетными словесными оборотами:
► Олег стоял перед фельдкомендантом Клером, стоял с перебитыми руками, с запавшими щеками, отчего резче обозначились его скулы. Виски у него были совершенно седые. Но большие глаза его из-под золотистых ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда, выражением.
Перед Клером, закосневшим в убийствах, потому что он ничего другого не умел делать в жизни, стоял не шестнадцатилетний мальчик, а молодой народный вожак, который не только ясно видел свой путь в жизни, а видел путь своего народа среди других и путь всего человечества. И он говорил:
– Страшны не вы, – вы уже разбиты и обречены, – страшно то, что вас породило и порождает после того, как люди так давно существуют на земле и достигли таких ясных вершин в области мысли и труда.. Язва людоедства разъедает души уже не только отдельных людей, а целых народов, она угрожает существованию человечества... Эта язва людоедства, более страшная, чем чума, будет разъедать мир до тех пор, пока благами мира будут пользоваться не те люди, которые их создают, пока неограниченной властью над людьми будут пользоваться выродки человечества, сосредоточившие в своих руках все богатства мира.. Напрасно эти господа в белоснежном белье надеются уйти от суда истории. Забрызганные кровью, они уже стоят перед его грозными очами... Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества за справедливый, честный строй жизни на земле. Я шлю мой последний привет всем, кто борется за него!..
(А. Фадеев. Молодая гвардия. Стр. 464-465).
Фадеев не мог не понимать, не чувствовать, как искусственна, бесконечно далека от правдоподобия эта выспренняя предсмертная речь измученного пытками шестнадцатилетнего подростка с перебитыми руками и седыми висками. Но тут не просто очевидная литературная беспомощность маститого автора. Скорее – сознательная установка на патетику, на театральность, принципиально исключающую всякую реалистическую, бытовую достоверность.
Писателя, как мы знаем, надо судить судом, им самим над собою признанным. Но тут, каким судом ни суди, результат очевиден. Сознательная установка на театральную патетику обернулась установкой на антихудожественность.








