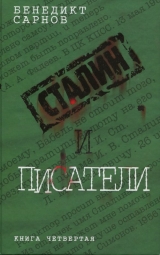
Текст книги "Сталин и писатели Книга четвертая"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 58 страниц)
И тем не менее...
Есть все-таки в этом первом варианте фадеевского романа и нечто другое. Все-таки бьется в нем какой-то живой нерв. И подкупает – не может не подкупить! – еще одна, начисто исчезнувшая во втором варианте, его особенность: установка на правду.
* * *
Эта установка на правду – на то, как было в жизни,– особенно бросается в глаза в сохранившихся черновых набросках Фадеева к его роману:
► В то время, когда Матвей Шульга, руководясь своими бумажками, не смог накануне найти пристанище у Ивана Гнатенко, а попросту Кондратовича... и теперь сидел на квартире Игната Фомина, другого из указанных ему по этой бумажке хозяина конспиративной квартиры, человека, которого он не знал и который внушал ему тайное подозрение, – Сережка Тюленин, и Витька, и старая сиделка Луша, и другие такие же маленькие и незаметные простые люди в течение нескольких часов нашли семьдесят квартир для раненых и не встретили ни одного отказа, потому что они обращались к таким же маленьким простым людям, как они сами, которых они знали так же, как самих себя.
(ЦГАЛИ, ф. 1628, on. 1, д. 75. Цит. по кн.: А. Фадеев. Молодая гвардия. М., 1990. Стр. 11).
Тут не только подчеркнуто, что юные подпольщики действуют самостоятельно, не нуждаясь ни в каком партийном руководстве. Их деятельность прямо противопоставлена поведению партийца, руководствовавшегося «своими бумажками» и потому сразу провалившегося.
Этот абзац Фадеевым был вычеркнут, в печатный текст романа он не вошел. Но, как заметил однажды кто-то из классиков, – вычеркнутое остается.
В печатном тексте романа исчезли резкие формулировки. Но коллизия, намеченная в этом абзаце, не только сохранилась, но даже была развернута в одну из главных сюжетных линий романа.
Приведу еще один небольшой отрывок из черновых фадеевских набросков к роману. Он сохранился и в печатном его тексте, но в несколько смягченном виде. А в черновиках этот горький монолог Елизаветы Алексеевны Осьмухиной, обращенный к тому же Шульге, выглядел так:
► ...Ведь вы же считались власть наша, для простых людей, а оказалось, что вам дороже машины, вещи, всякие бумаги да чиновники, – как подумаю, извините меня, как вы и брат мой тогда боролись за правду, а на что вышло? Всякая сволочь выезжала отсюда, мебель с собой везла, грузовики барахла, а кому какое дело было до нас, простых людей, обывателей, как вы говорите?.. А потом удивляются, что есть такие люди, что идут к немцу служить, а я так не удивляюсь, человек <неразборч> разуверился во всем, вот и идет, думает, лучше будет.
(Там же. Стр. 9).
Еще один отрывок из черновых вариантов романа:
► Ночью секретарь областного комитета партии был вызван по телефону, и ему было сообщено, что наши войска отходят от города и немцы уже занимают город и что надо взрывать шахты, взорвать все, что можно, и выступать самим...
Бюро областного комитета, собравшись тут же ночью, быстро избрало пункт, за Донцом, где должен будет теперь обосноваться областной комитет и краснодонские районные и городские организации, исходя из предположения, что новый рубеж обороны будет создан на Донце...
Все это дошло до низовых организаций, где были выделены люди, чтобы осуществить это...
...В город уже проник слух о том, что дела плохи и власти уезжают, началось стихийное бегство из города, и, как это часто бывает в трудные минуты, многие из тех людей, которым поручено было организовать остальных, первыми были охвачены этой стихией бегства, но в городе все еще был порядок, поскольку власть еще оставалась на месте. Но уже в 10 часов утра было сообщено по телефону в областной комитет, что и его руководящие работники и <неразб> работники всех городских и районных организаций должны немедленно садиться в машины и мчаться на восток, ибо дело решают уже буквально часы, а может быть минуты, в противном случае вся руководящая головка может очутиться в немецком плену...
Наступил момент, когда власть в городе прекратилась. Люди, осуществлявшие власть, не только сами сели на машины и уехали, но перед этим они дали приказ сверху донизу, всем учреждениям, уже не заботиться ни о чем, кроме себя. И теперь все люди вольны были действовать по собственному разуму, совести или инстинкту. И тогда началась паника Но еще в течение десяти часов десятки и сотни людей заботились не о том, чтобы спасти себя, а чтобы спасти и вывезти порученных им людей и имущество, проявляя при этом деле недюжинную отвагу и волю, недюжинную сметку, уменье организовать людей и повести их за собой... И еще больше поднялось таких людей и среди самых рядовых людей, которым никто ничего не поручал, но в сердце которых всегда живет забота о народном добре и о самом народе, и в них раскрывается скопленный годами или природный гений организации, которого раньше никто не замечал, и он пропадал втуне. В тяжелую годину жизни родины этим безымянным людям, коих в нашем народе множество и которые и представляют лицо нашего народа, именно им обязаны народ и страна спасением огромного народного имущества и народных жизней.
И очень много было таких, кто только считался руководителем, а в душе не болел за народ и народное добро, а болел только о своем благополучии, – такие, побросав все, бежали первыми, и если в чем они и проявили себя как руководители, так только в том, что привычка народа видеть их во главе только усилила панику в народе, когда они увидели, что эти люди являются самым видным олицетворением паники.
(А. Фадеев. Молодая гвардия. Стр. 487-488).
Опять перед нами то же противопоставление. Народное добро и охваченных паникой людей спасают те, кому это никто не поручал, но в чьих сердцах жило сознание своего человеческого долга и в ком вдруг обнаружился «природный гений организации», которого раньше никто не замечал. А те, кому это было поручено, бросили людей, вверенных их попечению, и бежали первыми, став «самым видным олицетворением паники».
Этот отрывок Фадеев не осмелился сохранить в беловом тексте романа. Но, как уже было сказано, вычеркнутое остается. И сцены паники, охватившей обывателей Краснодона, и в печатном варианте первой редакции «Молодой гвардии» достаточно выразительны:
► По всем кварталам города, примыкавшим к шахте № 1-бис и отделенным от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем и сплошь застроенной глинобитными, лепящимися друг к другу мазанками, – по всем этим кварталам, как вихрь, гуляла паника...
Люди бежали к шахте, но там, видно, стояла цепь милиционеров и не пускала, и навстречу катился другой поток людей, бежавших от шахты, в который вливались с улиц со стороны рынка разбегавшиеся с базара женщины-колхозницы, старики, подростки с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, запряженные волами, с хлебом и овощами, женщины-покупательницы со своими корзинками и сетками, прозванными досужими людьми «авоськами».
Все население высыпало из своих домиков в палисадники, на улицы, – одни из любопытства, другие выбрались вовсе целыми семьями с узлами и мешками, с тачками, груженными семейным добром, где среди узлов сидели малые дети, – иные женщины несли на руках младенцев. И эти уходившие на восток семьи образовали третий поток, стремившийся выбиться на дороги на Каменск и на Лихую.
Все это кричало, ругалось, плакало, тарахтело, звенело. Тут же, продираясь сквозь месиво людей и возов, ползли грузовики с военным или гражданским имуществом, рыча моторами, издавая истошные гудки. Люди пытались забраться на грузовики – их сталкивали. Все это вместе и производило тот странный слитный протяжный звук, издали показавшийся девушкам стоном.
(А. Фадеев. Молодая гвардия. Стр. 38).
А вот как выглядит тот же эпизод в новом, исправленном, переработанном варианте фадеевского романа:
► Кварталы города, примыкавшие к шахте № 1-бис, были отделены от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем. Весь этот район, если не считать балки с лепящимися по ее склонам вдоль ручья глинобитными мазанками, был, как и центр города, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом, перед каждым был разбит палисадник – частью под огородом, частью в клумбах с цветами. Иные хозяева вырастили уже вишни, или сирень, или жасмин, иные высадили рядком, внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, кленочки. И вот среди этих аккуратных домиков и палисадников теперь медленно текли колонны рабочих, служащих, мужчин и женщин, перемежаемые грузовиками с имуществом предприятий и учреждений Краснодона...
Все так называемые неорганизованные жители высыпали из своих домиков. С выражением страдания, а то и любопытства одни смотрели из своих палисадников на уходящих...
Люди в колоннах шли молча с сумрачными лицами, сосредоточенными на одной думе, настолько поглотившей их, что казалось, люди в колоннах даже не замечают того, что творится вокруг. И только шагавшие обок руководители колонн то останавливались, то забегали вперед, чтобы помочь пешим и конным милиционерам навести порядок среди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению колонн.
(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. М., 1979. Стр. 175-176).
Вместо жуткой, трагической картины охваченного паникой человеческого месива появились стройные колонны рабочих, покидающих город организованно, под присмотром блюдущих строгую организованность и порядок бдительных «колонновожатых».
В первой редакции «Молодой гвардии» в сцены охватившей жителей Краснодона паники естественно вписывался эпизод первого появления на страницах романа одной из главных его героинь – Любки Шевцовой:
► – Балда! Ты что ж людей давишь?.. Видать, сильно у тебя заслабила гайка, коли ты людей не можешь переждать, детишек давишь! Куда? Куда?.. Ах ты, балда – новый год! – задрав носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика, – водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.
Грузовик был полон имущества милиции и – милиционеров в количестве значительно большем, чем требовалось бы для охраны имущества.
– Вон вас сколько поналазило, блюстители! – словно обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. – Нет того, чтобы народ успокоить, сами – фью-ить!.. – И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. – Ряшки вон какие наели!..
– И чего звонит, дура! – огрызнулся с грузовика какой-то милицейский начальник, сержант.
Но, видно, он сделал это на беду себе.
– А, товарищ Драпкин! – издевательски приветствовала его Любка – Откуда это ты выискался, красный витязь? Тебя небось советская власть поставила порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на всю улицу, как попка-дурак...
– Молчи, пока глотку не заткнули! – вспылил вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.
– Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! – не повышая голоса и нисколько не сердясь, издевалась Любка. – Ты небось ждешь не дождешься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да кантики пообрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера... Счастливого пути, товарищ Драпкин! – так напутствовала она побагровевшего от ярости, но, действительно, так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника.
(А. Фадеев. Молодая гвардия. Стр. 40).
Во втором, исправленном варианте романа Фадеев этот эпизод сохранил. Но теперь он уже не только не вписывался в общую картину, но даже с ней контрастировал. И поэтому пришлось автору его «слегка» подредактировать.
Исчезла авторская реплика:
► Грузовик был полон имущества милиции и – милиционеров в количестве значительно большем, чем требовалось бы для охраны имущества.
Вместо нее появилась другая:
► Грузовик был полон имущества милиции под охраной нескольких милиционеров.
И еще одну реплику Фадееву тут пришлось подправить. Вот эту:
► – И чего звонит, дура! – огрызнулся с грузовика какой-то милицейский начальник, сержант.
В новом, исправленном варианте она выглядела уже так:
►– и чего звонит, дура! – обиженный этой явной несправедливостью, огрызнулся с грузовика милицейский начальник, сержант.
(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. Стр. 177).
Совсем исчезла в новом варианте романа самая злая Любкина реплика
► – Ты небось ждешь не дождешься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да кантики пообрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера...
В результате этой авторской переработки вся сцена обрела совершенно иной смысл.
В первом варианте романа она не оставляла сомнений, что все издевательские Любкины реплики бьют точно в цель: милиция драпает вместе со всем городским начальством. И поэтому даже ядовитое предположение Любки, что, выехав за город, этот «красный витязь» и впрямь пообрывает все свои значки и кантики, чтобы никто не признал в нем советского милиционера, кажется не таким уж неправдоподобным. В новом же варианте для таких предположений нет решительно никаких оснований. Сержант действует так, как ему положено действовать, и для всей этой Любкиной словесной атаки нет решительно никаких реальных оснований. Разве только ее острый язычок и задиристый характер.
* * *
Рассказывая Эренбургу о том, как он перерабатывает свой роман, Фадеев – помните? – сказал ему, что «не меняет текста, а пишет новые главы».
Поначалу он, наверно, так и хотел. Но – не вышло. Пришлось и старый текст менять, редактировать, вносить в него исправления. И, как видим, весьма существенные.
В процессе работы над вторым вариантом он увидал, что не менять старый текст он не сможет. Но даже если бы ему удалось совсем его не тронуть, результат был бы тот же.
Он сам прекрасно это понимал. И так и сказал в том же разговоре тому же Эренбургу: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот».
Десять листов нового, по сталинскому заказу (в сущности, приказу) написанного текста сами по себе, какими бы они ни были, не могли не изменить соотношение частей романа, то есть перекосить, искалечить, сделать неузнаваемым первоначальный его замысел. Даже если Фадеев поверил (заставил себя поверить) Сталину, что так будет правильнее («Время трудное, а Сталин знает лучше нас с вами»), новый, исправленный вариант романа был обречен стать непохожим на первый. Даже и в этом случае это был бы уже НЕ ЕГО роман. Но надежда на то, что ему удастся при этом не тронуть старый текст, была иллюзорна. Не трогать, не менять его он не мог по той простой причине, что смысл – весь пафос – нового текста был не просто далек от смысла старого: он был ему противоположен.
В первом варианте романа город остался без власти. Начальство бежало, не забыв при этом о своем барахле и даже о мебели. О судьбе остающихся в городе «обывателей» никто не думал, – они были предоставлены самим себе.
В новом варианте все это выглядит совершенно иначе:
► В то время, когда на окраинах города все было охвачено этим волнением отступления и спешной эвакуации, ближе к центру города все уже несколько утихло, все выглядело более обыденно. Колонны служащих, беженцы с семьями уже схлынули с улиц. У подъездов учреждений или во дворах стояли в очередь подводы, грузовые машины. И люди, которых было не больше, чем требовалось для дела, грузили на подводы и на машины ящики с инвентарем и мешки, набитые связками документов. Слышен был говор, негромкий и как бы нарочито относящийся только к тому, чем люди занимались. Из распахнутых дверей и окон доносился стук молотков, иногда – стрекот машинок: наиболее педантичные управляющие делами составляли последнюю опись вывозимого и брошенного имущества. Если бы не дальние раскаты артиллерийской стрельбы и сотрясающие землю глубокие толчки взрывов, могло бы показаться, что учреждения просто переезжают из старых помещений в новые.
В самом центре города, на возвышенности, стояло новое одноэтажное здание с раскинутыми крыльями, обсаженное по фасаду молодыми деревцами. Оно видно было людям, покидавшим город, с любого пункта. Это было здание райкома и районного исполкома, а с прошлой осени в нем помещался и Ворошиловградский областной комитет партии большевиков.
Представители учреждений, предприятий беспрерывно входили в здание через главный вход и почти выбегали из здания. Неумолчные звонки телефонов, ответные распоряжения в трубку, то нарочито сдержанные, то излишне громкие, доносились из раскрытых окон. Несколько легковых машин, гражданских и военных, выстроившись полукругом, поджидало возле главного подъезда. Последним в ряду машин стоял сильно пропыленный военный вездеходик. С заднего сиденья его выглядывало двое военных в выцветших гимнастерках – небритый майор и громадного роста молодой сержант. В лицах и позах шоферов и этих военных было одно неуловимо общее выражение: они ждали...
В это время в большой комнате, в правом крыле здания, разыгрывалась сцена, которая по внутренней своей силе могла бы затмить великие трагедии древних, если бы по внешнему своему выражению не была так проста. Руководители области и района, кто должен был сейчас уехать, прощались с руководителями, кто оставался завершить эвакуацию и с приходом немцев бесследно исчезнуть, раствориться в массе, перейти в подполье.
Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе трудности.
Все время войны, от первого ее дня до нынешнего, было слито для этих людей в один беспрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу только закаленным, богатырским натурам.
Все, что было наиболее здорового, сильного и молодого среди людей, они отдали фронту. Они перевели на восток наиболее крупные предприятия, которые могли бы попасть под угрозу захвата или разрушения: тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семейств. Но, как по волшебству, они тут же изыскали новые станки и новых рабочих и снова вдохнули жизнь в опустевшие шахты и корпуса.
Они держали производство и всех людей в том состоянии готовности, когда по первой же необходимости все снова можно было поднять и двинуть на восток. И в то же самое время они безотказно выполняли такие обязанности, без которых немыслима была бы жизнь людей в советском государстве: кормили людей, одевали их, учили детей, лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, агрономов, держали столовые, магазины, театры, клубы, стадионы, бани, прачечные, парикмахерские, милицию, пожарную охрану.
Они трудились на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. Они забыли, что у них может быть своя жизнь: семьи их были на востоке. Они жили, ели, спали не на квартирах, а в учреждениях и предприятиях, – в любой час дня и ночи их можно было застать на своих местах... С предельным напряжением они трудились на последней части Донбасса, потому что она была последняя. Но до самого конца они поддерживали в людях это титаническое напряжение сил, чтобы вынести все, что война возложила на плечи народа. И если уже ничего нельзя было выжать из энергии других людей, они вновь и вновь выжимали ее из собственных душевных и физических сил, и никто не мог бы сказать, где же предел этим силам, потому что им не было предела.
Наконец пришел момент, когда нужно было покинуть и эту часть Донбасса. Тогда в течение нескольких дней они подняли на колеса еще тысячи станков, еще десятки тысяч людей, еще сотни тысяч тонн ценностей. И вот наступила та последняя минута, когда им самим уже нельзя было оставаться.
Они стояли тесной группой в большой комнате секретаря Краснодонского районного комитета партии, где уже было снято с длинного стола заседаний красное сукно... Они стояли друг против друга, шутили, поталкивали друг друга в плечо и все не решались произнести слова прощания. И у тех, кто уезжал, было так тяжело, и смутно, и больно на душе, будто ворон когтил им душу.
Естественным центром этой группы был работник обкома Иван Федорович Проценко, выдвинутый на подпольную работу еще осенью прошлого года, когда перед областью впервые встала угроза оккупации.
(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. Стр. 181—183).
Ни о какой панике уже нет и речи. Да, было некоторое волнение, порожденное «спешной эвакуацией». Но ситуация – под контролем. И работник обкома Иван Федорович Проценко, которому предстоит уйти в подполье, до последнего момента остается на своем посту и держит руку на «пульте управления», дает последние указания подчиненным. И указания эти свидетельствуют о том, что все мысли его – о простых людях, вверенных его попечению, которых он – пока может – не оставит в беде, по мере сил будет заботиться об их нуждах:
► Решительное мгновение наступило...
Все снова стали прощаться с Иваном Федоровичем, с его помощником, с остающимися работниками и один за другим выходили из кабинета с выражением некоторой виноватости... Иван Федорович не пошел их провожать, он только слышал, как на улице взревели машины.
Все это время в кабинете неумолчно работали телефоны и помощник Ивана Федоровича попеременно хватал то одну, то другую трубку и просил позвонить через несколько минут. Только Иван Федорович простился с последним из отъезжавших, как помощник мгновенно протянул ему одну из трубок.
С хлебозавода... раз десять уже звонили...
Иван Федорович маленькой рукой взял трубку, сел на угол стола и сразу стал не тем человеком, то добродушным и растроганным, то хитроватым и веселым, который только что прощался со своими товарищами. В жесте, которым он взял трубку, в выражении его лица и в голосе, которым он заговорил, появились черты спокойной властности.
Ты не тарахти, ты меня послухай, – сказал он, сразу заставив замолчать голос в трубке. – Я тебе сказал, что транспорт будет, значит, он будет. Горторг заберет у тебя хлеб и будет народ в дороге кормить. А уничтожать столько хлеба – преступление. Зачем же ты его всю ночь пек? Я вижу, ты сам торопишься, так ты не торопись, пока я тебе не разрешил торопиться. Понятно? – И Иван Федорович, повесив трубку, снял другую, разливавшуюся пронзительной трелью.
(Там же. Стр. 185—186).
Иван Федорович Проценко действует и в первом варианте романа. И действует в том же качестве – партийного руководителя, загодя выдвинутого обкомом для работы в подполье. Но там сразу же выясняется, что задание это было спланировано так бездарно, что подполье с первых же своих шагов было обречено на провал.
Те, кто планировал и организовывал будущую подпольную работу, уехали. А оставаться в подполье предстояло совсем другим людям, и узнали они об этом только накануне, в самый последний момент. И все оставленные им явки и адреса, как тут же оказалось, были ненадежные, а то и липовые:
► Виною всему была беспечность.
Партизанский штаб, выделенный еще осенью 1941 года, когда впервые возникла угроза оккупации, той же осенью приступил к организации подпольных и партизанских групп.
Но враг был еще далеко от Ворошиловграда, а люди, из которых состоял штаб, перегружены были своей обычной работой по должности. И они поручили подготовку этих групп другим людям, своим подчиненным, людям проверенным и исполнительным, которые нашли других, подчиненных им, тоже проверенных и исполнительных людей, и так была разработана и подготовлена сеть явок, и подпольных квартир, и партизанских баз, подпольных групп и партизанских отрядов.
Но угроза оккупации все отодвигалась, а успехи зимней кампании Красной Армии породили надежду на то, что и вообще не будет никакой оккупации. И все оставалось в том положении, как оно было. За год многие люди из тех, что предполагались на подпольную работу, и даже из самого штаба были мобилизованы в армию, другие переброшены на новую работу, третьи эвакуировались, четвертые сами забыли, что когда-то были намечены для этой деятельности.
И вспомнили об этом только теперь, когда вновь возникла угроза оккупации. На этот раз она возникла так внезапно, что уже не оставалось времени для того, чтобы наново организовать дело...
И в спешке партизанский штаб выдвинул новых людей взамен ушедших или отпавших по соображениям, подсказанным новым опытом...
Вот как получилось, что организаторами подполья и партизанской борьбы в области были одни люди, а оставались для фактического ведения борьбы другие люди.
(А. Фадеев. Молодая гвардия. Стр. 80-81).
В новой редакции романа та же ситуация получает другое объяснение:
► Проценко обернулся к Шульге... – Скажи ж мени, Костиевич: на тех квартирах укрытия, шо тебе дали, знаешь ли ты лично хоч едину людину? Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны, что у них за семьи, что у них за окружение?
– Сказать так, що воны мне известны, так они мне досконально не известны, – медлительно сказал Шульга, поглядывая на Ивана Федоровича своими спокойными воловьими очами. – Один адресок, – по старинке у нас тот край назывался Голубятники, – то Кондратович, или, як его, Иван Гнатенко, у осьмнадцатом роци добрый був партизан. А второй адресок, на Шанхае, – то Фомин Игнат. Лично я его не знаю, бо вин у Краснодони человек новый, но и вы, наверно, слыхали – то один наш стахановец с шахты номер четыре, говорят, человек свой и дал согласие. Удобство то, що вин беспартийный, и хоть и знатный, а, говорят, никакой общественной работы не вел, на собраниях не выступал, такой себе человек незаметный...
– А на квартирах у них ты побывал? – допытывался Проценко.
– У Кондратовича, чи то – Гнатенка Ивана, я був последний раз рокив тому двенадцать, а у Фомина я николи не був. Да и когда ж я мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно, что я только вчера прибыл и мне только вчера разрешили остаться и дали эти адреса Но люди ж подбирали, я думаю, люди ж знали? – не то отвечая, не то спрашивая, говорил Матвей Костиевич.
– Вот! – Иван Федорович поднял палец... – Бумажкам не верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте! Все и всех проверяйте наново, своим опытом. Кто ваше подполье организовал, тех – вы сами знаете – уже здесь нет. По правилу конспирации – то золотое правило! – они уехали. Они уже далеко. Мабуть, уже у Новочеркасска, – сказал Иван Федорович с тонкой улыбкой, и резвая искорка на одной ножке быстро и весело скакнула из одного его синего глаза в другой. – Это я к чему сказал? – продолжал он. – Я сказал это к тому, что создавали подполье, когда еще была наша власть, а немцы придут, и будет еще одна проверка людям, проверка жизнью и смертью...
(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. Стр. 225—226).
Вот оно, оказывается, как!
Не беспечность, не разгильдяйство, не тупая бюрократическая машина, когда правая рука не знает, что делает левая, повинны в том, что заранее заготовленные явки оказались ненадежными и провалились (у Кондратовича за двенадцать лет изменились обстоятельства, и довериться ему Шульга не рискнул, а Гнат Фомин – так тот и вовсе оказался мерзавцем: как только немцы заняли город, сразу выдал Шульгу и пошел в полицаи), а – золотое правило конспирации.
Все было правильно. Партия всегда права. А если что вышло не так, – сами виноваты. Партия (устами Ивана Федоровича Проценко) предупреждала
► Бумажкам не верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте! Все и всех проверяйте наново, своим опытом.
Но не только этим новым объяснением отличается эта сцена от той, какой она была в первой редакции романа. Другое, гораздо более важное ее отличие состоит в том, что в первой редакции «Молодой гвардии» Проценко с Шульгой беседуют с глазу на глаз – вдвоем. А тут их уже стало трое.
Третий их собеседник – Филипп Петрович Лютиков – главная, ключевая фигура новой редакции фадеевского романа. Именно он олицетворяет то партийное руководство, роль которого Фадееву в этой новой редакции предстояло отобразить.
Посмотрим же, из каких характеристик он складывает, лепит, конструирует образ этого выдающегося партийного руководителя:
► В разных областях деятельности можно встретить много самых различных характеров партийного руководителя с той или иной особенно заметной, бросающейся в глаза чертой. Среди них едва ли не самым распространенным является тип партийного работника-воспитателя. Здесь речь идет не только и даже не столько о работниках, основной деятельностью которых является собственно партийное воспитание, политическое просвещение, а именно о типе партийного работника-воспитателя, в какой бы области он ни работал, – в области хозяйственной, военной, административной или культурной. Именно к такому типу работника-воспитателя принадлежал Филипп Петрович Лютиков.
Он не только любил и считал нужным воспитывать людей, это было для него естественной потребностью и необходимостью, это было его второй натурой – учить и воспитывать, передавать свои знания, свой опыт.
Правда, это придавало многим его высказываниям характер как бы поучения. Но поучения Лютикова не были назойливо-дидактическими, навязчивыми, они были плодом его труда и размышлений и именно так и воспринимались людьми.
Особенностью Лютикова, как и вообще этого типа руководителей, было неразрывное сочетание слова и дела. Умение претворять всякое слово в дело, сплотить совсем разных людей именно вокруг данного дела и вдохновить их смыслом этого дела... Он был хорошим воспитателем именно потому, что был человеком-организатором, человеком – хозяином жизни.
Его поучения не оставляли равнодушным, а тем более не отталкивали, они привлекали сердца...
Иногда ему достаточно было только слово сказать или даже просто посмотреть. От природы он был немногословен, скорее даже молчалив. На первый взгляд как будто медлительный, – иным даже казалось, тяжелый на подъем, – он на самом деле находился всегда в состоянии спокойной, разумной, ясной организованной деятельности...
В общении с людьми Филипп Петрович был ровен, не выходил из себя, в беседе умел помолчать, послушать человека – качество, очень редкое в людях...
При всем том он вовсе не был то, что называется добрым человеком, а тем более мягким человеком. Он был неподкупен, строг и, если нужно, беспощаден.
Одни люди уважали, другие любили его, а были и такие, что боялись. Вернее сказать, всем людям, общавшимся с ним... были свойственны, в зависимости от характера человека, все эти чувства к нему, только в одних преобладало одно, в других – другое, а в третьих – третье. Если делить людей по возрасту, то можно сказать, что взрослые люди и уважали, и любили, и боялись его...
(Там же. Стр. 353—354).
Этот портрет вам никого не напоминает? Особенно вот это:
► ... ему достаточно было только слово сказать или даже просто посмотреть... в общении с людьми был ровен, не выходил из себя... При всем том он вовсе не был то, что называется добрым человеком, а тем более мягким человеком... был строг и, если нужно, беспощаден... люди и уважали, и любили, и боялись его...
Ну да, конечно! Даже слово «хозяин» мелькнуло в этом словесном портрете.








