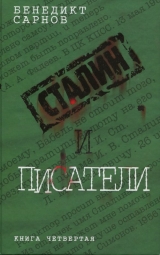
Текст книги "Сталин и писатели Книга четвертая"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 58 страниц)
Но истинной причиной ареста Эрдмана и Масса все это быть, конечно, не могло.
Начать с того, что Луначарский никак не мог «из желания оградить Эрдмана от неприятностей» запретить его «Самоубийцу». Судьба пьесы, как мы знаем, решалась совсем в иных, более высоких инстанциях. И не «пытался Эрдман пристроить свою пьесу во МХАТ», а принята она была к постановке двумя театрами вполне официально и «с высочайшего соизволения». Да и времени от описанного Анной Владимировной эпизода до ареста ее отца и его соавтора прошло слишком много. Если причиной ареста была эта «общественная читка», почему Эрдмана не арестовали сразу? И при чем тут тогда ни в чем не повинный Масс?
Нет, повод для ареста соавторов был, конечно, совсем другой: либо «Заседание о смехе», либо – басни. Остается только установить, какой из этих двух скандалов повлек за собой вмешательство ГПУ. То есть – что чему предшествовало.
Установить это нетрудно, благодаря уже известному нам письму Всеволода Вишневского Зинаиде Райх. Там, если помните, была у него такая фраза:
► ...с каких пор Эрдман, автор грязных басен и «Самоубийцы», стал свежим, бодрым нашим писателем?
(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Коку менты. Воспоминания современников. Стр. 288).
Письмо, содержащее эту реплику, было написано 11 января 1932 года.
Стало быть, о кремлевском скандале, разразившемся вокруг «грязных басен», в это время ему было уже известно.
А скандал вокруг альманаха «Год шестнадцатый» разразился в мае 1933-го. И А. Стецкий тоже наверняка знал о том, что случилось на приеме японского посла. Но альманах почему-то не задержал: видимо, какой это дело примет оборот, было тогда еще неизвестно, и, зная о письме Сталина Станиславскому, он занял осторожную, выжидательную позицию. А узнав, что судьба соавторов решена, стал оправдываться, объяснять свою «потерю бдительности» высокими дипломатическими соображениями.
► Этот альманах следовало задержать. Не сделал я этого только потому, что он вышел как раз в день приезда Горького сюда и это было бы для него весьма неприятным сюрпризом
(Из докладной записки заведующего отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б) А.И. Стецкого секретарям ЦК ВКП(б) тов. Сталину и Кагановичу. Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917-1953. Стр. 200).
Итак, сомнений нет: причиной ареста Николая Эрдмана и Владимира Масса стали их басни.
И хотя, получив за них по три года ссылки, они отделались сравнительно дешево, последствия этого – по тем временам весьма мягкого приговора – по крайней мере для одного из них оказались ужасны. В известном смысле можно даже сказать – смертельны.
Сюжет третий
ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ
Вскоре после доклада Хрущева на XX съезде партии известный советский поэт Павел Антокольский написал (не помню, успел ли он его напечатать до того, как тема эта опять стала закрытой) такое стихотворение:
Мы все – лауреаты премии,
Врученных в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.
Мы все – его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда...
Стихотворение по смыслу покаянное, по видимости даже благородное, а по сути – весьма мутное (чтобы не сказать хуже).
Ведь по сути эта риторическая готовность взять на себя некую общуювину маскирует желание снять с себя свою, личную.
Ответственность за преступления не может быть общей, у каждого она своя, и ее нельзя разложить на всех, – как он говорит, «на равных».
И потом – что это значит: «Мы все...»?
Все – да не все!
Выбирая героев для этой своей книги, я менее всего думал о том, кто из них был лауреатом, а кто нет. Но арифметика получилась весьма выразительная.
Из двадцати выбранных мною персонажей лауреатами оказались лишь четверо: А.Н. Толстой, Эренбург, Фадеев и Симонов.
Все они безусловно заслужили эти свои награды. (К сожалению, не только высокими художественными достоинствами увенчанных премиями произведений. Чаще – даже наоборот.) Но остальные шестнадцать тоже не случайно были обойдены этими высокими званиями.
Ни Пастернак, ни Мандельштам, ни Замятин, ни Булгаков, ни Ахматова, ни Зощенко, ни Платонов ни при какой погоде стать лауреатами Сталинской премии, конечно, не могли.
Хотя...
Выбор Сталина был непредсказуем.
Был, например, однажды такой случай.
Утром, открыв газету, Виктор Платонович Некрасов узнал, что стал лауреатом Сталинской премии. Это явилось для него полной неожиданностью. Но, как тут же выяснилось, не только для него.
Спустя несколько минут ему позвонил Всеволод Вишневский. (Он был одним из членов Комитета по премиям.)
– Газеты читал? – спросил он.
Некрасов ответил, что да, читал, уже все знает.
– Так вот, – сказал Вишневский. – К твоему сведению. Вчера вечером в списке твоей фамилии не было.
– Ну и что? – не понял Некрасов.
– Ты что же, не понимаешь? Ведь ночью вписать ее туда мог только один человек!
Такие причуды у Сталина бывали редко. Обычно, награждая кого-либо из писателей премией своего имени, он руководствовался политическими соображениями. Именно они играли тут решающую роль. Но случалось, что политические критерии совпадали с художественными. Разумеется, не чьими-нибудь, а его, Сталина, художественными критериями и вкусами. Ну, и конечно, с представлениями самих лауреатов о художественной ценности их созданий, удостоенных высокой награды.
А.Н. Толстой, получив премию первой степени за своего «Петра», мог не сомневаться, что на этот раз и художественный вкус Сталину не изменил: у него были все основания считать этот роман одной из самых больших своих художественных удач.
Эренбург, получив Сталинскую премию за «Бурю», так, вероятно, не думал. Высшим своим художественным достижением он полагал «Хулио Хуренито». (Не раз сам об этом говорил.) Наверняка считал бы более справедливым, если бы премии удостоился его роман «День второй». Но и лауреатских своих книг – «Падения Парижа» и «Бури» – тоже не стыдился.
Фадеев, получивший премию за первый вариант «Молодой гвардии», наверно, тоже считал эту награду заслуженной.
Что же касается Симонова, то с известным основанием можно сказать, что каждое из его произведений, удостоенных премии (кроме пьесы «Чужая тень», которую он и сам считал неудачной и жалел, что написал ее), действительно было очередной его художественной вершиной. (Каков у писателя потолок, таковы и его вершины.)
Ну, а что касается Пастернака или Ахматовой, то они о том, чтобы стать лауреатами, разумеется, не могли даже и мечтать. Да и вряд ли этого и хотели.
Хотя...
Пастернак не только хотел, но и довольно прямо намекал на это (в письме А.С. Щербакову 16 июля 1943 года):
► Мне кажется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов и орденоносцев, чтобы меня ставили в положение низшее по отношению к ним.
Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками.
Любящий Вас
Б. Пастернак.
(Б. Пастернак. Полное собрание сочинений. Т. 9. Стр. 349).
Сегодня такой вариант событий, при котором Пастернак мог бы стать лауреатом, представляется совершенно немыслимым. Но бывали времена, когда он был вполне возможен и даже вероятен. Получил же Сталинскую премию (да еще первой степени) Михаил Лозинский за перевод «Божественной комедии» Данте. Так почему бы и Пастернаку не удостоиться того же за свои переводы Шекспира или «Фауста».
Ну, а что касается Ахматовой, то ее кандидатура, как мы помним, однажды даже выдвигалась на лауреатство. И не кем-нибудь, а Шолоховым, Фадеевым и А.Н. Толстым. Повернись события по-другому, глядишь, – чем черт не шутит! – могла бы и получить.
При своей готовности к любым услугам вполне мог бы стать лауреатом и Пильняк.
Да мало ли кто еще из «обойденных»...
О тех, кто – по тем или иным причинам (иногда и случайно) – попал в сталинскую мясорубку, говорить, разумеется, не приходится. Но из уцелевших при ином раскладе этой чести мог удостоиться едва ли не каждый. За исключением, пожалуй, только одного – Николая Робертовича Эрдмана
Чтобы автор «Самоубийцы» и «грязных» антисоветских басен стал лауреатом Сталинской премии? Такого, казалось, не могло бы случиться и при самом причудливом развитии событий.
Но именно это как раз и произошло.
И это при том, что ни сервилистом и «ловчилой» вроде Пильняка Николай Робертович не был. И взглядов своих и настроений не менял. И с намеками вроде тех, которые делал Щербакову Пастернак, ни к каким влиятельным лицам никогда не обращался.
Этот сюжет развивался и сложился совсем по другим законам, не имеющим в истории нашей литературы, пожалуй, никаких аналогий.
Кроме, разве, одной, к которой мы, быть может, еще обратимся.
* * *
Сосланный в Сибирь (в Енисейск) Николай Робертович свои письма к матери неизменно подписывал – «Мамин сибиряк». И шутку эту со смехом повторяла вся Москва.
Доходили до московских друзей и другие его шуточки, далеко не всегда безопасные.
С электричеством в Енисейске дело обстояло не больно хорошо. Попросту говоря, его там не было. Во всяком случае, в той халупе, которую Эрдману удалось снять, о «лампочке Ильича» можно было только мечтать. А Эрдман любил читать. Особенно вечерами, иногда даже по ночам. И постоянно думающая о нем его возлюбленная, засыпавшая его посылками, заказала какому-то театральному умельцу особый электрический фонарь, работающий на батарейках. Отправляя его в Енисейск, Ангелина Иосифовна очень волновалась: дойдет? И если дойдет, будет ли работать?
Затея удалась, о чем от Николая Робертовича в тот же день полетели в Москву телеграммы:
► Енисейск. 26. 12 часов. (Молния от ваш. корр.) Закончена прокладка линии электропередачи Стол-Кровать протяжением 3 метра.
Енисейск. 26. 24 часа. (Молния от ваш. корр.) Пуск первой мощной электростанции в условиях Севера прошел образцово. Все обслуживающие механизмы работают отлично. За первые два часа прочитано четыре главы «Исповеди» Жан-Жака Руссо. Начальнику строительства А.О. Степановой. Постройка енисейской электростанции – новый вклад в дело дальнейшего подъема нашей страны и Вашего в моих глазах. ЦК.
(Письма. Николай Эрдман, Ангелина Степанова. Предисловие и комментарии Виталия Вульфа. М., 2007. Стр. 126).
Попадись эти телеграммы на глаза тем, КОМУ НАДО, они вполне могли быть истолкованы (и вряд ли были истолкованы иначе) как издевательская пародия на знаменитый ленинский план ГОЭЛРО. А учитывая подпись (ЦК), так даже и как злобный пасквиль на сталинский план индустриализации страны. Хотя подпись эта (в той же телеграмме) расшифровывалась самым невинным образом: «Целую Коля».
Не умеряя постоянных своих забот о возлюбленном, Ангелина Иосифовна добивалась – и нечеловеческими усилиями добилась – его перевода из Енисейска в Томск. Томск как-никак был университетский город, для Сибири – большой культурный центр, и она полагала, что ему там – во всех смыслах – будет лучше, чем в заштатном, захудалом Енисейске.
План удался. Но удача эта обернулась для Эрдмана разными, мягко говоря, неудобствами и даже унижениями.
Начать с того, что в Томск он был отправлен «по этапу», с конвойными, что уже само по себе было довольно-таки неприятно. А оказавшись наконец в этом вожделенном Томске, долго не мог сыскать для себя мало-мальски сносное пристанище.
Об этих своих мытарствах он любимой сообщал так:
► ...Плачусь у парикмахеров, останавливаю на улицах прохожих, изучаю бумажки на столбах – всё тщетно. Вчера дал объявление в газету, боялся, пропустит ли цензура. Опасения оказались напрасными – поместили целиком. Как видишь, всё идет к лучшему, меня уже стали печатать.
А просьбу прислать каких-нибудь книг сопроводил такой сентенцией:
► В здешних магазинах, кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека похожа на томскую столовую – меню большое, а получить можно одни пельмени или Шолохова.
(Там же. Стр. 247).
За все эти милые шуточки – и над цензурой, и над пельменями, и над Шолоховым – не говоря уже о портретах вождей – ему вполне могли намотать новый срок.
Но неисправимый шутник продолжал шутить. И жало этих его маленьких сатирических импровизаций неизменно было направлено все в ту же, хорошо нам известную сторону.
Вот, например, еще одна его шуточка – правда, уже других, более поздних времен.
* * *
28 сентября 1940 года в «Известиях» появилась такая заметка, подписанная Михаилом Долгополовым:
► По инициативе Л.П. Берия создан Ансамбль песни и пляски НКВД Союза ССР. Состоялось первое выступление ансамбля. Большая программа скомпонована в обозрение «По родной земле». Тема его – жизнь счастливой Родины, неусыпно охраняемой чекистами и пограничниками. Коллектив ансамбля под руководством композитора 3. Дунаевского создал веселое, жизнерадостное представление».
Через несколько дней (2 октября) такой же заметкой, подписанной О. Кургановым, на эту инициативу Лаврентия Павловича откликнулась «Правда»:
► Режиссером этой программы является С. Юткевич, а художником – П. Вильямс. Они придали ей подлинную красочность, внесли в нее много выдумки, остроумия и веселья.
Лаврентию Павловичу, видимо, не давали покоя лавры знаменитого в то время ансамбля песни и пляски Красной Армии, которым руководил А.В. Александров, будущий создатель музыки советского Гимна. Вот он и решил создать ансамбль своего ведомства. И такой, чтобы он не уступал, а может быть, даже и превосходил знаменитый Краснознаменный.
Возможности для этого у него, как вы понимаете, были большие. Можно сказать – неограниченные.
Главным режиссером Ансамбля песни и пляски при центральном клубе НКВД (таково было официальное название ансамбля) стал Сергей Юткевич.
Вот как он вспоминает о возникновении и формировании этого ансамбля:
► Формирование труппы произошло без затруднений и в сжатые сроки. Были подобраны сильный танцевальный коллектив, хороший хор, квалифицированный оркестр. Художественным руководителем назначили, как верно сказано в заметке Долгополова, Зиновия Дунаевского. Балетмейстерами были Асаф Мессерер и Касьян Голейзовский, хормейстером – Александр Свешников, художником – Петр Вильямс. Я заявил начальству, что теперь нужны первоклассные драматурги и хотелось бы работать с Михаилом Вольпиным и Николаем Эрдманом. Их в то время – по обстоятельствам, от них не зависевшим, – не было в Москве.
Через несколько дней оба литератора уже примеряли форму (ансамбль, естественно, был военизированным)...
Добавлю, что драматическим коллективом позднее руководил один из корифеев Художественного театра – Михаил Тарханов. Двумя главными действующими лицами первой программы, основанной, естественно, на либретто М. Вольпина и Н. Эрдмана, были молодые пограничники... Их играли Леонид Князев и Юрий Любимов. Все было решено в мажоре, а декорации и костюмы поражали великолепием. Премьера второй программы – «Отчизна» – состоялась в очень трудное для страны время – в ноябре 1942 года, когда шли бои в Сталинграде. Еще перед этим я сделал фронтовой вариант обозрения «По родной земле» (опять-таки с Вольпиным и Эрдманом), и с ним коллектив ездил по армейским частям и три месяца пробыл в блокадном Ленинграде. Понятно, что содержание «Отчизны» было целиком военно-патриотическим....
В «Отчизне» впервые прозвучала написанная по заказу ансамбля песенка «Фонарики», мгновенно подхваченная в тылу и на фронте. Ее автор – композитор Дмитрий Шостакович – вообще постоянно сотрудничал с ансамблем (...) Третью программу – «Русская река» – делал Рубен Симонов...
(Н. Эрдман в воспоминаниях С. Юткевича. Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 360—361).
Публикатор этих воспоминаний (М. Долинский) реплику С. Юткевича о том, что Эрдмана и Вольпина «в то время—по обстоятельствам, от них не зависевшим, – не было в Москве», комментирует так:
► Мемуары писались Юткевичем в те годы, когда о репрессиях сталинского времени приходилось говорить глухо. Да и то это проходило цензуру с трудом, а иногда и не проходило. На самом деле Вольпин и Эрдман были арестованы и сосланы.
(Там же).
Но на самом деле и Эрдман, и Вольпин (в 1933-м он тоже был сослан в Сибирь – как было сказано в приговоре: «За антисоветские настроения») в то время, о котором рассказывает Юткевич, ссыльными уже не были.
19 октября 1936 года Николай Робертович получил справку Томского горотдела НКВД об отбытии срока ссылки с правом выбора места жительства «минус шесть» городов и переехал в Калинин. В последующие годы – до войны – жил в Высшем Волочке, Торжке, Рязани. С ансамблем НКВД он начал сотрудничать в 1939-м. (По приглашению А.М. Мессерера работал над сценарием театрализованного представления «По родной земле».)
В первые месяцы войны он был административно выслан из Рязани, где тогда жил, как бывший ссыльный с еще не снятой судимостью. Написал заявление с просьбой зачислить его добровольцем в РККА. Получил отказ. Но уже в августе – в Ставрополе – был призван по мобилизации и зачислен в саперную часть. С отступающими частями Красной Армии прошел пешком 600 километров и оказался в Саратове. И уже только тут – в декабре 1942-го, – находясь на излечении в госпитале, получил вызов в Москву для зачисления в ансамбль песни и пляски НКВД. Это уже, наверно, стараниями С. Юткевича.
Его же стараниями был вызван и зачислен в ансамбль и М.Д. Вольпин.
Вот тут-то Николай Робертович и произнес ту знаменитую свою шуточку, о которой я упомянул в начале этого своего рассказа.
В ансамбле их приодели, приобули, подкормили. Вот только Эрдману никак не могли подобрать приличную шинель. Наконец подобрали – и не просто приличную, а по тем временам просто великолепную, только что не генеральскую. А они с Вольпиным жили тогда в какой-то мансарде, и у них там было большое зеркало. И вот подходит Николай Робертович в этой новой своей – офицерской, энкавэдэшной – шинели к зеркалу, смотрит на себя и говорит:
– Миша, мне кажется, за мною опять пришли.
Шутка была невеселая.
Страх, что за ним в любой момент могут «опять прийти», преследовал его долгие годы.
► Вскоре после войны, в 1946 году, Большой театр стал строить дом для артистов. К моему великому счастью, я попала в это строительство, правда, с большими трудностями. Дом построили в 1950 году, и мы въехали в трехкомнатную квартиру на улице Горького. Счастью нашему не было предела... Надо было идти прописываться. Николай Робертович сказал: «Как хочешь, но я в милицию не пойду». Я взяла паспорта и пошла на трясущихся ногах прописываться. Паспорта взяли и прописали. У Николая Робертовича с 1951 года уже был «чистый» паспорт. Но вечный страх остался.
Помню, когда мы наконец переехали в новую квартиру, ночью в три часа раздался звонок в дверь. «Пришли!» – подумали мы оба. Я подошла к двери и замирающим голосом спросила: «Кто там?» И в ответ услышала два голоса: Бориса Ливанова и Алексея Дикого, которые, где-то не допив, решили прийти к Колечке. Услышав их голоса, мы так обрадовались, что тут же усадили, накормили, напоили и были счастливы, что это они, а не КГБ.
Прошла неделя, и опять ночью звонок, я уже посмелее подошла к двери и услышала то же самое: «Это мы, к Колечке». Уже менее приветливо мы их опять напоили и накормили.
Им, видно, это понравилось, и через неделю опять то же самое. Тогда я не выдержала и сказала им «Чтобы больше вашей ноги здесь не было. Вы что, не понимаете, что такое ночные звонки в наше время? Днем – пожалуйста, а ночью – не сметь!». Ночные визиты прекратились.
(Н. Чидсон. Радость горьких лет. Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Коку менты. Воспоминания современников. Стр. 350—351).
Только смерть Сталина, быть может, освободила его от этого постоянного страха. Да и то – вряд ли. Что, кстати, не мешало ему вести себя независимо и смело – до дерзости.
► Идет художественный совет. Обсуждается сценарий Вольпина и Эрдмана. И им говорят всякие гадости. Товарищ Ильичев тогда был во главе этого совета. И вот, когда была сказана очередная гадость... А Николай Робертович – он же редко что-либо без крайней необходимости говорил... Между тем все знали, что Николай Робертович – один из самых остроумнейших людей Москвы... А он был необыкновенно молчалив. Вступал он в беседу редко. Если он мог сказать фразу, которая прервет глупость беседы и перевернет ее парадоксально... Только тогда он вступал с фразой.
И вот, значит, Ильичев говорит: «Вы что, не знаете, кто, так сказать, этот художественный совет создал? – имея в виду Сталина. – Вы доостритесь...»
На это Эрдман говорит: «Ну, я и острил, потому что я думал, что это художественный совет, но теперь я понял, что это нечто другое, и я умолкаю...»
И когда тот стал хамить дальше, Николай Робертович попросил Михаила Давыдовича об очень деликатной вещи: «Михаил Давыдович, не будете ли вы так любезны – а то я, вы знаете, заикаюсь... Так вот, не будете ли вы так любезны – послать этого господина н-на...» – и вышел.
(М. Вольпин, Н. Любимов. Вспоминая Н. Эрдмана. Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 422).
Не думаю, чтобы Михаил Давыдович осмелился выполнить эту его деликатную просьбу. Да Николай Робертович на это, конечно, и не рассчитывал.
* * *
Сказав в начале этого сюжета, что творческая судьба Николая Эрдмана не имеет в истории нашей литературы никаких аналогий, а потом все-таки добавив: «кроме, разве, одной», я имел в виду Грибоедова, от всего созданного которым осталась только одна гениальная пьеса. Гениальная, но – одна.
Объяснить эту загадку пытались по-разному.
Вот – самое распространенное из них и, пожалуй, самое аргументированное:
► ...после великой удачи «Горя от ума» Грибоедова постигли жестокие неудачи. В чём же искать объяснение этой трагедии гениального поэта? В опустошённости ли его творческого сознания, как полагали иные? Конечно, нет! Дошедшие до нас наброски и планы последних произведений Грибоедова исключают подобное толкование его писательской судьбы. Они свидетельствуют о настойчивых поисках новых драматических форм, способных вместить то громадное идейное содержание, которое вкладывал Грибоедов в свои замыслы. Но, разумеется, не только и не столько это обстоятельство определило безрезультатность его, по-видимому, очень напряженной творческой работы во вторую половину двадцатых годов. Он, безусловно, раньше или позже, нашёл бы искомые формы. Создать новый шедевр не позволяла Грибоедову бесперспективность его творческого пути в общественно-политических условиях николаевского режима... «Что у меня с избытком найдётся, что сказать – за это ручаюсь, отчего же я нем? нем, как гроб!» – спрашивал Грибоедов в 1825 г., то есть в ту пору, когда уже было создано «Горе от ума», обессмертившее его имя. И в другом месте он сам ответил на свой вопрос: «Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов». Мировоззрение пламенного мечтателя вступало в резкие противоречия со всем укладом того мира, в котором ему суждено было жить и творить. «Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан» (Пушкин).
Тяжела была судьба Грибоедова Но тот же Пушкин сказал: «Грибоедов сделал свое: он уже написал «Горе от ума». В этих словах – признание великой исторической заслуги Грибоедова
(Вл. Орлов. Художественная проблематика Грибоедова. Литературное наследство. 47—48/ А.С. Грибоедов. М., 1946. Стр. 73).
Автор этого объяснения, конечно, слегка юлит. Дипломатничает. Ему мешает то, что он старается не столько объяснить творческое бессилие великого писателя, сколько оправдать его. (В чем тот, разумеется, совершенно не нуждается.)
Можно предположить, что парализовал и даже убил творческую потенцию Грибоедова шок, вызванный его арестом.
Об этом аресте чаще пишут в легких тонах: ничего, мол, страшного не произошло, Грибоедов сразу же был освобожден, поскольку ни в чем не был замешан.
В действительности дело обстояло куда серьезнее.
Об обстоятельствах этого ареста сохранились подробные воспоминания свидетеля, видевшего все своими глазами и рассказавшего о виденном с предельной честностью и точностью.
► Все, что мне удалось читать печатного об аресте Грибоедова, все совершенно не так. Видно, что это пересказанные речи. Я буду говорить как очевидный свидетель и ручаюсь за сказанное.
Рано утром мы выступили из Червленной и часу в одиннадцатом подошли к Горячеводскому укреплению, где назначен был привал... День был солнечный и довольно теплый. Исправлявший должность дежурного штаб-офицера гвардии капитан Талызин первый увидал на перевале от Терека тройку в санях, окруженную 20 или 30 казаками, и первый сказал: «Господа, ведь это должен быть фельдъегерь». Так и вышло...
Талызин, Сергей Ермолов и я, пригласивши с собой фельдъегеря, пустились на рысях и прямо к дому коменданта крепости Грозной. Алексей Петрович сидел за большим столом и, как теперь помню, раскладывал пасьянс. Сбоку возле него сидел с трубкой Грибоедов. Когда мы доложили, что прибыли и привезли фельдъегеря, генерал немедленно приказал позвать его к себе. Уклонский вынул из сумки один тонкий конверт от начальника главного штаба Дибича. Генерал разорвал конверт; бумага заключала в себе несколько строк, но, когда он читал, Талызин прошел сзади кресел и поймал на глаз фамилию Грибоедова. Алексей Петрович, пробежавши быстро бумагу, положил в боковой карман сюртука и застегнулся. Потом он начал расспрашивать Уклонского о событиях в Петербурге... Я не обратил внимания на Грибоедова; но Талызин мне после сказал, что он сделался бледен, как полотно.
(Н. Шимановский. Арест Грибоедова. Там же. Стр. 72—73).
У Грибоедова были все основания к тому, чтобы сделаться бледным, как полотно. Он ведь в этот момент еще не знал, что Алексей Петрович Ермолов даст тайную команду уничтожить все его бумаги невзирая на то, что в распоряжении военного министра, которое он только что прочел, было сказано ясно и определенно:
► По воле государя императора покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству.
(П. Щеголев. А.С. Грибоедов и декабристы.М„ 1905. Стр. 24).
О том, как было выполнено это распоряжение АП. Ермолова, с присущей ему обстоятельностью рассказывает тот же Шимановский:
► В сенях встретил я Талызина, который отдавал приказание одному из ординарцев генерала, уряднику Кавказского казачьего полка Рассветаеву, чтобы он скакал в обоз, отыскал арбу Грибоедова и Шимановского и чтобы гнал в крепость. Я спросил его по-французски: на что это? Талызин отвечал: «После скажу!»...
Урядник Рассветаев ловко исполнил возложенное на него поручение. Он отыскал арбу, вывел ее из колонны и заставил быков скакать, так что очень скоро прибыли наши люди к назначенному нам флигелю. Тут встретило наших людей приказание елико возможно скорее сжечь все бумаги Грибоедова, оставив лишь толстую тетрадь – «Горе от ума». Камердинер его Алексаша хорошо знал бумаги своего господина; он этим и руководствовал и не более как в полчаса времени все сожгли на кухне Козловского, а чемоданы поставили на прежнее место в арбу.
(Н. Шимановский. Арест Грибоедова. А.С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников. А., 1929. Стр. 74-76).
Как знать? Может быть, в этих сожженных грибоедовских бумагах было и нечто гениальное, что Александр Сергеевич потом не смог (или не захотел) восстановить?
Было еще одно – третье – объяснение угасания грибоедовского художественного дара.
С наибольшей резкостью и примитивной определенностью его высказал Н. Огарев:
► Грибоедов... примкнул к правительству и на дипломатическом поприще наткнулся на случайную гибель. Но талант его и без того уже был погибшим: он высказал в «Горе от ума» все, что у него было на сердце, а дальше он ничего не мог развить в себе самом, именно потому, что он примкнул к правительству, этому гробу русских талантов и русской доблести.
(А.С. Грибоедов в русской критике. Стр. 213).
Грибоедов действительно состоял на «царской службе», под конец жизни в довольно высоких чинах (статского советника и «полномочного министра» в Персии). Но можно ли сделать из этого вывод, что он «примкнул к правительству»?
Салтыков-Щедрин, как известно, был вице-губернатором. Но никто, однако, не смел обвинить его в том, что он «примкнул к правительству».
Впрочем, не только это – пожалуй, самое далекое от истины, – но и все другие объяснения, которые я тут припомнил (были и другие), при том, что некоторые из них содержат крупицу истины, не в силах объяснить тайну падения грибоедовского таланта, загадку сковавшей его немоты.
Природа художественного дара, внезапная вспышка гения и столь же внезапное его угасание вряд ли могут быть объяснены рационально. Слишком темна и загадочна сама по себе эта область человеческой психики. Так что в эту грибоедовскую тайну мы вряд ли когда-нибудь проникнем.
Случай Эрдмана легче поддается разгадке.
* * *
Невеселую шутку Николая Робертовича («Миша, мне кажется, что за мною опять пришли») публикатор мемуаров С. Юткевича М. Долинский приводит в несколько иной редакции.
По его версии, увидав себя в зеркале в офицерской энкавэдэшной шинели, Эрдман сказал:
– У меня, Миша, такое впечатление, будто я привел под конвоем самого себя.
Предоставляю читателю возможность самому выбрать из этих двух вариантов эрдмановской шутки тот, который кажется ему наиболее остроумным. Но я хочу подробно остановиться именно на этом, втором ее варианте, потому что в нем (вспышкой внезапного художественного прозрения) выразилась самая суть творческой судьбы Эрдмана, трагический финал которой он в тот момент, конечно, еще не прозревал.
С легкой руки Твардовского в наш литературный обиход давно уже прочно вошло выражение «внутренний редактор».
Открыв (в себе) этого «внутреннего редактора», который не позволяет ему быть самим собой, и создав весьма убедительный и выразительный его облик, Твардовский так завершает главу своей поэмы «За далью – даль», в которой у него возник этот, едва ли не мистический его персонаж:
Но тут его прервал я разом:
– Поговорил – слезай долой.
В каком ни есть ты важном чине,
Но я тебе не подчинен
По той одной простой причине,
Что ты не явь, а только сон
Дурной. Бездарность и безделье
Тебя, как пугало земли,
Зачав с угрюмого похмелья,
На белый свет произвели.
В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты – только тень.
Ты – лень моя.
Встряхнусь – и нет тебя в помине,
И не слышна пустая речь.
Ты только в слабости, в унынье
Меня способен подстеречь,
Когда, утратив пыл работы,
И я порой клоню к тому,
Что где-то кто-то или что-то
Перу помеха моему...
И о тебе все эти строчки,
Чтоб кто другой, смеясь, прочел, —
Ведь я их выдумал до точки,
Я сам. А ты-то здесь при чем?
Тут оказывается, что полка, на которой будто бы расположился этот его попутчик, и впрямь пуста. В купе как было их поначалу только трое, так трое и осталось:








