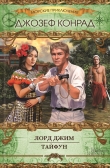Текст книги "Советский морской транспорт в Великой Отечественной войне"
Автор книги: Б. Вайнер
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Десантные действия возобновились с рассветом 28 декабря, когда погода улучшилась.
От НКМФ в них участвовали азовские шаланды «Гордипия», «Свобода», «Анакрия», «Арабат», «Пожарский», а также 7 барж и 9 моторных катеров. К доставке подкреплений привлекались 6 сейнеров, буксиры «Ростсельмаш» и «Снег», колесные буксиры морского типа «Анапа» и речного «Ким» и «Кубанец» Азово-Кубанского речного пароходства. Исключительно полезными оказались речные буксиры. Мелкосидящие, они подводили несамоходные баржи вплотную к берегу. Это в условиях зимних штормовых погод намного облегчало выгрузку.
В результате упорных трехдневных боев части 51-й армии 30 декабря 1941 г. освободили Керчь. Теперь уже более крупные суда направлялись непосредственно к причалам Керченского порта.
Действия десантных частей 51-й армии севернее и южнее Керчи и завязавшиеся затем бои за этот город и порт, приковав к себе внимание и силы гитлеровцев, облегчили главную задачу – высадку войск 44-й армии в порт Феодосия. Вечером 28 декабря из Новороссийска на борту крейсеров «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренных миноносцев «Железняков», «Незаможник», «Шаумян» и транспорта «Кубань» туда направился передовой отряд десантных войск численностью свыше 5 тыс. человек {72}. Вместе с ним на двух тральщиках и десяти сторожевых катерах шел штурмовой отряд из 300 моряков.
Ночью корабли скрытно подошли к Феодосийскому порту и открыли сильный артиллерийский огонь. Через 13 минут сторожевые катера начали прорыв в порт. Гитлеровцы [93] были застигнуты врасплох. Боновое заграждение оказалось открытым. Первым ворвался в гавань сторожевой катер № 0131. Под огнем немецких автоматчиков он высадил десантников на защитный мол. Они овладели маяком и включили его. Другой катер, стоя у боновых ворот, зеленым огнем показывал вход в порт. Штурмовой отряд захватил причалы, к которым должны были швартоваться десантные корабли и транспорты. Вслед за катерами в гавань вошли эскадренные, миноносцы. Эсминец «Шаумян» ошвартовался к Широкому молу. За ним доставили сюда подразделения передового отряда два других эсминца. Крейсер «Красный Кавказ» под сильным огнем начал швартоваться кормой к внешней стороне Широкого мола, одновременно высаживая десантников с помощью баркасов. Около 5 ч утра закончил высадку частей крейсер «Красный Крым», ставший на якорь в двух кабельтовых от Широкого мола.
Теплоход «Кубань», имея на борту более 2 тыс. десантников, 200 т боеприпасов и продовольствия, 72 лошади, 12 противотанковых орудий, 18 спецавтомашии, 19 повозок, подошел к Феодосийскому порту на рассвете 29 декабря. В 7 ч 30 мин с крейсера «Красный Кавказ» от командира высадки капитана 1 ранга П. Е. Басистого поступил приказ заходить в гавань. Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем транспорт вошел в порт и ошвартовался у Широкого мола, к причалу № 5. При подходе в судно угодили два снаряда: один разорвался вблизи шлюпочной палубы, другой – у четвертого трюма. 32 десантника были убиты, свыше 30 получили ранения. В районе машинного отделения начался пожар, но экипаж быстро потушил его.
Первым спрыгнул на причал помполит В. П. Ярошенко. Он принял и закрепил швартовые концы, помог установить сходни. По ним, штормтрапам и парадному трапу устремились на берег десантники. На теплоходе энергично и слаженно действовал весь экипаж, бесперебойно работали механизмы. Выгрузка материальной части, снаряжения, продовольствия была закончена на 2 часа раньше намеченного срока. Судно выходило из порта тоже под артиллерийским и минометным огнем с берега. В 11 ч 40 мин снаряд угодил в грузовую стрелу правого борта носового трюма. Осколком был убит на ходовом мостике капитан Г. И. Вислобоков. Его заменил старший помощник капитана С. М. Шапошников. Теплоход, [94] следуя форсированным ходом в сопровождении тральщика, вырвался из зоны обстрела, но в этот момент был атакован бомбардировщиками Ю-88. Зенитчики корабля охранения: и транспорта своим огнем сумели затруднить их действия, и теплоход не пострадал.
Утром 30 декабря «Кубань» возвратилась в Новороссийск, доставив в порт около 100 убитых и до 350 раненых бойцов и командиров. Само судно во многих местах было повреждено. Экипаж насчитал около 300 осколочных пробоин в корпусе и средней надстройке.
Военное командование высоко оценило умелые и самоотверженные действия моряков теплохода. Несколько позже экипаж «Кубани» за образцовое выполнение задания по высадке десантных частей в порту Феодосия занесли в Книгу почета НКМФ. Орденом Ленина были награждены Г. И. Вислобоков (посмертно) и С. М. Шапошников. Ордена Красного Знамени удостоился В. П. Ярошенко, а ордена Красной Звезды – старший механик Г. А. Сорокин, второй механик Т. В. Чумак, третий механик В. Ю. Сабалис, матросы С. А. Белоусов, П. А. Богинич, С. И. Войхевич, С. А. Миронов, Б. И. Чернец, Н. М. Шутов.
К исходу дня 29 декабря стрелковые части передового десантного отряда освободили Феодосию. В это время в порту началась высадка основных сил десанта крупными теплоходами и пароходами Черноморско-Азовского бассейнового управления. Отряд из 9 транспортов доставил к вечеру следующего дня первый эшелон войск 44-й армии – две стрелковые дивизии.
Через несколько часов начал втягиваться в порт второй отряд судов с горнострелковой дивизией на борту.
Высадка главных сил 44-й армии проводилась под ожесточенными налетами вражеской авиации. Большие группы самолетов, появлявшиеся одна за другой над Феодосийской гаванью, наносили мощные бомбовые удары прежде всего по транспортам. Несмотря на это, экипажи судов действовали хладнокровно и собранно, проявляя мужество и профессиональное мастерство.
Паровая шхуна «Азов» (капитан Ф. Г. Родити), высадившая десантников следом за «Кубанью», получила приказ следовать в залив, чтобы снять с «Красного Кавказа» военную технику. Крейсер в это время поддерживал артиллерийским огнем стрелковые части, которые вели ожесточенные бои на улицах Феодосии. «Азов» принял на борт 15 орудий, 15 специальных автомашин, [95] 40 т боеприпасов и в ночь на 30 декабря выгрузил их на причал.
Как раз в это время входил в порт первый отряд транспортов. Пароход «Ташкент» (капитан К. И. Мощинский) швартовался третьим. Сильным отжимным северо-западным ветром его понесло на следовавшее за ним судно. Чтобы избежать аварии, «Ташкент» вышел задним ходом между пароходом «Шахтер» и судами, которые были в кильватере. Пришлось выгружаться на причале у брекватера. С наступлением рассвета находившиеся на борту три полка стрелковой дивизии благополучно сошли на берег и с ходу развернулись для участия в боях, которые уже переместились за черту города.
Оставалось выгрузить 1 тыс. т боеприпасов и лошадей. Однако дальнейшая стоянка здесь была слишком рискованной – район волнолома и «Ташкент», как самый крупный транспорт, продолжали подвергаться непрерывным атакам с воздуха. И пароход получил распоряжение перешвартоваться к другому причалу. Капитан, не дождавшись буксира, решил отходить самостоятельно, но при развороте пароход намотал на винт часть притопленных боносетевых тросов. Лишившееся хода судно было перетянуто к другому причалу ледоколом «Торос».
Вражеская авиация особенно неистовствовала 31 декабря. Большие группы «юнкерсов» шли волна за волной. В тот день на участок акватории, где стоял «Ташкент», они сбросили 360 авиабомб разного калибра. Однако выгрузка парохода не прекращалась. Она лишь замедлялась, когда часть команды с появлением в воздухе самолетов становилась к орудиям и пулеметам.
В тот тяжелый день транспортный флот понес первую крупную потерю. Утром, когда десант уже был высажен на берег, в пароход «Красногвардеец» (капитан Д. В. Кнаб) попали фугасные бомбы. Затопило два трюма, погибло около 60 лошадей. Судно носовой частью село на грунт. Из кормового трюма удалось выгрузить 47 лошадей. Экипаж покинул тонущий транспорт.
Около полудня получил повреждение пароход «Г. Димитров». Судно, управляемое капитаном Л. С. Борисенко точно в срок подошло к месту высадки, хотя бушевал шторм и не было буксирных катеров. При швартовке матросы Корчицкий и Нестеров сползли за борт по спущенным с носа концам и, раскачавшись, перепрыгнули [96] на причал, чтобы закрепить швартовы на кнехтах. За время выгрузки в районе стоянки судна разорвалось более 50 авиабомб. В 11 ч 30 мин от прямого попадания одной из них во второй трюм возник пожар, но он был быстро локализован.
При отражении атак самолетов отважно действовали комендоры судна.
Медицинская сестра А. К. Нога во время бомбежек, сойдя на берег, оказала первую помощь 35 раненым бойцам и перенесла их на судно. Все они были доставлены в базу и направлены в госпиталь. Медсестра за это удостоилась ордена Красной Звезды.
Теплоход «Анатолий Серов» (капитан А. А. Орлов) 31 декабря в Феодосии тоже подвергался массированным налетам фашистской авиации. Отражая их, артиллерийские расчеты более 10 часов на сильном морозе стояли у пушек. У некоторых матросов были отморожены уши, руки, но никто не оставлял своего поста. Плотный заградительный огонь вели коммунисты третий механик Островский, комендор Пищулин и другие бойцы и командиры орудийных расчетов. Группа краснофлотцев во главе с четвертым механиком Костенко бесперебойно подносила снаряды.
Теплоход «Калинин» (капитан И. Ф. Иванов) прибыл в Феодосию из Туапсе в составе второго отряда транспортов в ночь на 31 декабря. Выгрузку экипаж закончил после полудня. И все это время один за другим следовали налеты самолетов противника. Часто судно попадало в вилку разрывавшихся вблизи бомб. Но всякий раз беда проходила стороной. На транспорте с наступлением дня почти не замолкали пушки и пулеметы. Четко управлял зенитным огнем военный комендант судна лейтенант А. И. Бондаренко.
Капитан теплохода в моменты затишья наблюдал с ходового мостика, как вереница грузовиков и повозок с боеприпасами тянется к линии фронта, которая за ночь переместилась на несколько километров от города.
С окончанием выгрузки «Калинин» получил приказание вместе с пароходом «Фабрициус» (капитан М. И. Григор) выйти на внешний рейд, где ожидать сформирования конвоя. Там сторожевые катера перевезли раненых с «Фабрициуса» на борт «Калинина», на котором была оборудована хирургическая палата. Вскоре подошел пароход «Г. Димитров», и суда в охранении боевых кораблей направились в Новороссийск и Туапсе [97] другими десантными подразделениями и военными грузами.
К этому времени высадка основных сил десанта была закончена. Суда морского флота, входившие в состав первого и второго отрядов транспортов, доставили в Феодосию 17 635 человек, 1478 лошадей, 34 танка и танкетки, 127 орудий и минометов, 291 автомашину, 18 тракторов, 137 повозок, 634 т боеприпасов {73}.
В обстановке активного противодействия врага транспортный флот нес потери. В ходе операции погибло несколько судов, в том числе пароход «Ташкент».
Этот транспорт затонул в Феодосийской гавани после высадки стрелковой дивизии из состава первого эшелона десанта. Днем 31 декабря он закончил выгрузку, но уйти из порта из-за намотавшихся на винт боковых тросов не мог. В новогоднюю ночь на помощь команде прибыли саперы. Подрывом тросов удалось к полудню освободить винт.
Пароход уже начал было разворачиваться для выхода из гавани, как над портом появились вражеские самолеты. Все 8 орудий и 6 пулеметов судна открыли заградительный огонь. Двенадцать «юнкерсов» один за другим начали пикировать. Атаки 11 бомбардировщиков закончились безрезультатно. Последнему же самолету удалось поразить «Ташкент» четырьмя бомбами. Машина и другие механизмы были разрушены, вахтенные вместе со старшим механиком С. И. Афанасьевым и все, кто работал на камбузе, погибли. Многие моряки были ранены. Через пробоину в корпусе хлестала вода. Крен судна доходил до 22 градусов. Однако аварийная партия сумела завести два пластыря, и течь прекратилась.
Во время следующего авиационного налета прямым попаданием бомбы пробило правый борт в районе форпика. По левому борту возник пожар. Его тушением руководил помполит В. И. Пожидаев. Воду подавали из-за борта ведрами – пожарные донки оказались разбитыми.
Вскоре экипажу пришлось выдержать еще одну массированную атаку, в которой участвовало 15 бомбардировщиков. В судно угодило много фугасных и зажигательных бомб. Огонь полыхал по всему пароходу. Затопило все трюмы, и «Ташкент» в 15 ч сел на грунт. Вода покрыла главную палубу. [98]
Капитан транспорта К. И. Мощинский энергично руководил борьбой за живучесть судна до последней возможности. Одна из бомб угодила в мостик, но не взорвалась, а пробила его насквозь. Капитан, сильно контуженный, провалился в горящие обломки кают-компании. Помполит и матрос Загорулько извлекли его из-под обломков и перенесли в относительно безопасное место. Придя в сознание и убедившись, что спасти пароход невозможно, Мощинский приказал команде покинуть судно. Из 79 членов экипажа «Ташкента» 18 погибло и 12 было ранено.
После высадки основных десантных сил 44-й армии суда Черноморско-Азовского бассейнового управления переключились на подвоз в Феодосию воинских резервов, вооружения, боеприпасов, продовольствия и на вывоз оттуда раненых. Каждый их рейс был поистине героическим. Фашистские самолеты преследовали их днем и ночью, наносили бомбовые удары на коммуникациях, при подходе к порту, на рейде и у причалов, ставили магнитные мины у входа в гавань. Выгрузка-погрузка в дневное время стали почти невозможны. Поэтому приход транспортов обычно приурочивался к вечернему времени, чтобы они могли к рассвету закончить разгрузочно-погрузочные операции и уйти в море.
В январе 1942 г. на море господствовали штормы с пургой и морозами до 20-25 градусов. Густые туманы, обычные для района Феодосийского залива, усилились еще более. Это чрезвычайно затруднило движение судов. Они часто прибывали к порту с запозданием. В этих случаях им приходилось уходить далеко в море и дожидаться там наступления вечера следующего дня, когда можно было приступить к разгрузочным работам.
Фашистская авиация быстро приноровилась к тактике перевозок. Обычно с 20 до 2 ч ночи ее самолеты барражировали на малых высотах от мыса Ильи до входа в Феодосию, нападая на любой замеченный на воде движущийся объект. Кроме того, она каждую ночь методически бомбила порт и причалы.
4 января пароход «Фабрициус» в охранении сторожевых катеров направился из Туапсе в Феодосию. На его борту находилось 2500 бойцов и командиров, а в трюмах – 300 т боеприпасов. Капитан М. И. Григор получил предписание, прибыв на место вечером, за ночь выгрузиться и к рассвету выйти в обратный рейс. Однако судно из-за шторма подошло к берегам Крыма лишь утром. [99] Пришлось отойти от порта. Вечером пароход возвратился к Феодосии. При подходе к гавани он попал в пургу и туман. Но опытный капитан М. И. Григор по еле различимым очертаниям возвышенной части побережья начал подходить к защитному молу. Сам порт был ярко освещен заревом. Это уже четвертые сутки горело нефтяное топливо на полузатонувшем пароходе «Зырянин». Справа у одного из причалов Широкого мола просматривались контуры теплохода «Ногин», осевшего кормой на грунт. Из-за гор вспыхивали зарницы от залпов двенадцатидюймовых башенных орудий линейного корабля «Парижская коммуна» {74}. Линкор из района Феодосии вел огонь по артиллерийским батареям противника, препятствовавшим продвижению высадившихся войск на Керченском полуострове {75}.
«Фабрициус» уже находился у входного маяка, когда послышался гул моторов низко летящих самолетов, и тут же началась бомбардировка акватории порта. Пришлось развернуться и снова уйти в море к мысу Ильи. Ошвартоваться к причалу удалось лишь после полуночи. Поэтому до рассвета разгрузить боеприпасы не успели. И пароход опять ушел в море и до вечера маневрировал вне видимости берегов. Выгрузка полностью была завершена лишь к утру, уйти же сразу транспорт не смог. При подъеме правого якоря вышел из строя брашпиль. Попытка разъединить скобу якоря-цепи тоже не удалась. Между тем уже совсем рассвело. Тогда М. И. Григор распорядился отдать жвака-галс. Якорь-цепь ушла за борт, и «Фабрициус» получил возможность двигаться. Форсируя ход, он лег курсом на Новороссийск.
Старый азовский пароход «Чатырдаг» (капитан П. Я. Исаченко) к утру 9 января в Феодосии закончил разгрузку и в сопровождении сторожевого катера вышел в море. У мыса Ильи он подвергся нападению семи фашистских самолетов. Через несколько минут они повторили атаку. Тогда судно вслед за катером повернуло обратно к порту. У маяка пароход семафором передал о полученных повреждениях и просил выслать охранение для дальнейшего следования. Не успел он закончить переговоры, как показались еще десять вражеских самолетов. [100] Разомкнувшись в стороны веером, они звеньями пошли в атаку. В «Чатырдаг» попали три бомбы. Одна из них, разорвавшись у борта, пробила корпус ниже ватерлинии. Затопило первый и второй трюмы. Старший механик Хозе М. Таридас делал все возможное, чтобы заделать пробоину. Он до последнего момента оставался в машинном отделении тонущего парохода. Капитан П. Я. Исаченко приказал команде оставить судно. Спасательный бот оказался изрешеченным. Рабочая шлюпка смогла принять немногих, на ней разместили в первую очередь женщин. Остальные бросились вплавь в спасательных нагрудниках. Их подобрали из воды портовые плавсредства.
На подходе к Феодосийскому порту подорвался на магнитной мине теплоход «Жан Жорес». Оп отправился сюда вечером 14 января из Новороссийска с войсками и военным грузом на борту. На следующий день в 20 ч транспорт ошвартовался в Феодосии. До 5 ч утра успели выгрузить лишь людей и часть вооружения. В целях безопасности по распоряжению старшего морского начальника судно в сопровождении тральщика «Геленджик» оставило порт.
После полудня оно повернуло обратно в расчете подойти к Феодосии в 21 ч. От мыса Ильи теплоход следовал с военным лоцманом. Портовый маяк не горел. Поэтому вскоре к судну подошел сторожевой катер и повел его за собой. В момент поворота к порту «Жан Жорес» наскочил на мину. Раздался взрыв огромной силы. Загорелись боеприпасы в трюме. Однако вода, хлынувшая через большую пробоину в районе машины, затопила их, погасила пожар. Она продолжала хлестать и в течение 3 минут залила помещения от машинной переборки до кормы, которая быстро осела. Носовая часть оставалась на плаву, но вода проникла и сюда.
Капитан судна Г. И. Лебедев приказал спустить шлюпки, но шлюпочное устройство оказалось разрушенным. Подоспевший на помощь катер «Кабардинец» снял бойцов, раненых и часть команды. Затем подошел тральщик «Геленджик». Он принял на борт снятые судовые приборы (хронометр, секстан, радиопеленгатор) и остальных членов экипажа. Последним покинул транспорт его капитан.
Теплоход «Жан Жорес» погиб накануне оставления нашими войсками Феодосии. Противник, сосредоточив мощную группировку, нанес контрудар на феодосийском [101] направлении. Десантные части не смогли выдержать этого натиска и 18 января покинули город и порт.
Когда все это происходило, из Новороссийска курсом на Феодосию шел с продовольствием старый тихоходный пароход «Одесский горсовет». Неопытный радист сообщения об оставлении города не принял, и капитан, введя судно в горящий порт, начал швартоваться к причалу. С берега открыли минометный огонь. Видя неладное, капитан дал полный ход назад и, маневрируя, стал выбираться из бухты. Мины ложились рядом, но ему удалось вывести пароход из зоны огня и благополучно привести в Новороссийск.
Несмотря на потерю Феодосии, Керченско-Феодосийская десантная операция завершилась крупным успехом. Советские войска овладели плацдармом на Керченском полуострове, где был развернут новый, Крымский фронт. На оказание помощи ему и были сосредоточены дальнейшие усилия транспортного флота. [102]
Для войск Крымского фронта
В январе – мае 1942 г. Керченский полуостров стал ареной жестоких боев. Транспортный флот Черноморско-Азовского бассейна в этот период активно участвовал в перевозках для Крымского фронта, а затем и в его эвакуации.
Главными базами пополнения и снабжения войск, действовавших на Керченском полуострове, были Новороссийск и Туапсе. С усилением бомбардировок этих портов фашистской авиацией перевозки грузов и войск осуществлялись также из Геленджика и Анапы, из портов Азовского моря – Темрюка и Ахтари, из ближних пунктов восточного побережья Керченского пролива – Тамани и Сенной.
На западном берегу пролива перевалка грузов для Крымского фронта шла через Керченский порт (начальник Ф. А. Карпов, затем А. С. Полковский) и порт в Камыш-Буруне (начальник С. М. Маранценбаум).
Порт Камыш-Бурун вступил в строй действующих перед самой войной. Он имел всего один причал и был рассчитан на одновременную обработку не более двух транспортов. К тому же он, как и Керченский порт, во время боевых действий сильно пострадал. На причале лежали два подорванных крапа, перевернутые паровозы и вагоны. Судоремонтный завод был разрушен. [102]
И в Керчи, и в Камыш-Буруне перегрузочных механизмов не было. Эти порты справлялись со снабжением целого фронта лишь ценой наивысшего напряжения всех сил и средств, предельной интенсификации труда грузчиков. Порт Камыш-Бурун стал обрабатывать одновременно до 5 транспортов. За январь – февраль 1942 г. оба порта приняли и выгрузили 267 судов и отправили 254 {76}.
Нехватка угля, тяжелая ледовая обстановка, а в Камыш-Буруне еще и стоянка двух аварийных судов (пароход «Красный Профинтерн» и теплоход «Эмба») затрудняли работу буксирных катеров по перешвартовке приходящих судов. Кроме обычных швартовных операций, занимавших от получаса до часа, при морозах и сжатии льда корабли выводились не только из бухты, но и на внешний рейд за кромку ледяного поля. При этом приходилось буксировать их, чтобы у них не поломались винты. Из-за этого часто не удавалось своевременно ставить суда к причалам. В те дни, когда стояли сильные морозы, выгрузка шла прямо на лед, откуда портовые рабочие переносили груз на берег.
Маневр судов был сильно стеснен в небольшой бухте, прикрытой Камыш-Бурунской косой. Навигационных ограждений не было, а глубины здесь небольшие. Суда почти по грунту входили в порт, вздымая винтами ил, перемешанный со льдом. Ледоколы «Торос» и № 7, обеспечивая ледовую проводку их, с трудом разворачивались в тесном порту.
В ту зиму стояли на редкость суровые морозы. Керченский пролив сковало плотным, торосистым льдом. Судам приходилось форсировать его пядь за пядью. Ломались лопасти винтов, быстро иссякали запасы топлива, котельной воды. Транспорты оказывались среди белого ледяного поля на виду у вражеской авиации, без поддержки сторожевых кораблей, которые не могли действовать во льдах.
Тяжело приходилось судам не только на подходах к портам и во время выгрузки, но и в пути, особенно при прохождении самой узкой части Керченского пролива, среди банок и рифов, по соседству с минными полями. Здесь постоянно появлялись вражеские самолеты.
Морская коммуникация от Туапсе и Новороссийска [103] на Камыш-Бурун после Анапы прижималась к отлогому песчаному берегу Кизилташского лимана и обрывистым откосам мыса Железный Рог. По этому водному пути, характерному наибольшей навигационной опасностью, в мирное время плавали лишь небольшие рыбацкие суда и моторные баркасы. Теперь же здесь ходили и крупные транспорты. От Железного Рога они резко поворачивали на запад и, войдя в Керченский пролив, ложились курсом на Камыш-Бурун. Несмотря на трудности прохода узкости, капитан так рассчитывал рейс, чтобы миновать ее ночью, а с рассветом быть уже в районе порта, под защитой зенитной артиллерии. Но далеко не всегда это удавалось. Зачастую из-за плохой видимости суда отстаивались у берега, ожидая рассвета. А в эти часы у Железного Рога уже дежурили фашистские самолеты. Обычно они атаковали в том месте, где транспорты были почти лишены возможности маневрировать.
С начала марта, когда морозы, пурга и туманы отступили, враг нападал на суда и в сумерках, и в лунные ночи, и в светлое время суток. С рассвета до темноты его воздушные разведчики летали над Керченским проливом, наводя на цели бомбардировщики. С очищением пролива от льда самолеты противника стали забрасывать фарватеры магнитными минами. Усилились воздушные удары по судам, стоявшим в портах.
Несмотря на эти немалые трудности, моряки Черноморского транспортного флота успешно выполняли задания военного командования по доставке Крымскому фронту резервов и всех видов снабжения.
Доблестно, проявляя мужество и стойкость, трудился экипаж теплохода «Ворошилов». Судно с его мощными грузовыми средствами стало плавучим перегружателем на Камыш-Бурунском рейде. До восстановления поврежденных портовых кранов теплоход снимал с прибывших судов тяжеловесную технику (танки, тягачи, орудия, автомашины) и доставлял ее в порт. Чаще всего он разгружался непосредственно на пирс или же через борт неисправного танкера «Эмба», занимавшего часть причала. Это была очень сложная операция. К тому же между судами скапливался лед, и тогда выносы грузовых стрел не доставали до берега.
29 января во время налета вражеской авиации на порт взрыв бомбы вызвал пожар на танкере «Эмба». Это создало серьезную угрозу и для стоявшего рядом теплохода «Ворошилов», палуба которого была завалена боеприпасами. [104] По распоряжению с берега он вовремя ушел на рейд.
Пожар на танкере все усиливался, но ни одно судно не решалось к нему подойти. Тогда капитан «Ворошилова» А. Ф. Шанцберг скомандовал сниматься с якоря и идти на помощь «Эмбе». Во время следования к порту случилась заминка – вышло из строя рулевое управление. Пришлось перейти на ручное управление. К танкеру подошли носом, к его левому борту. Тут же провели туда шланги, включили их в пожарную магистраль «Эмбы» и пустили под сильным напором воду. Использовали и другие противопожарные средства. Но пожар разгорелся настолько сильно, что его удалось потушить лишь через 5 часов.
В течение 14 суток теплоход «Ворошилов» перегружал воинские грузы с прибывавших судов. Перевалка велась под бомбежкой и в тяжелых ледовых условиях. Морозы доходили до 24 градусов. Котельной воды не хватало, ее собирали с разных судов, а затем наступил момент, когда пришлось прибегнуть к питанию водотрубных котлов полусоленой водой. Трубки стали забиваться солью, лопаться. Устранение же течи в них на ходу было далеко не легким делом.
Круглые сутки трудился экипаж на перегрузке и выгрузке. Рабочий день каждого моряка продолжался до 20 часов. Обычно входившие в Камыш-Бурун суда в знак уважения и признательности поднимали флажное приветствие мужественной команде «Ворошилова».
За период с 25 января по 8 февраля 1942 г. теплоход доставил на Керченский полуостров и перегрузил с других судов в порту Камыш-Бурун более 300 орудий, тягачей и танков {77}.
Пароход «Красный Профинтерн» в январе трижды приходил в Камыш-Бурун с воинскими частями и вооружением на борту. 3 февраля во время воздушного налета на порт судно находилось у причала судоремонтного завода. Одна из бомб упала на его переднюю палубу, где стояли цистерны с бензином. Тут же вспыхнул пожар. Полностью сгорели мостик и каюты на спардеке, помещение команды под полубаком, груз в первом и втором трюмах. К счастью, уцелели бронемашины, находившиеся в двух других трюмах, их быстро выгрузили. [105] После ликвидации пожара портовое судно «СП-15» вывело «Красный Профинтерн» из Камыш-Буруна и буксировало его до Железного Рога. Отсюда пароход, машины и котел которого оказались неповрежденными, своим ходом направился к Новороссийску.
Ледовую проводку судов в Керчь и Камыш-Бурун в январе – феврале обеспечивали ледоколы № 7 и «Торос». Так, ледокол № 7 (капитан В. Г. Попов) в те месяцы завел в Камыш-Бурун и ошвартовал 109 судов, вывел из порта 127 теплоходов и пароходов. Давалось это ценой огромных усилий. Не хватало бункерного топлива и пресной воды для питания котлов. Ледокол вынужден был восполнять их запасы за счет обслуживаемых им судов. Причем конфликтов не возникало. Все понимали, что успех дела зависит от общих усилий. И ледокол работал без простоев.
3 января ледокол «Торос», погрузив на палубу 60 бочек нефтепродуктов, направился в Керчь, куда пришел на следующий день. С этого момента началась для него напряженная работа по буксировке и проводке через тяжелые льды судов транспортного флота.
Так же напряженно трудился экипаж «Тороса», обеспечивая движение флота на рейде Камыш-Буруна и в порту. А возможностей для этого было не очень много. Изношенность котлов не позволяла держать необходимое давление пара, плохое качество угля изнуряло кочегаров, не хватало пресной воды. Вскоре котлы пришли в такое состояние, что пришлось отправить судно в Туапсе на краткосрочный ремонт.
В начале марта ледокол участвовал в буксировке из Новороссийска в Керчь плавучего дока, груженного паровозами. Тогда на Керченском полуострове уже началась весенняя распутица. Перевозка средств боевого питания войск в глубь полуострова по грунтовым дорогам резко затруднялась. Чтобы поправить положение, Военный совет Крымского фронта принял решение ввести в эксплуатацию железнодорожный путь, проложенный от Керчи на Владиславовну, но сохранившийся здесь локомотивный и вагонный парк был не в состоянии обеспечить работу этой дороги. Поэтому Черноморско-Азовское бассейновое управление получило задание доставить сюда дополнительный подвижной состав с побережья Кавказа.
Задача оказалась не из легких. Ни соответствующих судов, ни кранов для погрузки и выгрузки паровозов и [106] вагонов не было. Выход из положения подсказал эвакуационный опыт осени 1941 г. – решили воспользоваться выведенным из Одессы 4000-тонным плавучим доком (капитан В. Кордис). На нем уложили три линии рельсовых путей, по которым погрузили 10 паровозов, 26 шестидесятитонных вагонов и 9 нефтецистерн. Вагоны заполнили военными материалами и железнодорожным оборудованием. На борту дока установили шесть 45-миллиметровых пушек, два четырехствольпых и два обычных пулемета, которые обслуживались 35 военными моряками. Вместе с подвижным составом в Керчь отправлялись локомотивные и поездные бригады (60 человек), а также 15 рабочих строительного батальона.
Подготовительные работы были завершены в короткий срок. Этому во многом способствовали большие усилия доковой команды, и прежде всего докмейстера С. А. Лазукина.