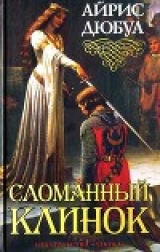
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Выходит, и Марсель не лучше. Про Марселя, правда, давно уже говорили разное: и что властолюбив стал непомерно, и что всех своих родственников рассовал на теплые места. Это и Жиль еще говорил. Ну хорошо, а он сам? Урбан слышал, что Жиль вроде вернулся из-под Мо с остатками своего отряда; неужели и он голосовал за капитанство иуды?
Вот и выходит, что в мире только таким и хорошо, кто готов любую мерзость сожрать, если на закуску посулят власти или золота. А честь ничего больше не стоит. Это только в песнях менестрелей предателя настигает возмездие, а в жизни небось мессира Ганелона [103]не конем бы разорвали, а наградили хорошим феодом. Или тоже сделали бы генеральным капитаном…
Робер думал свои невеселые думы, отлеживаясь в каморке на постоялом дворе или бесцельно бродя по окрестностям Ктамара, среди полей уже готовой к жатве пшеницы. Этот край и в самом деле выглядел сравнительно мирным, рутьеры здесь бесчинствовали весной, а потом ушли, большинство – в армию Наварры, и без них стало спокойнее.
Глядя на работающих крестьян, он в который уже раз спрашивал себя, для чего так странно и необычно сложилась его жизнь, для чего понадобилось судьбе отдать его на воспитание отцу Морелю, свести с Аэлис, несбыточной мечтой отравить сердце… Почему из всех детей, осиротевших в тот год (а их было много, «черная смерть» косила сплеча и наотмашь), кюре выбрал именно его? Он мог бы вырасти в деревенской семье, жить обычной жизнью крестьянина, бесконечно далекой от жизни обитателей замка. Лучше это было бы или хуже? Как посмотреть… Уж во всяком случае спокойнее; но нет, он не избрал бы сейчас такой доли, если бы вдруг добрый волшебник предложил ему вернуться на десяток лет назад и чтобы все обернулось по-другому. Не избрал бы, даже зная – как узнал теперь, – что и на этом втором, таком заманчивом на первый взгляд, пути его не ждет ничего хорошего…
Однажды он попытался поделиться своими мыслями с Като. Он уже привык к ее ненавязчивому присутствию, она обычно была где-то рядом, тихая, всегда чем-то занятая – то починкой одежды, то стряпней, то травами, которые постоянно сушила и перебирала. Скорее молчаливая, не в пример иным женщинам, она могла вдруг озадачить каким-нибудь странным вопросом вроде: «Скажи, о чем ты сейчас думаешь?» Робер обычно всерьез на такое не отвечал, но однажды все-таки ответил – попытался, во всяком случае. Она выслушала его очень внимательно, а потом, помолчав, сказала, что покойный отец Морель его бы за такие рассуждения не похвалил.
– Это еще почему? – спросил Робер.
– Ты так рассуждаешь оттого, что в Промысле сомневаешься. Он всегда говорил, что это большой грех – сомневаться в Божьем промысле. Человек хочет одного, уж как добивается, а в жизни у него совсем по-другому выходит и всегда как лучше. Бог лучше знает, что кому из нас положено.
– Так-то оно так, но только всегда ли выходит как лучше? По-твоему, Калю тоже оказалось лучше, когда ему на голову насадили раскаленный таган?
– Неужто же нет? – Като глянула на него в недоумении, широко раскрыв глаза, явно дивясь его непонятливости. – Что может быть слаще мученической кончины за правое дело?
– Тебе бы такую сласть! – проворчал Робер.
– Страшно, конечно, кто ж спорит, – согласилась девушка. – Но это уж по слабости и еще оттого, что думать о смерти никому не хочется. Хотя каждый знает, что никуда от нее не уйдет, по великой милости Создателя. Ты может, хотел бы уподобиться тому несчастному, которого здесь, на земле, обрекли на вечную жизнь? Вот уж это страшно так страшно, по-настоящему. А умереть… ясно, всякому хотелось бы, чтобы это случилось не так скоро и лучше бы в мире и покое, но что наши сроки и наши страдания в сравнении с тем, что ждет там? Мученик зато сразу удостаивается блаженства, а так поди еще заслужи… в чистилище насидишься, сама рада не будешь. Ты лучше подумай о тех несчастных, кого предают лютой казни за разбой или за убийство, да мало ли за какие грехи; вот тех и в самом деле жалко. Страдать они страдают, а святыми мучениками их не назовешь…
– Вот-вот, – Робер пальцем постучал по столу, – а ты знай будешь твердить, что все выходит как лучше! Им-то почему такое?
– Бог про то ведает, не беспокойся…
Умом Робер понимал, что она права, ведь о том же говорил всегда и отец Морель, но принять все это сердцем было труднее. Наверное, слишком хотелось счастья уже сейчас, здесь, на земле. А для нее все так просто, ясно! Удача у тебя – хорошо, неудача – ладно, на том свете возместится… хотя, конечно, без воздаяния ничто не остается.
Впрочем, не так уж его занимали эти вопросы, он ведь не клирик, и нечего пытаться постичь непостижимое. Непонятно только было, как же теперь жить дальше – для чего, ради какой цели?
Урбан еще раз побывал в Париже, вернулся возбужденный, сказал, что там теперь такое делается – вообще ничего не понять. Дофин вроде объявил перемирие и распустил армию, снявши осаду, но в самом городе страсти разгорелись еще пуще; сперва горожане перебили наваррских годонов – ловили по всем закоулкам, иных даже из блудилищ выволакивали за ноги; после годоны перебили множество горожан в Булонском лесу (аккурат там, где он, Урбан, промышлял когда-то королевских косуль), и за то побоище винят теперь Марселя, будто он нарочно завел ополченцев в гиблое место. Громче всех кричат об этом люди Майяра, а люди Марселя в ответ грозятся в одночасье перерезать ночью всех дофиновых выкормышей с женами и детьми, чтобы и на развод не осталось.
Все эти новости Урбан принес во вторник, а двумя днями позже к хозяину постоялого двора примчался на взмыленной лошади племянник, служивший стражником в Вожираре. Герцог Нормандский, сказал он, нынче утром вступил в Париж, Марселя же порешили вчера у ворот Сен-Дени, которые он хотел открыть людям Наваррца…
Неделей позже, когда они вместе с каким-то торговым обозом вошли в Париж через заставу Сен-Мишель, город выглядел уже спокойным, будто и не было этих безумных месяцев. Лавки были открыты, возле коллегии каноника Сорбона, по обыкновению, горланили буйные школяры, лишь изредка по улице проезжали попарно конные сержанты с вышитыми на груди лилиями Валуа; прохожие делали вид, что их не замечают.
Робер с тревогой спрашивал себя, цела ли мастерская Оливье и в Париже ли он сам. Им-то с Урбаном нетрудно найти временное пристанище, а вот Като в каком-нибудь «Веселом петухе» не поселишь, можно было бы пристроить ее у дамы Маргот, но сейчас обращаться с такой просьбой неловко, ей теперь не до этого. О казни Жиля Робер уже знал, бедняга оказался в числе первых жертв: вместе с ним – в первые же два дня после занятия Парижа войсками регента – были обезглавлены на Гревской площади эшевен Шарль Туссак, казначей Карла Наваррского Жосеран де Макон, кастелян Лувра Жиль Гайяр, в свое время переметнувшийся на сторону Марселя и выдавший ему луврскую артиллерию.
К счастью, Оливье оказался на месте, цел и невредим. Когда Робер, приоткрыв дверь, заглянул в мастерскую, иллюминатор был занят обнюхиванием и ощупыванием листов пергамена, стопку которых держал перед ним мальчишка-рассыльный из лавки мэтра Беранже, знакомый Роберу еще с зимы. Оглянувшись, мальчишка подмигнул ему, как старому приятелю, и, кивнув на художника, скорчил неописуемую гримасу, словно приглашая разделить недовольство требовательностью заказчика.
– …нет-нет, – продолжал бормотать Оливье, – этот я не возьму, я ведь говорил уже в прошлый раз – не нужны мне эти итальянские выдумки, так хозяину и скажи. Пергамен должен быть хорошо выглаженным, кто же спорит, но не лощеным! А это что? Тут один мел, а уж залощено, что твоя слоновая кость. Зачем, а?
– Красивше так, – убежденно сказал мальчишка, шмыгнув носом.
– Ну, это знаешь, кому что нравится. Да не в том дело, красиво или некрасиво! Дело в том, что такой пергамен краску не держит, понятно тебе? Вот напишу я на таком, к примеру, Благовещение, а через сто лет мессир святой Гавриил останется без руки или без крыла или – чего Господь не допустит – у самой Девы краска на личике облупится? Соображаешь, что нам тогда с тобой за это будет?
– А, плевать, – ответил мальчишка вольнодумно.
– Это сейчас, – заверил Оливье. – Но когда тебе добавят лишнюю пару веков кипячения в смоле за то, что принес мне негодный товар…
– Ну, за это пускай мэтра Беранже кипятят, мое дело маленькое – ношу что дают.
– Он свое получит, не волнуйся! А сейчас забери это, и пусть хозяин пришлет дюжину листов хорошей пористой выделки, и чтобы мела было не слишком много, а то всякий раз скоблить приходится. Он думает, мелом затер – и уже высшее качество? Скажи, так только дурака можно провести…
Робер, потеряв терпение, шагнул вперед и хлопнул иллюминатора по плечу – тот, обернувшись, ахнул и выронил листы.
– Робер! – закричал Оливье. – Ты жив?!
– Не, он с того света явился, – объяснил мальчишка, подбирая с полу рассыпанный пергамен. – Пусть расскажет, что там с такими художниками делают, у каких краска не держится…
– Ну, пощупай, – улыбаясь, предложил Робер. – Я рад тебя видеть, друг Оливье.
– Да ведь мне сказали, что ты убит под Мелло! Из тех, кто оттуда вернулся, двое видели, как тебя топорами рубили…
– Меня, друг Оливье, простым топором не возьмешь, а заговоренный про мою душу еще не выкован. А вообще не врали они, я и сам не знаю, как уцелел, – конь вынес беспамятного, а выходила меня… – Он оглянулся и пальцем поманил свою спутницу, оставшуюся стоять на улице у дверей.
Катрин несмело вошла, следом наполовину протиснулся Урбан.
– Так я пойду тогда, ладно? – спросил он. – Раз ты своего дружка разыскал…
– Да-да, ступай, – сказал Робер. – А тебя где найти в случае чего?
– Да я сюда буду наведываться. Ну, так поклон честной компании и удачи тебе, господин! – С этими словами Урбан выдвинулся из мастерской обратно на улицу и исчез.
– С него Голиафа хорошо бы написать, – мечтательно сказал Оливье. – Или, еще лучше, Самсона. Да, так ты начал рассказывать…
– Я говорю, вот кто меня выходил тогда, после сражения. – Робер обнял девушку за плечи и привлек к себе. – Знакомься, это Катрин, подружка моя, считай сестренка. Кабы не она…
Он еще сильнее притиснул ее с грубоватой лаской и, мельком глянув на ее зардевшееся лицо, на миг даже смутился – столько радости, почти счастья было в ее глазах, широко распахнувшихся навстречу его взгляду. Смутился от неловкости, словно не подумавши дал кому-то обещание, которого не мог и не собирался исполнить…
– Травами меня отпоила, – продолжал он, – по травам она мастерица, истинная ведунья. У тебя, друг Оливье, нет ли какой хвори? Если что, Като мигом на ноги поставит!
– Нет, – рассмеялся Оливье, – врачевать меня не надо, а вот подкормить бы неплохо, служанка моя, похоже, захворала, потому что не пришла сегодня, и это некстати, – вас надо угостить, а сам я стряпать не умею. Когда она не приходит, обедаю в харчевне. Может, туда пойдем?
– Если господин позволит, – робко предложила Катрин, – я могла бы сама что-нибудь сделать…
Оливье тут же увел ее показывать кухню и кладовую, посетовав, что там почти пусто, – в последние дни с продовольствием в городе стало полегче, но все равно настоящего подвоза пока нет. Робер прошелся по мастерской, постоял перед рабочим пюпитром, где теснилось множество черепков и горшочков с разноцветными жидкостями и на наклонной доске был приколот лист пергамена, уже разлинованный для переписчика и размеченный свинцовым карандашом под будущую заставку. Выходит, все это время Оливье тут и просидел над своими картинками? Робер сам не знал, завидовать другу или, напротив, жалеть его за такую странную жизнь. Впрочем, наверное, не менее странной кажется художнику та жизнь, которую ведет он, Робер.
– Какая славная девушка, – с чувством сказал Оливье, неслышно войдя в мастерскую. – Я рад за тебя. Когда свадьба?
– Свадьба? – рассеянно переспросил Робер, разглядывая ярких крошечных человечков на уже готовом листе, повешенном для просушки. – Чья свадьба?
– Твоя с Катрин, чья же еще, я про вас спрашиваю.
– Ты что? – Робер обернулся и ошалело уставился на друга. – Какая свадьба, опомнись! С чего ты взял?
В свою очередь изумился теперь и Оливье:
– Как – а вы разве не… Ты же сам сказал – подружка!
– Да не в том вовсе смысле, я после сказал – сестренка, это вернее…
– Но ты говоришь, она тебя выходила…
– Так что с того, потрох дьявола! – заорал Робер, уже потеряв терпение. – А если бы меня выходила столетняя ведунья, я и на ней бы должен был жениться? На кой черт мне жена, я – солдат! Тебе Като понравилась? Вот и женись на ней, за чем дело стало, все равно надо ее куда-то пристраивать!
– Я бы женился, – серьезно ответил Оливье, – если бы хоть раз она посмотрела на меня так, как смотрит на тебя. Неужто ты не замечаешь? Давеча, когда ты ее обнял, она вся прямо осветилась изнутри…
– Брось ты вздор болтать. Расскажи лучше, как тут жил!
– Мне и рассказывать-то нечего, жил как всегда… работал. Поголодать пришлось, да это при тебе еще началось. Что я? У тебя-то больше было приключений!
– Да, у меня… приключений хватило, – невесело согласился Робер. – С Марселем как получилось, кто его прикончил?
– Никто толком не знает. Одни говорят – сам Майяр, а от других я слыхал, что старшину убил его свояк, рыцарь Дез-Эссар. Ночью дело было, а утром Майяр с братом прискакали верхом на Рынок, кричат: «Ноэль королю и герцогу!» – люди сперва и не поняли, какому королю, думали – Наварре… Ну, тут же послали к дофину. А тот двенадцать голов потребовал, говорят, иначе не соглашался. Из тех, кого он назвал зачинщиками, трое были убиты в ту ночь вместе с Марселем, оставалось восемь, вот их всех одного за другим на Гревскую площадь и свезли. Вчера казнили двух последних, легистов Годара и Люизьё. А Пьер Жиль, у которого ты служил, его…
– Да, я знаю, – прервал Робер. – Жиля мне жалко, хороший был человек… может, в чем и ошибался, но зла в нем не было.
– Да, мне о нем и отец приор… – Оливье вдруг вскочил и хлопнул себя по лбу. – Как же это я чуть не забыл!
– Про что?
– Приор из Сент-Элуа – мэтр Берсюир, тот, что Ливия переводит! Он мне еще с месяц назад сказал – ты, говорит, знаешь того молодого капитана, что служил у Жиля; так вот, когда они в поход уходили, мэтр Жиль просил передать, что ежели с ним что случится, а ты останешься живой, то чтобы непременно пришел к отцу приору.
– Это зачем же?
– Не знаю, может, оставил для тебя что из одежды? Сходи узнай.
– Схожу… А про супругу Жиля, даму Маргот, ничего не говорили?
Оливье сказал, что о ней ничего не слышат и что вообще старался в последнее время как можно реже бывать на Городской [104]стороне, ибо там большей частью и совершались все неистовства – казни, убиения и прочее.
– Англичан, впрочем, начали вылавливать тут, у нас, – добавил он не без гордости. – Я тогда едва успел запереться, а то бы и ко мне вломились…
– Надо будет туда сходить, – задумчиво сказал Робер.
– Куда?
– На Сен-Дени, навестить госпожу Жиль. Может, ей какая помощь нужна…
– Чем ты ей можешь помочь? Смотри, как бы самого не прихватили, ты ведь был из его людей.
– Не прихватят… Послушай, Оливье, если мы тут у тебя немного поживем – ты не против?
– Я уже Катрин показал, там есть для нее каморка, а ты со мной можешь, если между вами и впрямь ничего такого…
Робер с молчаливой благодарностью потрепал его по локтю.
На следующий день с утра он отправился на улицу Сен-Дени.
Проходя знакомыми местами, сообразил вдруг, что не так уж долго длилось его отсутствие – чуть более двух месяцев, а кажется, что прошла вечность. Неудивительно, что город вчера показался ему ничуть не изменившимся за то короткое время, когда для него, Робера, успел перевернуться весь мир. А тут все оставалось по-старому – кого-то поубивали, взамен кто-то народился на свет, а жизнь шла дальше, на Малом мосту возчики, так же как год назад, препирались с мытной стражей, оспаривая каждый лиар…
У собора он замедлил шаги, постоял в нерешительности, поднялся по ступеням паперти. Внутри было прохладно, пахло камнем и остывшим ладаном. Робер не стал подходить к главному алтарю, не будучи уверен, что имеет на это право, постоял и помолился в приделе – за упокой души Мореля, Симона, Каля и всех тех, чьи имена ведает один Бог, – зарубленных, утопленных, повешенных, затравленных охотничьими псами – всех, чья кровь так щедро напитала этим летом французскую землю. Потом помолился за госпожу Донати, прося для нее покоя и утешения. «Она ведь не виновата, Господи, пусть на меня падет вина за то, что мы сделали, она женщина, что с нее взять, спрос должен быть с мужчины – за двоих сразу, потому что решение всегда за мужчиной. Аэлис, прекрасная моя любовь, неужели это действительно было таким уж страшным грехом…»
Лавку Жиля он ожидал найти запертой и очень удивился, увидев еще издали открытую дверь. Стало быть, никого не тронули из служащих и торговля продолжается? Однако, войдя, он нашел в лавке незнакомых людей и все понял, увидев в руке одного из них короткий жезл с лилией на конце – знак судебного пристава. Незнакомцы рылись в ящиках, ларях, оттаскивали от весов мешки, нюхали и пересыпали из ладони в ладонь содержимое бочонков. Пристав диктовал писцу, разложившему на конторке свои бумаги:
– Гвоздику записал? Сколько – сорок семь фунтов? Верно. Теперь дальше: перец, четыреста тридцать два фунта… Корица – эй, Жанно, сколько там вышло корицы? Восемьдесят два, правильно, пиши – корицы восемьдесят два фунта. Имбирь очищенный, сто десять… Воск, восемьсот сорок пять. Мускатный орех, кожура, двести десять. Сахар, семьсот восемьдесят. Миндаль – вот миндаля у него залежалось изрядно, пиши – две тысячи триста восемьдесят шесть фунтов, видно, неходкий товар…
Тут пристав, случайно оглянувшись, увидел Робера и указал на него своим жезлом:
– А этот малый что тут делает? Чего тебе?
Робер учтиво поклонился:
– С позволения вашей милости – я тут работал когда-то, за хозяином остался должок…
– Должок! – Пристав рассмеялся. – Плакали твои денежки, парень, имущество казненного изменника взято в казну, а его высочество регент платить чужие долги не станет. Он и своих-то не платит!
– Так, может, мне у вдовы спросить?
– Ищи на здоровье вдову, только ее тут нет, потому как дом тоже конфискован и семейство изменника отсюда выселено. А куда, про то мне неведомо. Поспрашивай у соседей, здесь же тебе делать нечего. Ступай, ступай!
Робер пошел к соседу. Дама Маргот, сказали ему, уехала сразу после казни Пьера, на другой же день.
– В Лангедок, верно, подалась, к своим, они ведь родом оттуда, из Монпелье, – добавил кум Грегуар. – А ты-то сам каким чудом уцелел? Мы думали, тебя тоже спровадили…
– Да вот именно что чудом, – невесело усмехнулся Робер и пошел прочь, не оглядываясь.
Ему вдруг захотелось тоже уехать куда-нибудь далеко-далеко, не оставаться в этом огромном и чужом ему городе. К Пьеру Жилю он не мог относиться как к человеку по-настоящему близкому – это был его хозяин, богатый и могущественный господин, ближайший помощник самого Марселя. Робер, испытывая благодарность за доброе к себе отношение, никогда не забывал, что все-таки остается не более чем служащим, хотя и доверенным. Но все равно, ему было хорошо в доме Жиля, дама Маргот, дворянка, не проявляла к нему высокомерия, и дом их действительно стал для него как бы родным, а теперь пуст, разорен. Он еще подумывал, не удастся ли пристроить здесь Като… Да, жаль, что они так долго торчали без толку в этом Кламаре – вернись неделей раньше, он мог бы застать госпожу Жиль и, возможно, уехал бы с ней. Какая-то охрана ей ведь все равно была нужна!
А теперь здесь не осталось никого из близких или хотя бы знакомых – вот разве что Оливье. Но они с ним слишком уж разные… Кстати, не забыть бы про отца приора – зачем он ему понадобился?
Монастырь Святого Элуа располагался в Ситэ, на Бочарной улице. Робер хорошо знал это, потому что именно там стоял со своим отрядом в тот памятный февральский день, когда убили маршалов. Тем лучше, по пути и заглянет, все равно идти мимо.
Сейчас, проходя перед дворцом, он остановился и долго смотрел на громадные двери портала, через которые в то утро ломила разъяренная толпа. Он вспомнил дофина – тщедушного, насмерть перепуганного, в забрызганной кровью белой парче и шутовски нахлобученной набекрень красно-синей шляпе, кособоко съежившегося в громадном кресле с высокой резной спинкой. Какой ничтожной выглядела тогда королевская власть, униженная в лице ее наследника, какой полной казалась победа народа – и как скоро все вернулось к прежнему… Видно, и в самом деле не много стоят такие «победы», когда крикуны и зачинщики дорываются до власти, чтобы обделать свои дела, а расплачиваться приходится потом другим…
Теперь здесь тоже было многолюдно – громадный старый дворец уже при старом короле был частично отдан под разные судебные учреждения (здесь же помещался и парижский парламент), а регент и вовсе не захотел сюда возвращаться, поселившись в своем любимом Лувре. Робер уже отошел, когда его окликнули, – оказался мэтр Бертье, одетый легистом, в долгополой робе и даже с кожаным мешком, в каких носят документы.
– Робер, мальчик мой! – закричал тот обрадовано. – А мне господин Донати сказал, что тебя убили!
– Донати? – Робер задумался, прикусив губу. – Странно… он ведь говорил с Катрин…
– Она-то ему и сказала! Ну, благодарение Богу, видно, бестолковая девка что-то напутала…
«Ничего она не напутала, – подумал Робер, – тут что-то путает сам мессир Франсуа. Ведь, говоря с ней, он видел меня живым, хотя и в беспамятстве. Нет, это он придумал ради Аэлис. Но тогда… выходит, он все знает?»
– Говорят, если про кого облыжно скажут, что помер, то жить ему долго, – сказал он, шутливостью тона пытаясь скрыть вспыхнувшую снова тревогу. – А вы здесь что же, по его делам?
– Нет-нет, я теперь живу в Париже. Какие у него теперь дела? Они ведь в Италию уезжают – теперь-то уж уехали, наверное. Донати торопился, чтобы до осени, пока на море бури не начались, а то госпожа Аэлис боится.
– А-а-а. Так они вместе, значит?
– Да уж теперь, я думаю, после того, что случилось, он супругу ни на один день одну не оставит!
– Пожалуй, – согласился Робер. – Выходит, помирились? Зимой вроде они не ладили.
– Ну, без этого ни одна семья не обходится, все они так – нынче ссора, завтра опять любовь. Я не очень приглядывался, но он к госпоже такой заботливый…
– На кого же оставили Моранвиль?
– Его покупает сир де Луаньи. Крестьянам, пожалуй, это не очень-то будет по душе, да что делать.
– Пусть скажут спасибо, что не Бушар де Вандом.
– Бушара спалили в его собственном замке, ты разве не слыхал?
– Не слыхал, но рад, что услышал.
– Тсс! – Бертье приложил палец к губам, быстро оглянулся. – Мальчик мой, смута забыта и прощена – мы сейчас уже начинаем выдавать разрешительные грамоты [105]даже тем, кто ходил с жаками, – но говорить о ней одобрительно… Ты, кстати, чем теперь занимаешься? И что думаешь делать?
– Не знаю. – Робер пожал плечами. – Придумаю что-нибудь.
– Ты ведь грамотный, почему бы тебе не учиться? Я могу попросить, чтобы тебя взяли к нам – ну, для начала вроде младшим клерком, я буду с тобой заниматься…
– Куда это – к вам?
– Я работаю в конторе мэтра Пастуреля! – Нотарий уважительно понизил голос. – Он далеко пойдет, с ним сам регент то и дело советуется.
– Сам регент! – Робер усмехнулся. – Вы, помнится, не очень-то жаловали Валуа, мэтр Бертье, или я что-то путаю?
– Да-да, ты прав, мы во многом ошибались, – сокрушенно признал Филипп. – Что говорить обо мне! Донати человек сведущий в политике, и смотри как он ошибся в своем выборе – предоставил заем этому никчемному Наварре, теперь деньги наверняка пропали… А Карла Валуа многие тогда недооценивали, что верно, то верно. И еще верно другое – время еще не пришло для того, о чем мы мечтали. «Rex populi gratia», [106]ха! Может быть, когда-нибудь… А пока надо выбирать из того, что есть. Марсель, между нами говоря, тоже оказался не…
– Ладно, чего о нем толковать, мертвых судить легче всего, прервал Робер. – Прощайте, мэтр Бертье, пойду я!
– Ты мне так и не ответил.
– Это насчет того, чтобы клерком? Нет, благодарю, я уж лучше рутьером стану…
После разговора с нотарием чувство тоски и одиночества, не покидавшее его все эти дни, вдруг нахлынуло на него с такой неожиданной силой, что он почти физически ощутил боль от страшного сознания своей ненужности в этом мире. Неужели потому, что услышал о ее примирении с мужем? Но ведь он только что молился о ее покое и утешении, так почему же не радуется теперь? Еще недавно боялся за нее, думая о том, что Донати может узнать все, не находил себе покоя, пока Като, добрая душа, не заверила его, что мессир Франсуа там, в лесу, расспрашивал лишь о здоровье госпожи (кстати, тоже соврала, теперь-то понятно, как и сам Донати соврал потом Аэлис, будто его убили), очень боялся, ведь ничего хорошего от итальянца он не ждал… так почему же не радуется теперь, когда понял, что тот все ей простил? «Госпожа Аэлис боится бури…» – сказал Филипп. Значит, и она примирилась со своей судьбой, иначе бы не боялась…
Горечь обиды подступила к самому сердцу – глупой обиды, Робер это понимал. Нет, он должен радоваться ее примирению с мужем, обязан радоваться, если по-настоящему любит ее… Однако представить себе Аэлис смирившейся, живущей какой-то своей, чужой ему, жизнью было трудно и больно… хотя так, наверное, и должно быть, женщины в таких вещах мудрее; возможно, она просто цепляется за любовь мужа, как за якорь спасения. И возможно, права…
Робер остановился, пытаясь сообразить, куда и зачем идет. Ах да… Но заходить к отцу Берсюиру расхотелось, зайти надо будет, только не сегодня; постояв, он пошел дальше, теперь уже не торопясь. А ему… Что делать ему? С собой, со своими воспоминаниями, с одиночеством. Ведь у него никого не осталось, кроме Като и Оливье. А если подумать, не столько даже Оливье – он хороший парень, и с ним занятно поговорить о его картинках, но… очень уж разная у них жизнь! Значит, остается одна Като. Вот она действительно за это время стала ему как родная – у них с ней даже воспоминания общие, недавно вдруг говорит: «А помнишь, как в Моранвиле лягушки во рву кричат, заслушаешься». Еще бы! Он ведь тоже помнит этот дружный лягушачий хор, ему он тоже вспоминается сладостно, как церковное пение… Но лучше не вспоминать, потому что тогда нынешнее одиночество становится непереносимым…
Робер уже хотел повернуть к дому, но вспомнил о Жиле и устыдился. Нет, в монастырь надо зайти сегодня, негоже медлить, когда дело касается воли покойного.
Брат-привратник долго не мог понять, от какого иллюминатора он явился и зачем ему отец приор, но в конце концов вызвал служку и велел провести. Отец приор принял его в своей келье, сидя за пюпитром, на котором была развернута громадная книга. При виде его Робер испытал самый, пожалуй, сильный испуг за всю свою жизнь. Оглянувшись на скрип двери, отец приор поднял голову, и глаза его полыхнули огнем, словно у зверя, глянувшего ночью на свет яркого фонаря; и самым страшным показалось Роберу то, что глаза эти были не круглые, какие положено иметь всякой живой твари, но четвероугольные, узко вытянутые в ширину. Обомлев, он готов был уже шарахнуться обратно за дверь, но страшные глаза приора вдруг погасли, и только тогда он разглядел, что блестели не сами глаза, а некие стеклянные дощечки, которые отец Берсюир неведомо зачем нацепил себе на переносицу. Впрочем, тот, очевидно заметив испуг посетителя, тут же снял с носа загадочное устройство, отцепив крючки, которыми оно было прикреплено еще и к ушам.
– Подойди, сын мой, – сказал приор. – Ты, стало быть, и есть тот самый юноша, что служил у Пьера?
– Да, патер, – отозвался Робер, приблизившись к пюпитру и с опаской косясь на стеклышки, положенные монахом поверх книги. – Мне Оливье сказал, иллюминатор, что у Малого моста…
– Совершенно верно, я его просил. Пьер говорил, что ты дружен с Оливье, а он мне хорошо знаком – работал для нашего скриптория. Поэтому я и подумал, что если ты появишься в Париже, то зайдешь к нему. Ты знаешь, зачем я просил тебя прийти?
– Нет, откуда же. – Робер пожал плечами.
– Бедняга Пьер, когда уходил со своим отрядом, передал мне на сохранение некоторую сумму – подозреваю, что немалую. Согласно его распоряжению я должен в случае его смерти либо вручить деньги тебе, либо – если ты не объявишься в течение года – употребить их на нужды обители. Ты объявился в срок, следовательно, деньги твои.
– Мои? – Робер был совершенно ошеломлен, не зная даже, что и думать. – Но… я не знаю, он мне ничего не был должен, может, тут какая ошибка?
– Нет-нет, никакой ошибки. Пьер был человек горячий, увлекающийся, но он все же умел мыслить трезво. Он предвидел возможность того, что случилось, и прекрасно понимал, что если партия Марселя потерпит поражение, то всем, кто его поддерживал, придется плохо. Считай, что эти деньги он просто решил уберечь от конфискации.
– У него ведь осталась жена…
– Жена! Она обеспечена. Госпожа Жиль – урожденная д’Ориак, в тех краях это одно из самых богатых семейств…
Отец Берсюир позвонил в колокольчик и велел служке позвать отца казначея, сказав, чтобы тот захватил с собой оставленное мэтром Жилем. Перехватив взгляд Робера, который то и дело с подозрением косился на лежащий на книге загадочный предмет, приор улыбнулся:
– Ты никогда такого не встречал?
– Никогда, отец мой…
– Это чтобы лучше видеть, когда зрение становится слабым. Не бойся, тут никакого волшебства, я ведь и Писание читаю при помощи этих стекол. Расскажи о себе, юноша. Ты был с жаками?
– Под Мелло мы все были вместе.
– Несчастная земля, несчастный народ… Пьер говорил, ты знал Каля?
– Да, и был в тот день рядом с ним… когда этот иуда позвал его на переговоры. Я хотел поехать вместе, он не дал.
– Правильно сделал, это ничем бы ему не помогло. Там действительно было такое побоище?
– Я не многое успел увидеть, на нас пришелся первый удар рыцарской конницы… Но слыхал потом, что из войска жаков не ушел никто.
– Оно было большим?
– Каль говорил – тысяч шесть…
Заскрипела дверь, вошел молодой монах и положил на пюпитр увесистый по виду кожаный мешочек, туго обвязанный крест-накрест и запечатанный красным воском.
– Это тот самый человек? – спросил он, глянув на Робера. – Тогда ему надо подписаться вот здесь…
Он достал свернутый в трубочку листок и развернул его на пюпитре, поставив рядом чернильницу с торчащей из нее тростинкой.
– Ты сумеешь написать свое имя? – спросил отец приор. – Если нет, поставь просто крестик, этого достаточно.







