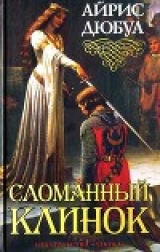
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Два дня в постели и заботливый уход сделали свое дело, и Франческо начал уже говорить об отъезде в Моранвиль, но Джулио уговорил его, что сейчас пускаться в путь еще рано. «Жаки рыщут по всей округе, – говорил он, – против них собрано большое войско, и не сегодня-завтра со смутой будет покончено; что изменится, если мы выедем на пару дней позже?»
И действительно, скоро в крепость пришли вести о побоище на Монтатерском плато, где отряды жаков были буквально втоптаны в землю соединенными силами наваррцев, англичан и местного дворянского ополчения. Узнав о разгроме мятежников и о пленении их главного предводителя Гийома Каля, собравшиеся на Рыночном острове бароны так ликовали, что на радостях сделали вылазку в город, перебили еще дюжину-другую жителей и подпалили Мо с другого конца, относительно пощаженного недавним пожаром. Искали, чтобы повесить мэра, но злой изменник Сула, к их великому огорчению, уже был схвачен и казнен сразу после сражения на Рыночном мосту.
На другой день, еще не протрезвившись после празднования успеха вылазки, некоторые горячие головы стали кричать, что в Мо измену вывели, делать тут больше нечего, а в равнинном краю Бовэзи охота на жаков только начинается – не стыдно ли, мол, сидеть в такое время сложа руки. На призыв откликнулись не многие, большинство местных дворян подумывало уже, что пора бы и по домам, – была середина июня, жатва не за горами, а хватит ли в этом году жнецов? Но отряд в десяток копий все же удалось собрать, и к вечеру они с развевающимися знаменами торжественно отбыли по санлисской дороге.
Остатки отряда вернулись через два дня в самом плачевном виде. Оказалось, что, дойдя до Санлиса, они нашли ворота запертыми и стали требовать открыть их именем герцога Нормандского – на что не имели никакого права, ибо регент не собирался брать Санлис под свою руку и никого не уполномочивал действовать от его имени. Испросив несколько часов на размышление, горожане согласились открыть ворота, и отряд победоносно вступил на главную улицу – довольно узкую, прямо от городских ворот круто поднимавшуюся вверх, к ратуше и собору. И вот тут-то обнаружилось все коварство «сдавшихся», ибо испрошенное время было использовано ими отнюдь не для размышлений. В верхнем конце улицы, у ратуши, они приготовили несколько тяжелых дубовых бочек, прикрепив к их днищам остро отточенные ножи и серпы, а также нагрузили камнями и повозку, из которой во все стороны торчали пики и косы; и все это смертоубийственное дьявольское измышление загромыхало вдруг под уклон – прямо на дворянский отряд, уже втянувшийся в узкую улицу. Вдобавок из окон их стали осыпать стрелами и камнями, и даже горожанки, забыв о приличествующей кротости, опорожняли им на головы ночные посудины и, хуже того, кипящие кастрюли. Благо городские ворота так и оставались нараспашку, что позволило уцелевшим унести ноги. Случившийся конфуз отбил охоту к поискам других приключений, и они бесславно вернулись в Мо; тем временем стало известно, что Карл д’Эврё якобы призвал дворян не увлекаться преследованием разбитых жаков и даже своей королевской властью пригрозил карать ослушников, так что охота на подлое мужичье становилась делом не таким уж привлекательным…
Франческо со злорадством встретил новость о возвращении незадачливых вояк, хотя еще несколько дней назад они были его товарищами по оружию. Он вообще пребывал в последнее время в состоянии жестокого внутреннего разлада. Прежде всего его мучило сознание, что он, потомок пополанов [93]и убежденный республиканец, оказался в одном лагере с нобилями, причем нобилями самого дикого и неистового рода, чье презрение ко всему недворянскому граничило уже с какой-то манией; с людьми, для которых самый образованный легист, самый искусный ремесленник, самый талантливый поэт или живописец были человеческим мусором под ногами любого титулованного болвана – лишь бы тот имел родовой герб и умел владеть оружием. Франческо доводилось общаться с нобилями во Флоренции, в Падуе, но там они были другие, они знали Платона и Аристотеля, читали великого Данте, наследственный аристократизм духа сочетался в них с умственной пытливостью простолюдинов. Здешние же нобили были грубыми и невежественными дикарями, покойный тесть выглядел в их среде белой вороной – читал книги, даже покупал их… Зато уж братец Тибо – вот кто был на своем месте!
Иногда Франческо казалось, что он вообще переживает все это в тягостном сновидении, – настолько мучительным был и его брак с Аэлис, и то, что он теперь невольно оказался втянут в эту кровавую междоусобицу, причем даже не на той стороне, которую избрал бы, будь его воля. К жакам – дикарям еще более диким, нежели их феодальные господа, – он, понятно, никакой симпатии не испытывал; но города, городские коммуны, и в первую очередь парижская, поначалу так умело возглавленная Этьеном Марселем, – вот кому он сочувствовал, вот в ком видел растущую силу. Он даже был согласен поддержать своим громадным займом «Наваррскую интригу» – ведь Карл Злой делал год назад все, чтобы прослыть другом горожан, защитником их интересов…
Впрочем, он и сейчас продолжал им прикидываться. И самое удивительное, ему продолжали верить, хотя за этот год Карл д’Эврё десятки раз показывал свое вероломство, обманывая то Карла Валуа, то Марселя, то обоих одновременно. Да и Марсель был не лучше. После битвы под Мелло, где вместе с Жаками полегло и немало парижских ополченцев, купеческий старшина не нашел ничего лучше, как пригласить Наварру в Париж и предложить ему почетную должность «генерального капитана».
Джулио, рассказывая об этом, казался удрученным настолько, что Донати даже удивился, – обычно его друг не принимал французские дела так близко к сердцу.
– Ну и черт с ними, – сказал он. – Что Марсель спятил, я понял уже давно. Нам-то что? У меня сейчас одно желание: поскорее уехать из этой сумасшедшей страны.
– Как уедешь?.. – пробормотал Джулио, не глядя на него. – Слишком мы глубоко здесь увязли…
– Ты о чем, о займе? Пустое! Какую-то часть денег мы вернем, пусть не сразу. А вообще банковское дело всегда рискованно, иначе оно не было бы таким прибыльным. Так Наварра, говоришь, уже там?
– Да, вчера выступал перед народом на Гревской площади. Клялся защищать Париж и радеть о его интересах, как о своих собственных, и заверял в своей преданности Франции.
– То-то он уже разделил ее с Плантагенетом! – усмехнулся Франческо. – Жать, что только на бумаге! Может, эту страну и впрямь следует всю раздробить на мелкие княжества… Легче было бы навести порядок. Но послушай, я давно не видел тебя таким озабоченным. Может быть, – спросил он с внезапным испугом, – ты что-то от меня скрываешь?
Джулио поднял голову и посмотрел ему в глаза.
– Да, – сказал он. – Прости, я… не знал, как сообщить. Видишь ли, приехал мэтр Филипп…
– Кто? Какой Филипп?
– Филипп Бертье, нотарий из Моранвиля.
– Так, – сказан Франческо охрипшим вдруг голосом и, помолчав, продолжил: – Что же он рассказывает? Впрочем, нет, не надо! Погоди…
– Я пришлю его к тебе.
– Хорошо, пусть идет. Вести дурные?
– Да. Очень дурные.
– Аэлис… что с ней?
– Она жива, – быстро сказал Джулио. – Филипп тебе все расскажет…
Когда Бертье вошел в комнату, Франческо не обернулся. Он сидел, крепко взявшись за подлокотники кресла, и смотрел в узкое окно, глубоко врезанное в толщу стены. Окно выходило на север, к реке, и сейчас синий прямоугольник неба то и дело затягивался клубами дыма – город на правом берегу Марны продолжат гореть.
– Как вы нашли нас здесь, мэтр? – спросил Франческо.
– Я сперва приехал в Париж, в вашу контору, – торопливо заговорил нотарий, – а конторщик сказал, что только что вернулся из Льежа, где видел вас, и что вы с сеньором Гвиничелли решили ехать в Мо. По дороге сюда я встретил Беппо, он тоже разыскивал вас по всей Фландрии… вместе и приехали…
– Рассказывайте дальше.
– Я привез дурные вести.
– Рассказывайте. Что с моей женой?
Мэтр Филипп кашлянул и заговорил еще тише:
– Мессир, дама Аэлис стала жертвой насилия…
Он умолк, словно сам испугавшись сказанного. Молчал и Франческо, в тишине было слышно, как за рекой кричит вороньё, уже который день кружащееся над местом недавней резни. Потом оглушительно громко – нотарий даже вздрогнул – раздался треск сломанного подлокотника. Франческо медленно повернул голову и страшными глазами уставился на Бертье.
– Кто? – хрипло спросил он. – Жаки?
– Нет-нет, мессир! Жаки приходили в замок в самом начале смуты, госпожа ничего еще не знала о кончине отца и… велела раскрыть ворота, дать им еды, они и ушли с миром… Это уже после…
– Кто?! – Франческо повторил вопрос свистящим шепотом, подавшись вперед всем телом. Жилы на его висках вздулись так, что, казалось, вот-вот лопнут.
– Тестар де Пикиньи, – так же тихо ответил нотарий. – Кузен госпожи. Но его уже нет в живых.
– Посмели убить – без меня?!
– Бога ради, мессир, вам надо выпить успокоительного, вы же себя убьете!
Не слушая возражений, Бертье выскочил за дверь и скоро вернулся с кружкой; покорно опорожнив ее, Франческо немного успокоился.
– Рассказывайте, мэтр, – попросил он тихо, сидя с закрытыми глазами. – Все, ничего не утаивая и не пытаясь меня щадить. Я хочу знать все.
Всего он не узнал, потому что всего не знал и сам мэтр Бертье, но и услышанного было достаточно. Когда нотарий умолк, Франческо отпустил его жестом, не в силах вымолвить ни слова. Больше всего он хотел бы сейчас заплакать, но слез не было, не было даже мыслей, горе оглушило его, выжгло душу, оставив пустоту и пепел. Только воображение продолжало работать, услужливо высвечивая картины, от которых впору было потерять рассудок. Почему не послушался он своего сердца и не вернулся раньше? Зачем вообще оставил ее одну, тогда, в феврале? Сам обрек на горе и позор… Франческо стиснул зубы, чтобы не застонать, негнущимися пальцами рванул на вороте пуговицы. От охватившего вдруг удушья сердце забилось неровными болезненными толчками, гулом отдаваясь в ушах, а комната закружилась, поплыла перед глазами… И только ли на страдание обрек он ее своим малодушием? В мае этот оруженосец был в Моранвиле, когда рядом с ней никого не было, даже отца… кто мог помешать им? Если его подозрения верны, тогда понятно, почему был оставлен в замке Урбан, понятно ее письмо… Слепо, не глядя, Франческо нашарил на столе кувшин, стал жадно пить прямо через край, не замечая, как вино струйками стекает по подбородку, марая светлый бархат камзола… Потом он долго сидел, уставясь невидящими глазами в пустоту, пытался собраться с мыслями. Если его подозрения верны… вот именно, если! Ведь он ничего толком не знает, да и в этом ли дело. Ведь он, на свою беду, все равно любит ее, и он кругом виноват – виноват, что предоставил ее самой себе, всем искушениям и всем опасностям. Разве же справедливо, что не ему довелось спасти Аэлис, что другому было дано отомстить за ее позор? Но может, прав легист и это просто детская дружба? Господь видит, как хотел бы он верить в ее чистоту…
Ему вдруг вспомнилось – Беппо! Нотарий сказал, кажется, что они приехали вместе? И Беппо разыскивал его по всей Фландрии… зачем? Что заставило Беппо покинуть Моранвиль, если он приказал ему присматривать за госпожой? Неужели…
Похолодев от догадки, Франческо нерешительно протянул руку к колокольчику, отдернул ее, снова протянул. Наконец позвонил, и тотчас же, словно дожидался под дверью, вошел Джулио.
– Что, Беппо тоже здесь? – неповинующимися губами спросил Франческо.
– Да, он приехал с легистом.
– Пусть войдет.
– Может, не стоит сейчас, а? Ты бы отдохнул, у тебя плохой вид…
– Пусть войдет, я сказал!
– Как хочешь, дорогой. – Джулио пожал плечами.
Беппо был из тех доверенных слуг, которых ценят за собачью преданность, но к которым не привязываются. С ними, впрочем, и не расстаются до самой смерти. Не было такого поручения, которое Беппо не исполнил бы, не было преступления, перед которым он остановился бы, исполняя волю господина. Он был необычно жесток даже для уроженца полуязыческой Сицилии; Франческо иной раз становилось не по себе, когда он встречался взглядом с его черными, близко посаженными, немигающими, как у змеи, глазами.
Войдя в комнату, Беппо поцеловал у господина руку и, пятясь, отступил назад к двери.
– Ты, я слыхал, долго меня разыскивал? – спросил Франческо.
– Почитай месяц. Куда ни приедешь – были, говорят, да уже отбыли…
– Почему уехал из замка?
– А чего мне там было делать? Про что ты хотел узнать, я узнал. Ну и я так понял, что надо об этом доложить.
– Что же ты узнал? – поинтересовался Франческо ровным голосом.
– А то, что у тебя рога почище оленьих. Я, когда привез тебе письмо от госпожи, вернулся в замок, а этот парень уже там…
– Какой парень?
– Оруженосец этот, Робер, которому еще госпожа прошлым годом подарила вороного, – помнишь? Я тебе тогда сразу сказал: смотри в оба, господин, такие подарки зазря не делают…
– Я помню, что ты сказал тогда. Я хочу знать, что ты видел теперь!
– Видел, как госпожа смотрела на этого Робера из окна. Я как раз приехал, а он уезжал, час был ранний – солнце еще не взошло. Она смотрела на него, и он все оглядывался – шел к коню и оглядывался, точно привороженный. Господин, в их глазах был блуд, я это видел.
– Видел, и позволил ему уехать?
– А что я должен был сделать?
– Повесить его, вот что ты должен был сделать, негодяй, – медленно сказал Франческо. – Но сперва ты должен был оскопить его у нее на глазах!
– Ну… – Беппо пожал плечами. – Оно ведь как получилось… Понял-то я сразу, но доподлинно все выведал позже, когда его уже не было.
– Что выведал?
– А все – и как госпожа лучника в Париж посылала за этим Робером, и как они на башне миловались, и как он к госпоже в опочивальню приходил. Лучника этого я в лес увел, связал – он не хотел говорить – и отрезал один палец, другой… Когда на правой руке пальцев не осталось, он все и выложил. Я его, понятно, прикончил – беспалому-то что за жизнь, верно?
– Это он тебе сказал, что оруженосец приходил к госпоже?
– Да, от камеристки узнал, та видела.
Франческо долго молчал. Что Беппо никому другому не мог говорить того, что сказал сейчас ему, он не сомневался. Но сколько людей уже знало о его позоре? Лучник (хотя этого уже нет), камеристка… это какая же? Наверное, Жаклин. Что ж, тем хуже для нее. И наконец, сам Беппо – это животное, дикарь… Можно себе представить, с каким нечистым любопытством собирал он все эти подробности, как высматривал, вынюхивал…
– Я доволен тобой, – сказал он наконец и, поднявшись из кресла, подошел к дубовому поставцу, взял оловянный кубок, налил вина. – Выпей, у тебя, наверное, глотка пересохла. Но сперва отопри-ка вон тот ларец…
Он отцепил от пояса ключ, кинул Беппо; пока тот возился с замком, Франческо повернул на пальце перстень с крупной геммой и, держа руку над кубком, прижал выступ оправы к его краю. Едва слышно щелкнула пружинка, и выпавший шарик мгновенно растворился в темном вине. Поворачивая перстень обратно, камнем наружу, Донати подошел к Беппо и, когда тот откинул крышку ларца, велел ему взять лежащий внутри кошель.
– Это тебе за труды, – сказал он. – Оставь ключ в замке, я запру сам.
Беппо алчно схватил кошель, с недоверчивым изумлением взвешивая его на ладони:
– Ты слишком щедр, господин!
– Я всегда щедр с теми, кто мне верен. Выпей и иди отдыхай.
Слуга медленно подошел к столу, взял кубок. Уже поднеся его к губам, он вдруг задержал руку и оглянулся, словно вспомнив что-то или желая о чем-то спросить, с кубком в одной руке и увесистым кошелем в другой.
– Пей, пей, – поощряюще сказал Франческо. – У тебя, помнится, большая семья?
– Большая, господин.
– Ну ничего, этого им хватит надолго. Да и я обещаю позаботиться о них… в случае чего. Кстати, ты хорошо сделал, что не убил оруженосца, у меня это получится лучше…
– Твое здоровье, господин! – Беппо осушил кубок, поставил на стол и положил рядом кошель. – Это пусть пока лежит у тебя, мне и спрятать такое некуда – украдут.
Значит, догадка была верна, думал Франческо, продолжая смотреть на закрывшуюся за слугой дверь. Значит, она его действительно обманула, предала, опозорила – с мужиком, с простым деревенским парнем, после всего, что он для нее сделал, дал ей свою любовь, богатство…
Он старался разжечь в себе гнев и ярость, представлял себе то подробности их свиданий, то картины возмездия, от которого – Бог свидетель! – не уйдут ни он, ни она; представлял себе, как приведет Аэлис на верхнюю площадку Фредегонды и заставит смотреть и слушать, как ее любовника будут учить не покушаться на честь замужней дамы. Все это было справедливо, и он знал, что так и сделает, как только мерзавец попадется к нему в руки, но странно – сейчас предвкушение мести не радовало его, не облегчало боли, потому что настоящей мужской ярости не было сейчас в его сердце. Франческо не узнавал самого себя.
В голове у него мутилось, он встал, с трудом дошел до постели и рухнул, раздирая на груди камзол, словно в комнате стало вдруг не хватать воздуха. За что ему эти муки, чем он их заслужил, разве не хотел он одного – сделать ее счастливой?
«Нет-нет, не этого ты хотел, – отвечал ему внутренний голос, – о ней ты не думал, ты сам хотел быть счастливым, обладая ею. Наивно, глупо, но ведь так всегда бывает: обладание всегда представляется счастьем, пока оно не свершилось. О ней самой ты не думал просто потому, что ничего о ней не знал. Да и узнать, наверное, не стремился. Вот, нотарий сказал, что у нее с этим оруженосцем была „детская дружба“; а если не только дружба? Если они уже любили друг друга, когда ты появился и стал умело соблазнять наивную провинциальную девочку – своим блестящим видом, рассказами о поездках, стихами Петрарки… Может быть, украв у тебя жену, оруженосец просто сквитался с тобой, укравшим у него любимую?»
И как понять его последний поступок – отвезти Аэлис в аббатство, оставить там, а нотария послать за ним, – что это, нарочитое глумление? Приходи, мол, и забирай то, что мне уже не нужно? Мужчина обычно презирает женщину, не сумевшую остаться добродетельной. Но если оруженосец испытывал такое презрение к Аэлис, то что заставило его драться за нее с Тестаром? Что ни говори, а он ее спас… нет, тут другое… видит бог, как бы он хотел быть на его месте…
Франческо забылся тяжелой, не приносящей отдохновения дремотой, а потом, проснувшись внезапно, как от толчка, увидел рядом Джулио, который говорил ему что-то успокаивающим тоном, похлопывая по плечу.
– Тебе приснилось дурное, дорогой, ты опять кричал, – объяснил он. – Я позову лекаря, у тебя жар, мне кажется.
– Что? Лекарь? Какой лекарь, мы должны ехать, и немедля!
– Мы никуда не поедем, покуда не поправишься, – решительно возразил Джулио. – Один уже доездился, хватит.
– Кто доездился, о чем ты?
– Помер бедняга Беппо, только что. Видно, надорвался; это бывает от слишком долгой скачки, а он за нами по всей Фландрии рыскал, вот и перетрудил сердечную жилу.
Франческо перекрестился.
– Requiescat in расе… [94]Джулио, там на столе кошель – возьми, отошлешь его семье с первой оказией…
Он действительно серьезно расхворался и пролежал в горячке до Иоаннова дня. Крепость тем временем опустела: регент забрал двор герцогини к себе в Шель, где собирал армию, чтобы идти на Париж. Разъехались и бароны, одни подались за регентом искать воинских утех, другие вернулись в свои замки (у кого они уцелели) поднимать порушенное Жаками хозяйство. Лишь к концу последней недели июня отряд Донати покинул наконец Рыночный остров и, проехав через пепелище Мо, где уцелевшие горожане рылись среди головешек, разыскивая остатки своего добра, тронулся на Санлис.
Париж решили объехать подальше, потому что мятежная столица была обложена со всех сторон: северные подступы к ней были в руках наваррцев и англичан, на юге бесчинствовали банды вообще неведомо чьи, а с востока стояла осадная армия регента, и его люди тоже жгли и опустошали парижские предместья – от Монтрея до Шарантона. Военные действия происходили в окружности десяти лье, но дальше было спокойно, и до самого Санлиса отряд не встречал никаких следов бедствия. Зато дальше пошел уже разоренный край – черные от копоти развалины замков, пепелища деревень, стаи воронов над виселицами; именно в этих местах бушевал такой короткий – всего десять дней! – но такой опустошительный шквал народной ярости, за которым последовала вакханалия мести…
Первых трех висельников Франческо велел снять и предать земле, потом пришлось хоронить еще одного, лежащего при дороге, беднягу – виллана, судя по рубищу, – у которого отсутствовали голова и кисть правой руки; но потом повешенные и обезглавленные стали встречаться в таком числе, что устраивать каждому христианское погребение сделалось попросту невозможно. Край казался вымершим, до того он обезлюдел, редко где можно было увидеть старуху, ребенка, двух-трех женщин. Большинство деревенских жителей, очевидно, пряталось по окрестным лесам… Это же подтвердил и предводитель небольшого воинского отряда, встретившегося Донати на второй день пути.
– Мужичье разбежалось, – сообщил он довольным тоном, – мы им тут такого жару задали, надолго запомнят!
– А кто будет работать на полях? – поинтересовался Джулио.
– Да они же и будут! Побегают и вернутся, никуда не денутся, жрать-то им тоже надо. Самых зловредных мы перебили, остались те, что посмирнее, – пусть живут. Я думаю, такая перетряска время от времени даже полезна, а, мессиры? – Предводитель захохотал. – По крайней мере здесь теперь долго можно будет ничего не опасаться…
Но пока опасаться приходилось – край был лесной, изобилующий удобными для засады местами, и изголодавшиеся беглецы, случалось, нападали на неосторожных путников. Поэтому, располагаясь на ночлег, Джулио расставлял вокруг лагеря сторожевые посты.
Лагерь обычно разбивали засветло, чтобы успеть загасить костер до наступления темноты и не привлекать ненужного внимания. Так сделали и на этот раз – слуги с привычной сноровкой развели огонь, носили воду и хворост, расставляли маленький походный шатер. Джулио, освежившись в ручье, сидел рядом с Франческо в ожидании ужина, веткой отбивался от комаров и допытывался у Мадонны и всех святых, скоро ли кончатся его муки.
– В конце концов, я ведь не прошу многого, – говорил он убеждающе. – Мне нужен всего-навсего постоялый двор, самый скромный, но чтобы он не был сожжен или разграблен, чтобы были кровати с набитыми свежим сеном тюфяками, чтобы из очага не торчали ноги зарезанного накануне хозяина…
– Ты, я вижу, становишься сибаритом, – заметил Франческо.
– Тут станешь! Если когда-нибудь я все-таки вернусь на берега Арно, меня до конца дней будет прошибать холодный пот при одном слове «Франция»… Что за омерзительная, дикая страна! Черт надоумил моего великого тезку ее завоевывать.
– Ну, если он уж и Британией не побрезговал…
– Ты прав, наши предки и впрямь были неразборчивы.
К костру подошел начальник охраны Карло:
– Мессир, там в лесу люди – мужчина и женщина и еще кто-то на повозке. Похоже, раненый.
– Что нам до них? Пусть идут своей дорогой, – сказал Джулио.
– Я просто подумал… Дело вот какое – конь-то у них из моранвильской конюшни…
– Что за вздор! Это он сам тебе представился?
– Помилуйте, мессир, – возразил старый солдат, – мне ли не узнать такого коня – вороной, а на груди звездочка, вроде как голова сокола…
– Как ты сказал? – тихо спросил Франческо. – Вороной? И с белой звездочкой?
– Да точно он, мессир, я его сразу признал! На нем еще Симонов оруженосец ездил, с ним этот конь после и исчез…
– Сюда их! – приказал Франческо. – Всех троих – и живыми!
– Хорошо, мессир. Только я возьму тогда с собой еще людей, а то бродяга этот такой дюжий да свирепый – вдруг добром не пойдет…
– Бери кого хочешь, но чтобы они немедля были здесь – целые и невредимые, слышишь?
– Ты думаешь… – начал Джулио, когда Карло удалился, кликнув с собой подмогу.
– Я ничего не думаю! Я хочу видеть, кто это!
– Хорошо, дорогой, хорошо, разве я против? Пожалуй, схожу сам прослежу…
Джулио исчез вслед за солдатами. Медленно сгущались сумерки, воздух наполнился пронзительным комариным звоном. Франческо сидел у гаснущего костра, не отрывая взгляда от раскаленных угольев. Наконец вдалеке послышались крики, женский визг, треск ломаемых кустов. Шум приближался, на поляне появились солдаты – трое пинками гнали перевязанного веревками бродягу, грудная клетка которого была столь широка и могуча, что напоминала упакованный тюк шерсти, четвертый нес на плече вопящую женщину, пятый вел под уздцы запряженного в повозку коня. Подошел Джулио.
– Ты оказался прав, – тихо сказал он, – это твой птенчик. Но только он без памяти – ранен… Андреа! Давай девку сюда!
Солдат поставил женщину на ноги, Джулио взял ее за волосы и подвел к Франческо.
– Узнаешь? – спросил он, запрокидывая ее голову.
Франческо недоуменно глянул на эту нищенку, одетую в невообразимое рубище, с космами свалявшихся волос и серым от грязи лицом. Лицо, впрочем, кого-то напоминало. Неужто это… одна из тамошних горничных?
– Перестань выть, – поморщился он, – иначе велю забить тебе кляп. Тебя ведь зовут…
– Катрин, добрый мессир! Велите им отпустить нас, мы ведь ничего дурного…
– Не вой, я сказал. Кто там на повозке – этот, как его… Робер?
– Это он, добрый мессир! Это он! Он побил людей господина Тестара, когда господин Тестар захватил замок и убил господина Симона и господина кюре, и он еще из Моранвиля послал к вам господина Бертье, чтобы сообщить, где госпожа. Может, Бертье просто вас не нашел, никто ведь не знал… А госпожу отвез в Шомон, к монахиням…
– Нотария я видел. Давно ты из Моранвиля?
– Давно уже, мессир, вот сразу, как все это приключилось, госпожа сказала, что уезжает, я сперва с ней поехала – а после Жаклин сказала, что госпоже никто не нужен, и я тогда в мужское переоделась и ушла с отрядом Робера, с его людьми… Я ведь как чуяла, что нельзя ему без меня, его там под Мелло всего, как есть, изрубили, ну вот когда было большое сражение, хорошо еще, что мне травы ведомы…
Франческо подошел к повозке, за ним другие. Откинув холстину, он долго смотрел на раненого – не в пример грязным и оборванным Катрин и ее спутнику, Робер был умыт и ухожен, и даже повязки на нем были чистые.
– Он что же, вот так и лежит без памяти? – спросил он.
– Когда как. Это я ему отвар такой даю, ему теперь надо дольше спать, от этого кровь успокаивается…
– Оставьте нас, – сказал он, продолжая смотреть на неподвижные губы Робера – губы, которые целовали его Аэлис.
Джулио и другие солдаты удалились. Взгляд Франческо скользил по телу раненого, и вдруг его полоснула острая боль – сквозь дыры на рубахе Робера блестел медальон с королевскими лилиями…
– Да, лучше было ему умереть там, на поле битвы, – сказал он, словно думая вслух.
Катрин испуганно перекрестилась:
– Да что же вы такое говорите, мессир…
– Или ты думаешь, – он усмехнулся, – я могу оставить этого человека в живых?
– Что-то я вас не пойму, – прошептала она, глядя на него со страхом.
– Тогда ты еще глупее, чем кажешься. Ты была в замке, когда он туда приехал?
– Была, добрый мессир, это ведь я и послала Урбана – вот его. Велите ему подойти, и он скажет, что все так и было: я убежала из замка и сказала ему, чтобы скакал к Роберу и сказал, что господин Тестар…
– Я о другом спрашиваю. В начале мая, когда мессир Гийом уехал в Компьень, а этот появился в замке и провел там три дня, – ты была там?
Катрин молча покивала, пытаясь что-то сказать, но он остановил ее движением руки:
– Стало быть, ты знаешь, почему этот человек должен умереть. Ему надлежало бы умереть медленной и лютой смертью, в тяжких муках, как умирают предатели, но он храбрый солдат и отбил замок у Тестара и поэтому умрет легко. Он ничего не почувствует. – Франческо достал из ножен маленький стилет с узким, в палец, лезвием и показал девушке. – Я просто приставлю его к его груди и слегка нажму – и у него остановится сердце. Но я хочу еще услышать от тебя правду о том, что там произошло. Заметь, я не сказал «узнать» – я ее уже знаю, но я хочу услышать это от тебя, хочу, чтобы ты мне это подтвердила. Если солжешь – умрешь вместе с ним, поэтому не пытайся его выгораживать, это бесцельно. Расскажи правдиво все, что знаешь, и ступай своей дорогой.
– Что же я могу рассказать? – с отчаянием в голосе воскликнула она. – Я не знаю, о чем вы? Робера кто-то оболгал перед вами, это навет!
Повторяю – я убью тебя сейчас, если будешь лгать! – Держа кинжал в правой руке, Франческо левой стиснул ее плечо так, что она охнула от боли. – В ночь своего приезда с кем он был на башне? Ну, говори!
– Мессир, с ним была я.
– Ты? С ним, на башне? Лжешь!
– Клянусь спасением души, мессир, там была я.
– Лжешь!!! – крикнул он в бешенстве. – Как ты отперла дверь в башню? Кто дал тебе ключ?
– Я украла ключ у госпожи…
– Откуда? Где госпожа держала ключ? – отвечай быстро! Ну?..
– Он… он был в ларце, который вот с такой крышкой, госпожа однажды показывала нам с Жаклин свои украшения, что вы ей подарили, и я увидела, что ключ от башни там…
Франческо, с погасшим вдруг гневом, почти брезгливо, отшвырнул ее от себя; она не устояла на ногах, упала и тут же вскочила, отступая к повозке.
– Дура, – сказал он с бесконечной усталостью в голосе, – ты и лгать-то не умеешь. Госпожа никогда не держала ключ от башни в ларце, она прятала его в тайнике, в оконной нише…
Он сел на ствол поваленного дерева, бессильно сгорбился, опустив руку с кинжалом. Ему хотелось одного: умереть. Как просто было это сделать – приставить себе к груди напротив сердца и ударить по рукоятке. Но стоит ли губить душу из-за того, что невмоготу стало жить? А ведь эта – погубила, поклялась спасением души, и солгала. Или такое клятвопреступление не считается? Она ведь ради него, надеясь спасти. Бог с ним, пусть живет, не ему брать на себя бремя возмездия; оно все равно придет, если есть за что. А если нет? Почем знать, в самом деле, кто из них виновнее… Может быть, больше всех виноват он, Франческо Донати, – и прежде всего перед Аэлис, которую сгубил своей прихотью. Зачем была ему нужна эта «Наваррская интрига»? Действительно, что ли, захотелось помочь здешним простолюдинам возвести на трон «своего» короля? Да нет, под красивыми фразами скрывалась привычная, бессмысленная алчность менялы – желание заработать на этом злосчастном займе, сторицею получить за риск, когда Наварра коронуется в Реймсе… А когда подвернулась Аэлис – игра сделалась еще увлекательнее, награда – еще заманчивее. И не потому ведь, что полюбил сразу, с первого взгляда, как Петрарка – Лауру; нет, потом это пришло (к несчастью), но пришло позже, а вначале была просто прихоть. И можно ли теперь так уж строго судить Аэлис за ее измену – она ведь не любит его и никогда не любила, наверное, любила своего Робера – все как положено: дочь барона, пригожий юный оруженосец… Если уж в чем виновата, так это в том, что пошла к алтарю с нелюбимым, но ведь тогда и она, вероятно, этого не сознавала. Долго ли вскружить голову наивной и пылкой девочке! И, видит бог, за эту свою вину она уже поплатилась…







