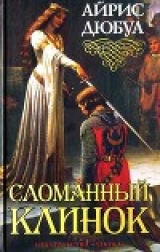
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Потом госпожа опустилась на землю, со стоном закрыв лицо руками и согнувшись так, как скрючиваются раненные в живот. Рваная Морда посмотрел на нее с беспокойством и на всякий случай проверил, на месте ли заряд; нет, стрела лежала в желобе – арбалет не выстрелил. Жакен осторожно разрядил его и нагнулся над госпожой. Она отшвырнула его руку и вскочила так стремительно, словно ее кольнули шилом. «Не смей ко мне прикасаться! – крикнула она с ужасом. – И если кому-нибудь хоть слово о том, что здесь было, – тебя на другой же день найдут во рву с перерезанной глоткой…» Выкрикнув это, дамуазель снова метнулась к мостику.
…Она бежала назад, на башню, моля всех святых, чтобы успеть, чтобы увидеть хотя бы издали еще раз, единственный последний разочек… За мостом он сразу бросил Глориана в галоп, она слышала это оттуда, со стены, но, может быть, еще есть время, может быть, он не успеет домчаться до поворота, пока она выбежит на площадку…
Но она опоздала – белая от луны дорога была уже пуста, когда Аэлис подбежала к проему между изглоданными временем зубцами. Дрожа, как в ознобе, она долго смотрела на пустую белую дорогу, на черную зелень вязов, на серебрящиеся вдали соломенные кровли хижин. Смотрела, словно все еще надеялась что-то разглядеть в ночной дали, каким-то чудом увидеть на дороге мчащегося всадника. Но кругом была ночь, и сквозь застилавшие глаза слезы Аэлис ничего не видела, только слышала далекий стук копыт, но и тот доносился все слабее. Затаив дыхание, она напряженно вслушивалась, с отчаянием цепляясь за этот, уже замирающий вдали, звук как за последнее, что еще связывало ее с ним, с детством и с чем-то таким дорогим, чего ей никогда и ничто уже не заменит. Наконец замер и этот отголосок звука, в ночной тишине остался лишь звук ее собственного сердца…
Тогда она повернулась и пошла к лестнице. На середине площадки упала – у нее просто подкосились ноги на ровном месте. Сначала она подумала, что это смерть пришла покарать ее за клятвопреступление, но оказалось, что жизнь продолжает биться в ее теле, и это показалось Аэлис таким страшным, что она вцепилась себе в волосы, пытаясь одной болью заглушить другую – куда более мучительную. Она лежала, захлебываясь от рыданий, пыталась разорвать на себе платье, колотила бессильными кулаками по древним камням. Что-то холодное очутилось у нее в руке, потом ладонь стала клейкой. Всхлипывая, Аэлис разжала пальцы и почувствовала острую боль. Сломанный Робером клинок выпал из ее руки. Ладонь была изрезана, и черная в свете луны кровь блестящими, маслянистыми струйками стекала за рукав нарядного платья.
Книга вторая
ДОБРЫЙ ГОРОД ПАРИЖ
Глава 13
Над Мобюиссоном стояло в эту осень высокое прозрачное небо, и окружающие замок леса с каждым днем все ярче разгорались красками, предчувствуя зиму и спеша покрасоваться напоследок. Пламенели клены, березы стояли словно осыпанные золотым дождем, и ржавчина уже тронула темную листву дубов.
К северной стороне замка лес подступал вплотную – густой, тенистый, с заросшими орешником сырыми овражками. Дофин Карл любил эти места, хотя никакими особенными красотами они не отличались, – в долине Луары есть куда более живописные. Здесь прошли лучшие годы его детства, и здесь же он впервые увидел Жанну Бурбон, ставшую потом его женой – по любви, что большая редкость в королевских домах. Не случайно именно в Мобюиссон отправил он ее разрешиться от бремени их первым ребенком, а вскоре приехал и сам – хоть ненадолго забыть о мятежных городах, пустой казне, ненадежном перемирии с англичанами – обо всем том, что именовалось Французским королевством и за что он теперь отвечал перед Богом, собственной совестью и своими подданными.
И он действительно не думал сейчас о делах, отстранился от всего, запретил беспокоить себя сообщениями из Парижа. На время перестав быть некоронованным правителем Франции, Карл чувствовал себя – впервые за много месяцев – просто счастливым молодым отцом. Даже то, что вместо желанного наследника родилась дочь, не огорчило его. Бог захочет – родится и наследник.
С Жанной было хорошо, но иногда надо побыть и одному. Дофин пристрастился к прогулкам в своей любимой части леса: брат с собой лишь одного из шамбелланов, умеющего оставаться незаметным, и часами бродил по едва приметным тропкам. Сегодня погода была не для прогулок – ночью прошел дождь, к утру сильно похолодало, задул северный ветер. В лесу ветра не ощущалось, и Карл, кутаясь в подбитый беличьим мехом плащ, с удовольствием вдыхал прохладный сырой воздух, пахнущий грибами и прелыми листьями. Шамбеллан Робер де Лорри неслышно следовал в десяти шагах, всегда готовый мягко, но настойчиво попросить вернуться, если дофин слишком удалялся от замка. Хотя лес и охранялся, предосторожность была разумной: в округе бродило много разного рода лихих людей. Поэтому, когда речь шла о безопасности, шамбеллан бывал непреклонен, и дофину приходилось подчиняться. Вот и сегодня дело кончилось тем же.
Дофин вздохнул, снова подумав о странной природе власти, столь притягательной для человека, ее лишенного, и дающей так мало радостей тому, кто ею обладает. Сам он воспринимал власть не как дар судьбы, но как бремя, тяжесть которого ощущал постоянно. И от этого бремени ему не уйти: из четырех братьев он один сможет носить корону. Судьба, надо признать, не ошиблась, сделав его престолонаследником; в самом деле, кто мог бы сейчас занять его место? Младший, храбрец Филипп, пошел в деда, короля Иоанна Богемского, столь же отважный и столь же малого разумения. Дед, уже будучи слепым старцем, погиб под Креси, за компанию прихватив с собой двоих оруженосцев, – те должны были направлять его коня в битве, и их же он сам сгоряча и зарубил; а внук, пятнадцати лет от роду, дрался под Пуатье не хуже опытного рыцаря и был ранен рядом с их отцом, королем Иоанном. Славное деяние, кто же спорит, но таким героям не место на троне, в мирное время от них одни неприятности.
Жан, герцог Беррийский, годом старше Филиппа, помешан на собирании редких и ценных вещей и ни о чем другом думать не хочет. Ему все равно, что приобрести: невиданного ли по свирепости пса, или книгу, разукрашенную искусным иллюминатором, или новомодный педальный орган работы фламандца Луиса ван Вальбека, или ухо какого-нибудь святого в золотом реликварии, усыпанном рубинами и смарагдами. К тому же он, несмотря на молодость, уже неистовый обжора, распространяющий и на кушанья свою страсть к раритетам: ему специально привозят откуда-то из Лангедока мерзкие подземные фрукты, именуемые «трюфели», – пакость, которую христианину и в рот взять боязно… Пожалуй, Луи, герцог Анжуйский, лучше других выглядел бы в короне, у него и внешность для этого самая подходящая, и честолюбия достаточно, но он авантюрист по натуре. Авантюрист и интриган. Вероятно, без этих качеств правителю не обойтись, но должно же быть чувство меры! А как раз этим-то бедняга Луи не обладает…
Вернувшись в замок, дофин узнал о приезде Реньо де Бомона, канцлера архиепископа Реймсского.
– Боюсь, отдых окончен, – сказал он шамбеллану, принесшему новость. – Если монсеньор решился меня побеспокоить, значит, случилось нечто серьезное. Что, если наш друг Марсель решил короноваться?
– Бог не дозволит этого, сир, – ответил не понимающий шуток шамбеллан.
– Будем надеяться! Я немедленно приму мэтра де Бомона, проводите его в скрипторий.
Канцлер, высокий, одетый в черное легист, сдержанно поклонился и сел в предложенное дофином кресло.
– Рад, что вы благополучно добрались из Реймса, – сказал Карл, – дороги теперь небезопасны, неделю назад двух купцов ограбили и убили у самых ворот Понтуаза, на глазах у стражи. Итак, что пишет монсеньор архиепископ?
– Ничего, ваше высочество. Новости, с которыми монсеньор меня послал, слишком важны, чтобы доверять их бумаге.
– Даже так? Ну что ж, слушаю вас, де Бомон.
– Ваше высочество, есть неопровержимые сведения, что готовится побег короля Наваррского.
– Побег? – недоверчиво переспросил Карл. – Но ведь он содержится в замке Арлё – меня уверяли, оттуда не так просто убежать.
– Убежать, сир, можно откуда угодно, неподкупной стражи не бывает.
– Согласен, но такие затеи обходятся очень дорого, а насколько мне известно, казна Наварры не в лучшем состоянии, чем наша. Или он рассчитывает на золото Плантагенета?
– Нет, сир, деньги у него уже есть, и не от англичан. Вы изволите помнить Гийома де Пикиньи?
– Еще бы я не помнил этого хитреца! Но при чем тут он? Какая связь?
– Самая прямая – он достал золото для Наварры.
– Вы шутите. – Дофин недоверчиво смотрел на канцлера. – Этот Пикиньи беден как церковная мышь!
– Сир, ваши сведения устарели. Барон недавно выдал замуж свою дочь – знаете за кого?
– Признаться, не припомню. О свадьбе слышал, он ведь прислал мне оброчный подарок, кстати весьма щедрый, что меня удивило…
– Щедрость вполне объяснима, ваше высочество: дочка мессира Гийома вышла замуж за Франсуа Донати, главу банкирской компании из Тосканы. Условием этой свадьбы был заем в полтораста тысяч турских ливров, предоставленный дому Наварры.
– Полтораста тысяч, – огорченно повторил дофин. – Но ведь это огромная сумма, на такие деньги можно в течение года содержать армию в тысячу человек! И вы хотите сказать, Наваррец их получит?
– Они уже выплачены его брату, Филиппу.
Дофин долго молчал.
– Я поздно об этом узнаю, – сказал он наконец. – Монсеньор мог бы зорче наблюдать за действиями моих врагов!
– Ваше высочество, переговоры велись в строжайшей секретности…
– Свадьба дамуазель де Пикиньи не была секретом, имени жениха тоже не скрывали, и не надо было обладать особой проницательностью, чтобы догадаться… Впрочем, простите, я несправедлив. Мне ведь тоже ничего не пришло в голову, хотя о свадьбе я знал. Да-да, припоминаю, действительно размер подарка меня удивил, и я еще подумал, что не выдал ли старый плут свою дочь за какого-нибудь богатого горожанина, недаром постоянно заигрывает с Марселем. А он, значит, прицелился выше. Донати? Да, я слышал, как же. Крупная компания, очень крупная. Ай да сир Гийом! Похоже, ему наконец удалось сделать неплохой ход и в своих интересах. – Дофин засмеялся, но, тут же посерьезнев, спросил: – Так что же предлагает монсеньор?
– Монсеньор архиепископ поручил мне обсудить этот вопрос с вашим высочеством, – осторожно ответил канцлер. – Все зависит от того, как вы воспримете эту новость…
– Признаюсь, без особой радости. Но что делать, от радостных новостей я уже отвык. Побег кузена Карла, несомненно, осложнит обстановку в королевстве; в силах ли мы ему помешать?
– Коль скоро мы знаем о его планах…
– А он не знает, что мы знаем? Да, это преимущество, я согласен. Но что, если эти сведения подброшены нам нарочно?
– Признаться, не вижу смысла…
– Это может быть ловушкой, де Бомон, поводом для начала открытой войны. Мы с кузеном были друзьями до той глупой истории в Руане, и он знает, что я пытался защитить его перед отцом… У него нет повода открыто восстать против меня, если не считать того, что я не отменил королевского приказа о его заточении. Сейчас он может винить только короля, но если я сорву планы его побега…
– Тогда, ваше высочество, будем логичны – не проще ли его освободить?
– Я уже думал об этом, и не раз. Отец поступил несправедливо, заточив кузена Наварру [58]и приказав обезглавить беднягу д’Аркура и других; скорее всего, никакого заговора на самом деле не было. Но беда в том, что существует понятие авторитета власти, пусть даже несправедливой. Люди должны знать, что королевские решения не отменяются просто так, потому что сам король лишился вдруг возможности исполнять свою власть. Предоставим Наварру его судьбе – если Бог поможет ему выйти из узилища, пусть выходит. Надеюсь, свобода не ударит ему в голову.
– Сир, взвесим все возможности. Опасность в том, что Филипп д’Эврё ведет переговоры с англичанами. Недаром Матьё де Пикиньи так долго гостит при дворе Черного принца. Что будет, если мы позволим Наварре бежать, а переговоры с Эдуардом увенчаются успехом?
– Тем более, мэтр, тем более! Переговоры идут уже давно, пребывание Наварры в темнице им не воспрепятствовало. Зато, когда он будет на свободе, это может выбить из рук Филиппа главный козырь: несправедливость, жертвой которой стал его брат.
– Побег не перечеркивает этого факта. Другое дело, если бы вы подписали ордонанс об освобождении…
– Я уже объяснил, почему не могу этого сделать. Не бойтесь, де Бомон, кузен поймет, что я не мог не знать о планах побега и все же позволил ему бежать…
Карл д’Эврё, король Наварры, прозванный Злым своими подданными по ту сторону Пиренеев, томился в заключении уже полтора года. Томился, впрочем, относительно; ему были предоставлены многие льготы и удобства, разрешалось получать с воли предметы роскоши, а также вести переписку с семьей и друзьями. Но тюрьма есть тюрьма, и Карл, без того желчный и мстительный, не уставал посылать проклятия виновнику своего заточения. Праздником стал для него день, когда он узнал о разгроме под Пуатье. Итак, любезный тесть теперь и сам стал узником! «Хвала Небесам, случается и в этом мире справедливость! – ликовал Карл, получив весть о пленении короля. – Поделом ему, пусть теперь посидит! Лондонский Тауэр, насколько известно, не такое уж приятное местечко, авось с помощью Бога и тамошних туманов сдохнет несколькими годами раньше…» Думать об этом было приятно, и он тешил себя мечтами, строил планы, замышлял, хоть и безуспешно, бесконечные заговоры. И ждал. Ожидание было мучительно для необузданной натуры Карла, но ничего другого не оставалось, и он даже научился извлекать некоторую радость из этого ожидания, предвкушая скорую, как надеялся, гибель своего врага. Дни проходили за днями, месяц за месяцем. Снова кончилось лето, наступила еще одна осень…
В День Всех Святых, получив тайнописное послание архиепископа Лаонского, сообщавшего план побега, Наварра понял, что терпение его на исходе. Теперь, когда освобождение было так близко, каждый лишний час промедления становился невыносимым, а день – серый, мутный от нескончаемого дождя, – как нарочно, едва полз, словно улитка в гору, и Карлу казалось, что он задыхается от нетерпения, ненависти и жажды действовать, мстить… Не может быть, чтобы Бог не внял его мольбам; король Иоанн не вернется живым из плена, сердце чует, что не вернется! Наварра зло усмехнулся, предвкушая счастливое событие, но тут же снова помрачнел. В самом деле, невелико счастье! Один сдохнет, другой останется – этот худосочный мозгляк кузен Карл, тогда уж Божьей милостью его величество Карл V. При одной этой мысли он зашелся от злости, но постарался взять себя в руки. К черту! Сегодня можно подумать о куда более приятных вещах. Итак, все должно быть готово к среде 8 ноября…
Он бросил нетерпеливый взгляд на узкое, забранное решеткой окно. Серые, набухшие от дождя тучи заволокли небо, поднялся ветер – тоскливо скребся в оконные рамы, гулял по пустынным коридорам замка, стонал в дымоходах. Да-а, погодка словно на заказ! Наверху, на стенах, должно быть, особенно холодно – ни одного стражника не выманишь из теплого укрытия лишний раз пробежаться по алуару, да и кастелян пораньше завалится спать из-за своей подагры. То-то удивится старый осел, когда головорезы Филиппа свалятся ему на голову среди ночи!
Довольный, мысленно уже прощаясь со всей этой опостылевшей обстановкой, Наварра с ходу пнул дубовый резной ларь, сильно ушиб большой палец и запрыгал на одной ноге, морщась от боли и ругаясь изобретательно и богохульно, как умеют только испанцы. Отведя душу, снова захромал по комнате, злобно поглядывая на блеклые гобелены, где уже нельзя было разобрать рисунка. Подпалить бы все это, уходя, а еще лучше – набить порохом хотя бы чертов ларь и приладить запальный шнур подлиннее… Скорей бы только, скорей! Теперь, когда оставались считаные дни, король едва мог сдерживаться – так невыносимо было ждать и бездействовать.
Не в силах оставаться на одном месте, он подбежал к окну, рванул тяжелую створку. В лицо пахнуло дождем, ветром, свободой. Жадно, полной грудью, вдохнул он холодный сырой воздух и поднял кулак жестом угрозы. До чего же он его ненавидел – своего тезку Валуа, сморчка, недоделанного дофина, заморыша! Ну ничего, скоро с помощью Бога или дьявола он померится силами с этим ничтожеством…
Сам Наваррец не очень понимал причину такой ненависти, да и не стремился понять. Ненавидел – и все тут! Причин, вероятно, много, что толку их перебирать. Самое смешное, что едва ли не главной было даже не соперничество из-за того, кому выпадет короноваться в Реймсе; Карл д’Эврё не мог простить Карлу Валуа его счастливой женитьбы. Сам он был женат смехотворно: тот же добрый король Иоанн, чтоб ему скорее подохнуть, ухитрился спихнуть за него свою дочурку Жанну Французскую, вдовицу семи лет от роду. Впервые ее выдали замуж в четыре года, сейчас королеве Наваррской должно было быть около двенадцати, но Карла отнюдь не тянуло знакомиться с супругой поближе. А Жанне Бурбон двадцать, и она только что подарила дофину дочь. Слава богу, хоть не сына! Но какая несправедливость, язвы Христовы! Почему этому недоноску Валуа даром достается то, чего лишен он сам?..
Если бы Злого спросили, чего, собственно, он так уж лишен, ответить на это ему, вероятно, было бы затруднительно. Да, французской короны его лишили (пока, во всяком случае), но – ежели по совести – что ему эта полуживая, разоренная Франция? Править маленькой Наваррой куда приятнее и уж во всяком случае спокойнее. Умом он это понимал, но неистовое сердце не могло смириться с унизительным положением вассала, так же как не могло оно не вскипать от ярости, представляя себе Жанну Бурбон в объятиях недоноска. И это тоже было неподвластно уму – дофина, хоть и на редкость хороша собой, все же не столь уж ослепительная красавица, чтобы во всей Наварре не нашлось кому ее затмить.
Да, разумеется, стоит лишь захотеть. Но вся беда в том, что с этим «захотеть» было не так просто, и провести ночь с женщиной, пусть красивой и искусной в любви, нисколько не помогало забыть дофину. Женщин ему доставляли и сюда, а что толку? Образ герцогини Нормандской продолжал саднить в груди, как незалеченная рана. В последний раз он видел ее позапрошлой осенью в замке Водрейль, недалеко от Руана, – дофин со своим двором остановился там по пути в Париж… Перед этим они не встречались около года, она похорошела за это время, ей уже исполнилось семнадцать, а может, он просто взглянул на нее другими глазами? До сих пор непонятно, с чего это на него вдруг накатило. Блажь, помутнение рассудка! Если бы раньше ему сказали, что он, кого даже жестокосердные испанцы прозвали Злым, будет сходить с ума по своей добродетельной невестке, он от души рассмеялся бы. Теперь же остается смеяться над самим собой. Смеяться и еще ненавидеть. Что ж, любезный кузен, счет к вам растет!
Глава 14
Постоялый двор «У веселого петуха» помещался в узком зловонном переулке позади Гревской площади, а дом напротив был блудилище, и непотребные девки – меретрикулы, как по-ученому именовал их школяр, деливший с Робером каморку и место в кровати, – приставали к прохожим в любой час дня или ночи, если только не было поблизости городской стражи.
Робер жил в Париже уже вторую неделю и все не мог привыкнуть – ходил по улицам в растерянности, ужасался толчее, грязи и отсутствию неба над головой. Небо-то, конечно, было, но его можно увидеть лишь на площадях, а в улицах оно едва проглядывало между крышами домов, близко придвинутыми одна к другой. Дома стояли тесно, были невиданно высоки – в три, а то и четыре этажа, и каждый этаж выдвигался к середине улицы хоть на полтуаза больше, чем нижний, – дом нависал над мостовой подобно опрокинутой лестнице. В некоторых переулках из окошка верхнего этажа можно было рукой дотянуться до противоположного.
Попал он сюда не сразу: на второй день после побега из Моранвиля, где-то под Ножаном, его прихватили рутьеры. Первого, попытавшегося стащить его с коня крюком, он убил – прыгнул на него прямо с седла и голыми руками раздавил горло. Лишь мгновением позже, решив для верности докончить дело ножом, он нащупал пустые ножны и вспомнил, что клинок, сломанный, остался там – на башне. Его тут же схватили, навалившись сзади, и потащили к вожаку, громко обсуждая, как с ним поквитаться за беднягу Жолио – сжечь ли, привязав к сухому дереву, или разрубить пополам, подвесив за ноги, как свиную тушу. Вожак разрешил их спор, сказав, что Жолио сам виноват, если спасовал перед безоружным парнем, а парень – боец что надо. «Принесите его сумку», – сказал он. Сумку принесли, распотрошили, но в ней не нашлось ничего интересного, кроме футляра с пергаменом. «Так ты что, гонец? Чей?» – спросил с опаской вожак, но Робер огрызнулся, что ничей он не гонец, а в футляре его отпускная грамота. Грамоту вытащили, развернули и долго читали по складам – в банде нашлось двое беглых клириков, умевших худо-бедно разобрать написанное. Оба подтвердили, что это и впрямь отпускная грамота. «Выходит, ты виллан, – захохотал вожак, – а мы – плешь святого Дионисия! – приняли тебя за дворянина! Сам виноват, парень, другой раз остережешься разъезжать на таком коне, да еще и заседланном по-рыцарски! Дурак, раз уж тебе пофартило угнать такого красавца, надо было сразу его продать. Вместе с седлом и сбруей за него дадут сотню ливров». Другой сказал, что больше, – один чепрак стоит не меньше пятнадцати. Добыча показалась рутьерам такой богатой, что они на радостях даже не обыскали Робера; улучив минуту, он вытащил из пояса и сунул под камень у дороги три золотых, полученных от Симона. Коня, как водится, забрал себе капитан шайки. Не переставая восхищаться ловкостью, с какой Робер отправил на тот свет растяпу Жолио, он предложил ему занять место покойного, с правом на половину двадцатой доли добычи. Робер, долго не раздумывая, согласился. Ночью, когда рутьеры спали, наведался к камню, достал свое золото и снова запрятал в пояс. Теперь он был полноправным членом банды и мог ничего не опасаться.
Жизнь бриганда, правда, оказалась вовсе не такой веселой, как он когда-то себе представлял. Вскоре пошли осенние дожди, ночевки под открытым небом делались все менее приятными, а главное – ему не нравилось грабить. Если бы грабили только богатых купцов, да при этом еще не убивали, было бы ничего; но эта сволочь – его новые товарищи – не гнушалась ничем, они могли утащить последнего ягненка из полуразвалившейся овчарни виллана, да и его самого пришибить, если пытался защищать свое жалкое добро. Кончилось тем, что однажды ночью Робер убил караульщика, приставленного к коновязи, и ускакал на своем Глориане. С конем и тремя золотыми в поясе он и появился в Париже. Один золотой пришлось отдать сразу – за место в конюшне и овес, который стоил здесь дороже хлеба.
Как жить дальше, он не представлял себе совершенно. Бригандаж больше не привлекал, можно поступить в солдаты, но, судя по всему, там было бы то же самое. А чем еще мог заняться в городе парень, который умел только делать крестьянскую работу да еще драться на всех видах оружия? Помнится, Гийом Каль советовал податься к какому-то купцу на улице Сен-Дени, да и Симон про него же говорил, но работать у купца казалось Роберу последним делом. Отмеривать ячмень да чечевицу, таскать тюки из подвалов – для этого, что ли, научили его владеть мечом?..
Школяр Рике, его сосед по комнате, однажды очень удивился, узнав, что Робер умеет читать и даже может составить письмо или грамоту аккуратными ровными буквами, и стал уговаривать его заняться наукой. «Иди в услужение к какому-нибудь доктору, – советовал он, – тот тебя подготовит, и смело можешь записаться в Сорбонну, там не из таких еще азинусов [59]делают ученых мужей. Не так уж трудно освоить тривиум, [60]для начала этого хватит, а потом с Божьей помощью овладеешь и всеми семью». Он красноречиво расписывал радости студенческой жизни, пока наконец Робер не спросил его, почему же он сам от них бежал. Рике объяснил, что его случай особый, он стал жертвой козней врага рода человеческого, ибо на экзамен явился отягощенный вином и не только затеял с прецептором [61]неуместный спор об универсалиях, [62]но еще и расколол о его голову грифельную доску, то есть совершил проступок, наказуемый уставом факультета. «Я, видишь ли, южанин, – добавил Рике в свое оправдание, – кровь у нас горячая, а вы здесь на севере народ смирный, вам проще. Не пытайся только спорить с докторами, и у тебя будет блаженная жизнь. Важно стать магистром, а потом все пойдет само собой». Впрочем, то, что он сам рассказывал о факультете, делало возможность овладения семью свободными науками более чем сомнительной. Да и к чему они? Вот разве что попом сделаться, как советовал отец Морель.
В этот день он снова отправился бродить по улицам. Когда выходил из ворот постоялого двора, раскрашенная меретрикула опять пригласила его зайти развлечься, а когда он прошел мимо, стала срамить на всю улицу.
– Содомит! – визжала она ему вслед. – Скотоложец, чтоб у тебя все отсохло!
На площади перед ратушей было много народу – ждали то ли казни, то ли чьего-то выступления. В последнее время с балкона ратуши часто обращались к народу разные люди, один раз говорил даже сам Марсель, купеческий старшина, коренастый плотный человек в богатом, на меху, кафтане, с короткой черной бородкой. Говорил он не очень понятно – про дофина и про королевский выкуп и еще про налог на соль. Робер мало что понял, далеко стоял, и ветер относил слова, да и разобраться в том, что услышал, было трудновато: у горожан была какая-то своя, малопонятная постороннему, жизнь. Так и не узнав, чего ждут люди сегодня, Робер ушел с площади и отправился на остров Ситэ. Здесь было интереснее всего: на Большом мосту, тесно застроенном лавками менял, ювелиров и торговцев самым разным добром, глаза разбегались от выставленного напоказ богатства. Другой мост, на полуденной стороне острова, именовался Малым – от него шла дорога на Орлеан и Блуа, по которой с раннего утра до закрытия ворот везли в город товары. Здесь стояла мытная стража, и ни одна повозка не проезжала без долгих препирательств по поводу количества и вида провозимого товара, причем стражники стремились содрать побольше, а возчики – заплатить поменьше. Третьего дня изловили жонглера с обезьяной, которую тот пытался тайно пронести под плащом. Стражники долго выясняли, чья это обезьяна и с какими целями ее несут в Париж, куплена ли она кем-то из горожан для собственного удовольствия или служит жонглеру для заработка. Тот сначала сказал, что зверя ему заказал некий купец именно для собственного удовольствия, поскольку зверь ученый и может считаться девятым чудом света, но, когда потребовали назвать имя купца и где тот живет, хозяин обезьяны смешался и вынужден был в конце концов признать, что да, он на этом девятом чуде зарабатывает деньги, давая представления жителям добрых городов.
– В этом случае, – торжествующе объявил начальник стражи, – ты обязан либо уплатить за свою ученую тварь положенный мытный сбор, либо дать бесплатное представление тут же, на мосту.
К радости собравшихся, жонглер согласился дать представление и, расстелив коврик, стал добросовестно потешать горожан и стражников. На Малом мосту вообще не было недостатка в развлечениях, вот и сегодня опять случилась потеха: кто-то вел козла, стража объявила его молодым и, следовательно, подлежащим обложению сбором, а хозяин клялся и божился, что козел стар, как Мафусаил, [63]на коз уже не смотрит давно и не первый год беспошлинно проходит по всем мостам королевства. Козла стали исследовать со всех сторон, и зубы ему смотрели, и копытца, и кольца на рогах считали, и чуть ли под хвост не заглядывали; кончилось тем, что он вдруг рассвирепел и, поддав под зад одному из стражников так, что тот растянулся в грязи, умчался прочь, волоча на веревке своего хозяина.
Насмеявшись вместе с зеваками, Робер вернулся к собору и долго стоял, запрокинув голову и разглядывая взнесенные в самое небо исполинские башни из светло-желтого песчаника. На резной балюстраде второго яруса сидели твари почище той обезьяны – кои с коровьим хвостом и птичьим клювом, кои с рогами и лицом, как у человека, кои вообще ни на что не похожие.
– Это что ж там такое? – спросил он, увидев проходящего монаха, и показал на чудищ, обсевших башню.
– Это твои грехи, – объяснил монах, – образы зла, которые гнездятся у каждого из нас в сердце. Здесь они выставлены на общее обозрение, дабы всякий христианин видел свою истинную суть. Молись и кайся ежедневно, дабы сии адовы исчадия не пожрали тебя изнутри, как червь пожирает яблоко!
– Да я молюсь, – пробормотал Робер, торопливо осенив себя крестным знамением.
Надо будет пойти исповедаться, подумал он, давно он этого не делал… А теперь, и в самом деле, грехов накопилось – не перечесть. То, что убил двух рутьеров, – это грех? Конечно, первый сам напал на него, а вот второго… Нет, правильно сделал, иначе было не уйти. А она – неужели все это гнездится и в ее душе? Наверное, ведь нет худшего греха, чем измена…
На Большом мосту он купил у разносчика хлебец и съел его, запив кружкой кислого вина. За это пришлось выложить денье – здесь, в королевской столице, даже яблока не съешь на дармовщину. Пообедаешь вот так три раза, и уже нет лиара, а двенадцать раз – так и целого су. Робер даже испугался, сообразив это, сам себе не поверил и, присев на корточки, щепкой стал рисовать на земле кружочки: большие, поменьше и совсем малые. Нет, все сходилось, в одном су – четыре лиара, а в каждом лиаре – три денье. Отец Морель не зря обучил его счету, даже растолковал насчет турской и парижской системы: турские деньги чуть полегче, пятнадцать турских денье все равно что двенадцать парижских. В Туре, стало быть, прожить еще дороже? Хорошо, что он попал в Париж. Конечно, пока-то он при деньгах, а когда проест все состояние?
Вернувшись на правый берег, он спросил у прохожего, не знает ли тот улицу Сен-Дени.
– Так это тут, рядом, – ответил тот, – иди сейчас налево и выйдешь прямо на Сен-Дени, только не ошибись и не пойди направо – там будет другая улица, Сен-Мартен, обе они начинаются отсюда. А кого ты там ищешь? – поинтересовался словоохотливый горожанин.
– Там, возле церкви Святой Оппортюны, живет купец, мэтр Жиль, может, вы слыхали…
– Жиль, бакалейщик? Пьер Жиль, кто же про него не слыхал! С самим Марселем, говорят, дружит. Ты к нему? Идем вместе, а по пути расскажешь, что у тебя за дело к почтенному бакалейщику…







