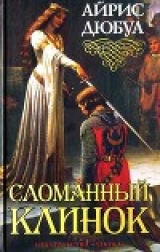
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
– Нет, поем в дороге. Надо поспеть в Париж до закрытия ворот, позже не пропустят через заставу… Так ты когда приедешь?
– Вернется отец, и я сразу начну собираться. Надо ведь его еще уговорить, но это будет нетрудно, он сам как-то зимой советовал мне побывать при дворе герцогини Нормандской. Вот я и скажу, что решила…
– Погоди. – Робер озабоченно поглядел на Аэлис. – Говорят, супруга дофина покинула Париж, со всеми своими дамами…
– Ну и что? – Аэлис пожала плечами. – Придумаем что-нибудь…
– Любовь моя, ты только обязательно меня предупреди, когда соберешься ехать. Непременно, слышишь?
– Хорошо, я пришлю Тома!
– Да, и обязательно дождись его возвращения, прежде чем выезжать. Я передам, все ли в порядке.
– А что может быть не в порядке?
– Что угодно! В Париже неспокойно, я ведь тебе говорил…
– Ах, да что мне за дело до всех этих дурацких марселей! Я приеду к тебе, и это главное.
– До свидания, моя любовь…
– Робер! Любимый…
Прыгая через две ступени, Робер сбежал по парадной лестнице, обернулся и, подняв голову, помахал высунувшейся из окна Аэлис. Потом, уже не оглядываясь, зашагал через двор к Урбану, который держал под уздцы оседланных коней. Навстречу, от конюшни, шел человек в необычной для замковой челяди одежде. Поравнявшись, Робер рассеянно глянул и узнал итальянского слугу господина Донати; взгляды их на миг встретились, и Беппо прошел мимо с непроницаемым лицом.
Книга третья
ДЕНЬ ГНЕВА
Глава 23
Ассамблея Генеральных штатов в Компьене затянулась, но мессир Гийом был тому рад. Давно уже он не чувствовал себя так хорошо, словно помолодел в хорошо знакомой ему среде политиков и придворных интриганов, каждый из которых, участвуя в общей игре, одновременно вел и свою, тайную. Каким наслаждением было следить за всем этим, заводить полезные знакомства, ловить сплетни и слухи, одни опровергать, другие тут же перебрасывать дальше, словно при игре в мяч…
Общий смысл происходящего был, впрочем, ему пока не очень ясен. Да и не только ему. Наваррская партия, еще недавно имевшая все шансы захватить власть в королевстве, стала вдруг терять силы. Оставшийся для всех полной загадкой внезапный отъезд Карла д’Эврё из Парижа в марте выставил короля перед парижанами в самом дурном свете: вероломным и ненадежным союзником, который сегодня делает то, что еще вчера клятвенно обещал не делать. Братья Пикиньи, как и все их единомышленники, очень рассчитывали, что он выступит на ассамблее с одной из своих зажигательных речей, которыми всегда умел убедить слушателей в чем угодно. Но Злой вообще не появился в Компьене, хотя и обещал…
Надо ли удивляться, что – после Санлиса и Прованса – Штаты в Компьене тоже высказались за регента, а парижскую делегацию, возглавить которую не постеснялся монсеньор Лаонский, прогнали с позором и поношением. Мятежная столица оказалась без союзников.
Как ни странно, к такому повороту событий Гийом де Пикиньи, в отличие от Жана, отнесся довольно спокойно. «Наваррская интрига», в которую он вложил столь много (вплоть до судьбы собственной дочери), таяла как мираж, а ему было чуть ли не все равно. Не совсем так, конечно; сознавать свою ошибку всегда неприятно.
Сам Наваррец тоже виделся ему теперь в несколько ином свете, хотя знал он его давно и считал, что знает хорошо. Здесь, в Компьене, брат Жан в минуту редкой для него откровенности за кувшином вина поделился некоторыми подробностями переговоров, которые братья д’Эврё давно уже ведут с англичанами. Для мессира Гийома сам факт переговоров новостью не был, но деталей он не знал, узнав же теперь, призадумался. Речь шла ни много ни мало о разделе Франции: в обмен на коронацию в Реймсе, Карл готов был отдать Плантагенету чуть ли не половину страны.
Да, игра заходила слишком далеко, она уже перерастала пределы обычной династической распри. Но если их перейти, борьба за корону может легко обернуться государственной изменой. Гийом де Пикиньи все чаще спрашивал себя, так ли уж далек Карл Наваррский от этой опасной черты.
Ему вдруг захотелось домой – делать здесь, в Компьене, было уже нечего, начался разъезд представителей. Мессир Гийом велел своим людям готовиться к отъезду в последний день мая, можно было бы и раньше, но на 29-е был назначен прощальный обед у регента, отсутствовать на коем Пикиньи счел неудобным.
А домой тянуло все больше, он теперь постоянно думал о дочери, прикидывал разные способы помирить ее с мужем, но ничего дельного на ум не приходило. Может, сама перебесится! К этим мыслям примешивалась и тревога, потому что в последние дни в Компьень стали приходить вести о том, что в Бовэзи становится неспокойно: то ли появились новые отряды рутьеров, то ли беглые вилланы стали собираться в шайки и, вооружась, нападать на путников. Последнему, впрочем, верили мало, ибо представить себе вооруженного и нападающего виллана – «жака-простака», как его называют в этих местах, – было просто нелепо.
Поверить, однако, пришлось. В тот самый день, когда представители дворянского сословия пировали у регента, веселье было вдруг прервано громким шумом в дверях. Расшвыривая королевских сержантов, в зал вепрем вломился Тибо де Пикиньи, и вид его ужаснул всех. В разорванном плаще, с серым от пыли лицом и пятнами засохшей крови на камзоле, сьёр де Монбазон прошагал в середину составленных «покоем» столов и, остановившись перед регентом, хрипло крикнул сорванным голосом:
– Беда, государь! Подлый люд поднялся по всему равнинному краю и истребляет дворян! Взгляните – на моих руках кровь благородного Ги де Форе, которого дикое мужичье растерзало, словно волки оленя! К оружию, мессиры!! – заорал он, обернувшись к гостям и обводя их налитыми кровью глазами. – На коней! Истребляйте хамово отродье до последнего выродка, топчите их как гадюк, если не хотите, чтобы они сожгли наши замки и овладели нашими женами и дочерьми! К оружию, и забудьте слово «милосердие»!!
Так узнали в Компьене о начале великой смуты. Никто не мог толком рассказать, с чего она началась, но один факт можно было считать достоверным: 28 мая в деревушке Сен-Лё-д’Эссеран крестьяне напали на небольшой отряд людей регента, собиравших в округе очередную дань. Стычка эта стоила жизни пятерым оруженосцам, а также четырем рыцарям, среди которых оказался Рауль де Клермон – племянник маршала Франции, погибшего в битве под Пуатье. Брат Рауля, говорят, во всеуслышание поклялся отомстить за его смерть так, как еще никто никогда не мстил; и тогда в мятежных вилланов словно вселился дьявол. В Сен-Лё ударили в набат, поднялись окрестные села – Крамуази, Нуантель. Быстро увеличиваясь, толпа бунтарей – вначале их было не более сотни – двинулась к ближайшему замку, крича, что пришел час истребить всех дворян до последнего, ибо они предали королевство и грабят народ, вместо того чтобы оборонять его от врагов. В пути к ним присоединялись новые группы крестьян, спешно вооружившихся чем попало – кто косой, кто топором, кто просто дубиной или заостренным колом. Когда наступила ночь, небо над долиной Уазы уже кровянилось заревами пожаров – это пылали твердыни феодалов, еще недавно казавшиеся такими неприступными…
По-разному восприняли в Компьене страшную новость. Регент растерялся и медлил, не решаясь действовать, хотя теперь уже не приходилось сомневаться, что местный бунт перерастает в настоящее восстание, быстро распространившееся на прилегающий к Бовэзи район, охватив долину Терена, Пикардию и Суассонэ. В течение первых же дней в пределах епископства Лаонского, окрестностей Суассонэ и Санлиса было разрушено более ста замков и даже несколько богатых монастырей.
Зато дворяне рвались в бой. Перед этой неожиданной и грозной опасностью отступили личные счеты – никогда еще французское дворянство не было так единодушно, как в эти дни, сплоченное ненавистью и страхом.
Все громче раздавались голоса, открыто обвинявшие регента в губительном бездействии, требовавшие примириться с Наваррой и совместно ударить на жаков. Еще недавно порицавшие Карла д’Эврё за «шашни с горожанами» – теперь открыто превозносили решительность Наваррца, его воинственный нрав, даже его общеизвестную жестокость. Популярность Карла Валуа снова начала падать.
Регент видел все это, но делал вид, что не замечает. Пожалуй, именно тогда начали проявляться в нем те дарования и черты характера, благодаря которым ему суждено было войти в историю Франции под лестным прозвищем Мудрый. Растерявшись при первом известии о восстании, он быстро оправился от испуга, и нерешительность его была лишь кажущейся; уступить требованиям жаждущих мести дворян было проще всего, но он уже понимал то, чего до конца жизни так и не смог понять его отец: что народ, вверенный его попечению, состоит не из одних дворян и что благополучие страны зиждется как раз на тех, чьей крови от него сейчас требовали. Далекий от сочувствия бунтовщикам, он все же видел в них своих подданных, понимая неизбежность кровопролития, еще надеялся сделать так, чтобы крови пролилось меньше.
Мессир Гийом де Пикиньи с самого начала восстания не мог думать ни о чем, кроме безопасности Моранвиля, где осталась Аэлис. Вполне доверяя опыту Симона, он все же не находил себе места от тревоги; вечером, после злополучного обеда у регента, он, спускаясь по лестнице, оступился и повредил себе ногу, да так, что она распухла снизу чуть ли не до колена; отец Эсташ запретил ему садиться в седло по крайней мере дня два-три и велел лежать. А пуститься в путь в носилках он не рискнул, боясь насмешек. Припарки, впрочем, сделали свое дело, и, хотя нога еще побаливала, мессир велел готовиться к отъезду.
Вечером пришел шамбеллан и сообщил, что его высочество регент хотел бы повидать мессира Гийома де Пикиньи перед его отъездом из Компьеня. Гийом отправился немедля и был принят с отменной любезностью.
Расспросив про ногу и велев принести от мэтра Жамблю горшочек какой-то чудодейственной мази, регент пожелал ему счастливого пути и осведомился, не вместе ли с братом, мессиром Тибо, они едут.
– Брат действительно едет со мной, сир, – подтвердил Пикиньи.
– Разумно, – одобрил регент, – сейчас лучше ездить большими отрядами, а сьёр де Монбазон – человек отважный, истинный воин. Я только вот о чем хотел бы вас попросить… К нему самому я не решился бы обратиться с подобными увещеваниями, но вы, мессир Гийом, человек иного склада и, я уверен, поймете меня правильно. Мы все в равной мере ужасаемся бедствиям бунта и тем преступлениям, что творятся ныне на нашей земле. Как регент королевства, я могу заверить каждого из моих дворян, что ни одно не останется безнаказанным. Но, согласитесь, одно дело – законное наказание преступников, и другое дело – месть вообще, слепая и не отличающая правого от виноватого. Сейчас многие призывают именно к этому, и среди них едва ли не громче всех звучит голос вашего брата Тибо. Но пристало ли благородному рыцарству Франции уподобляться в кровожадности темному люду? Ибо народ наш темен, мессир Гийом, он невежествен и к тому же сверх меры озлоблен бедствиями долгой войны; надо ли удивляться, что озлобление его прорывается в таких вот ужасающих деяниях… Да, злодеи не щадят ни детей, ни жен наших баронов; однако ваш брат во всеуслышание призывал к тому же в отношении мятежных вилланов, а ведь он рыцарь и дворянин, ему негоже соперничать с вилланом в зверстве и неистовстве…
– Увы, ваше высочество, мой брат – человек неистовый.
– Именно поэтому я веду этот разговор не с ним, а с вами. Его призывы могут найти отклик в сердцах многих. Дворянство тоже озлоблено, ибо оно боится, а страх порождает злобу. Попытайтесь образумить вашего брата. Любая месть порождает ответное насилие… или бросает в почву его семена, которые прорастут рано или поздно. Сыну негоже осуждать действия отца; но разве мы не убедились, какую смуту вызвала в Нормандии королевская месть за убийство коннетабля? Разумеется, Деласерда был умерщвлен злодейски, кто же спорит, и граф д’Аркур со своими друзьями совершил преступление, даже если действовал по наущению моего кузена Наварры, но ведь и расправа с ними тоже была беззаконной! Вместо того чтобы вызвать убийц коннетабля на суд парламента, король повелел схватить их у меня за столом – я тогда пригласил в Руан представителей лучших семей Нормандии, рассчитывая достичь наконец какого-то примирения между королем и нормандским дворянством; ничего себе получилось «примирение»! Моих гостей выволокли из пиршественного зала и немедля казнили без суда и следствия. А в каком положении оказался я? И знаете, – дофин доверительно понизил голос, – я вижу не просто случайность в том факте, что под Пуатье мой отец вынужден был отдать меч не английскому рыцарю, а некоему де Морбеку, уроженцу Нормандии. Из тех, что пошли служить англичанам… Вот вам пример, к чему приводит необдуманная месть!
– Сир, вы, несомненно, правы, – согласился Пикиньи. – То, что д’Аркура и его друзей обезглавили без суда, было прискорбной ошибкой.
– Такой же ошибкой может оказаться и наша, излишне горячая, реакция на события в Бовэзи. Мятеж должен быть подавлен, он будет подавлен, и все виновные понесут заслуженное наказание, но боже нас упаси распространить месть на тех, чья вина окажется сомнительной и недоказанной. Этому я буду препятствовать в меру возложенной на меня власти, но, мессир Гийом, будем смотреть на вещи трезво, власть эта пока эфемерна. Мне просто не обойтись без поддержки умных людей, способных понять смысл моей политики. А смысл этот в том, что я хочу наконец вернуть мир французской земле…
Возвращаясь к себе, мессир Гийом снова подумал, так ли уж он был прав, поставив в свое время на Карла д’Эврё. Карл Валуа неожиданно начинал выглядеть умнее и дальновиднее своего кузена; как знать, не суждено ли наконец Франции обрести в его лице истинного короля – первого за последние полвека… Из всей череды незадачливых преемников Филиппа Красивого Иоанн оказался едва ли не самым бездарным, отмеченным даже в облике явственной печатью вырождения – этот блуждающий взгляд, нелепо удлиненный подбородок, безвольный рот, – и надо же, чтобы у этакого дурака оказался такой сын. Неглуп, совсем неглуп! Дело, понятно, не в сострадании к вилланам, но что при подавлении мятежа нельзя дать волю чувствам – в этом регент прав. Стоит перегнуть палку, и вилланы станут толпами уходить к англичанам.
Утром, когда их отряд уже порядком удалился от Компьеня, Гийом пересказал брату вчерашний разговор с регентом. Мессир Тибо, как и следовало ожидать, обозвал регента трусливым выродком и стал всячески поносить королеву Бонну, которая уж точно прижила его от какого-нибудь свинопаса, ибо король хоть и дурак, но зато истинный рыцарь, чего не скажешь о старшем сынке.
– Пуп Вельзевула!! – орал он, тесня брата конем. – И такому привязали золотые шпоры! Да ему тонзуру надо было выстричь, и в рясу его, в рясу, чтобы проповедовал на здоровье свои бредни о снисхождении к мужичью! Мало того что эта люксембургская шлюха погубила доблестного графа Рауля…
– Ну при чем тут граф Рауль? – поморщился мессир Гийом.
– А притом, что королева сама зазывала его в постель, об этом знали все, кроме короля! Он, понятно, тоже узнал – добрые вести не залеживаются, – да только поздно, когда коннетабль был уже в английском плену! А иначе почему бы, ты думаешь, его обезглавили немедля по возвращении? Вот то-то и оно! Объявили, понятно, что граф повинен в сговоре с врагом, но какой к черту сговор, просто королю стыдно было сознаться, что мадам Бонна уподобила его оленю! Но уж нашего милого Карла она прижила не от коннетабля, это бы еще полбеды, ибо он был рыцарь; скорее всего, дофин-регент – отродье какого-нибудь блудливого монаха, из тех, что ошиваются вокруг знатных дам. Вот они вдвоем и спроворили этого трусливого ублюдка!!
– Сударь, – строго сказал Гийом, – я запрещаю вам в моем присутствии говорить в столь неучтивых выражениях о наследнике французской короны.
Тибо, изумленно глянув на брата, разразился хохотом:
– Ах ты, хорек, да ты никак уже подумываешь снова переметнуться? Ну, каналья! Может, все-таки не стоило выдавать дочку за менялу? Теперь ты с ее помощью мог бы обстряпать дельце повыгоднее – на этот раз в пользу Валуа!
И, не дав онемевшему от возмущения брату опомниться, пришпорил коня и ускакал вперед, нагло окатив Гийома пылью из-под копыт.
Ехали не спеша, рассчитывая переночевать в Клермоне и быть в Моранвиле к вечеру следующего дня. Еще накануне Гийом подумывал, не поехать ли осторожности ради более длинным путем – в объезд, огибая с севера охваченную смутой бовэзийскую равнину, но потом устыдился чрезмерной осторожности. В конце концов, не в одиночку же он путешествует! Его собственная охрана, да еще головорезы Тибо, это уже немалая сила, достаточная, чтобы не опасаться нападения мужичья…
Человек, однако, предполагает, а Бог располагает. Лучше бы барон де Пикиньи прислушался к голосу рассудка! Уже вечерело, и отряд, приближаясь к Клермону, достиг перекрестка двух лесных дорог, одна из которых уходила на юг, к Лианкуру; стражник, ехавший впереди дозором, воротился и сказал, что дорога завалена.
– Так разберите завал, – распорядился Гийом. – Возьми еще людей и растащите деревья!
– Да не дадут, – отозвался стражник, сняв саладу и рукавом размазывая по лбу грязный пот. – Их там много; велели сюда не ехать, а чтобы обратно на Компьень…
– Кто такие?
– Кто их знает, мессир, жаки, надо думать…
– Ну наконец-то! – взревел Тибо и обернулся к своим людям. – К бою!! Сейчас они у меня получат, кровь Господня!!
– Стоять всем! – Гийом поднялся на стременах и протянул руку повелительным жестом. – Здесь я командую. Всем стоять, а мы проедем вперед – узнаем, что за люди и чего хотят. Впрочем, поезжайте следом, но медленно и не обнажая оружия. Пьер, Жакен, следите, чтобы никто не ослушался!
Он тронул коня шпорами, посылая его вперед. Странно, вчера почти боялся, а сейчас – когда возникла действительная угроза – страха не стало, он был уверен, что сумеет покончить дело миром. Будь у тех, кто завалил дорогу, всерьез враждебные намерения, они уложили бы дозорного на месте, не дав ему вернуться и предупредить остальных…
– Не валяй дурака, брат, – сказал подъехавший сзади Тибо. – Вышлем вперед спешенных арбалетчиков, под их прикрытием разберут завал, а потом ударим – ни одна тварь не уйдет!
– Не спеши, сперва разберемся…
Когда завал был уже совсем близок и можно было различить толпящихся за ним людей, поверх головы Гийома свистнула стрела. Он пригнулся, но тут же сообразил, что промах с такого близкого расстояния едва ли случаен, – стрела прошла слишком высоко, она была просто предупреждением. Пикиньи принял гордую осанку и поднял руку.
– Слушайте меня, добрые люди! – крикнул он. – Вы видите, я выехал к вам без оружия, приказав не обнажать его своим солдатам, – они там, сзади, и их много. Пропустите нас в Клермон и разойдитесь с миром, если вы добрые французы! Не слушайте смутьянов, которые подбивают вас на дурные дела! Я вчера говорил с его высочеством регентом; верьте мне, он знает о ваших нуждах, его главная забота сейчас – замириться с англичанами и покончить со смутой, чтобы наконец-то мир воцарился на нашей земле! Мир, который всем нам так нужен! А можно ли ждать мира, если французы будут убивать друг друга!
Жаки, выходя из лесу по сторонам и из-за поваленных поперек дороги деревьев, понемногу приближались к всадникам, окружая их, но не проявляя пока враждебных намерений. Оружие свое они держали на плечах, как крестьяне привыкли держать косу, вилы или мотыгу, возвращаясь с поля. Подоспевший тем временем отряд скучился позади братьев Пикиньи, солдаты настороженно поглядывали на жаков, которых становилось все больше.
– Не слушайте этого краснобая! – крикнул кто-то. – На словах они все добрые! Сказано, чтобы всех дворян – под корень!
– Очень хорошо, – сказал Гийом, стараясь сохранить спокойствие. – Дворян – под корень, а воевать кто будет? Кто будет защищать вас от англичан? Или от фламандцев – те тоже могут прийти, почему же нет, пусть только узнают, что французы перебили своих дворян!
– Покамест мы от своих больше зла видели, чем от фламандцев!
– Кто же спорит, добрые люди, кто же спорит, – продолжал увещевать Гийом, – есть и дурные бароны. Найдется управа и на них, дайте срок, надо только сперва прогнать англичан да всех этих пришлых бригандов, от которых уже житья нет…
Его слушали довольно безучастно, но и без возражений, если не считать отдельных выкриков; Гийом решил уже, что все обойдется, когда вдруг увидел, как один из жаков, стоя позади остальных и чуть поодаль, поднял лук, целясь, как ему показалось, прямо в него. Он не успел ни крикнуть, ни отшатнуться, стрела просвистела снова, но на этот раз совсем низко, она пролетела правее его плеча, сзади кто-то вскрикнул, послышался шум падения. Залязгало вырываемое из ножен железо, свирепо заржал вздернутый на дыбы конь мессира Тибо – тот бросил его прямо на толпу, вырывая из ремней притороченный позади седла боевой топор. И сир де Пикиньи понял, что все пропало, что ему уже не увидеть ни дочери, ни башен Моранвиля, что не надо больше прикидывать, гадать, рассчитывать, что все это было пустым и ненужным, если может сейчас кончиться вот так, сразу, внезапно и только потому, что поехали этой дорогой, а не свернули в сторону… Все было тленом и суетой, и как странно, что в полной мере это понимаешь лишь в самый последний миг. Когда уже ничего не поправить.
Его ударили по голове чем-то тяжелым и острым, бархатная шляпа лишь едва смягчила удар, кровь стала заливать глаза. Падая, он еще успел увидеть, как брата стаскивают с коня, зацепив за шею и плечи крюками-«расседливателями»; мессир Тибо отбивался, слепо рубя направо и налево, потом выронил топор и взревел, точно пронзенный кошем вепрь. Гийом по-своему любил брата, но сейчас его гибель не вызвала печали, он знал, что тоже умирает, с головокружительной быстротой его уносило течением все дальше, туда, где больше не будет времени, туда, где – он знал – он увидит и покойную жену, и всех, кто был ему когда-то дорог, а со временем – и Аэлис. Это было главное, он с бесконечным облегчением и радостью сознавал это, и сроки уже не имели значения, ибо время сомкнулось…
Глава 24
Вести о крестьянском мятеже в Бовэзи достигли Парижа в первые дни июня, почти одновременно с письмом Гийома Каля – «генерального капитана» мятежников, – в котором тот обращался к Этьену Марселю с предложением действовать сообща. «Каждый из нас по своему разумению и возможностям борется за наши права и свободу, – писал Каль, – так не разумнее ли будет, ежели мы объединим силы? Ведь порознь ни одному из нас не одолеть врага, сколь бы ни были велики наши старания и жертвы…» Письмо это, зачитанное Марселем в ратуше, вызвало бурю негодования и разногласий между эшевенами. Большинство было возмущено наглостью мужицкого вождя, более умеренные высказались в том смысле, что, хотя в послании и немало здравых мыслей, было бы неосмотрительно высказать с ними согласие, проявив некую общность замыслов между столичным «третьим сословием» и бунтующей деревенской чернью. Всех удивил Пьер Жиль, показав себя истинным гасконцем, – те, как известно, славятся непредсказуемостью поступков. Вопреки своим прежним высказываниям, бакалейщик примкнул к партии меньшинства, допускавшей возможность немедленного и открытого союза с жаками.
– Неужели вы тут до сих пор не поняли, – кричал он, потрясая кулаками, – что нам и так ничего другого не остается? Вы что, перестали сколько-нибудь здраво рассуждать? Или иной из вас уже подумывает о том, что неизвестно, как оно еще обернется? И не лучше ли подумать о совсем другом союзе? Всегда ведь можно найти козла отпущения!
После этого заседание едва не перешло в драку. Даже единомышленники Жиля осудили его за несдержанность, остальных же удалось унять только после того, как негодующий гасконец хлопнул дверью.
Между тем человек, который мог бы покончить с разногласиями, впервые не чувствовал в себе силы сделать решительный шаг. Этьен Марсель колебался, упуская единственный шанс изменить ход событий в свою пользу.
– Ты теряешь рассудок, Этьен! – уже уходя, крикнул ему Пьер. – Попомнишь мои слова, это последняя возможность припугнуть дофина – другой не будет!
Но Марсель уже не был способен на смелые решения. Принятое им теперь – после долгих колебаний – не сулило никакой пользы, однако перевело парижан в лагерь открытых врагов королевской власти: Марсель решил послать на помощь восставшим два отряда, один под командованием Пьера Жиля, другой под началом старшины монетчиков Жана Вайяна. При этом, верный своему коварству, обоим дал указания по возможности не сотрудничать с жаками и соблюдать в этой экспедиции прежде всего интересы коммуны, а именно: показать силу городского ополчения и нагнать страху на окрестных дворян. Главной же задачей отрядов было сровнять с землей все окрестные замки, могущие быть использованы при осаде Парижа.
Решение это было принято дня через два после бурного заседания в ратуше. Пьер Жиль успел поостыть; вернувшись домой, он вызвал к себе Робера и, рассказав о полученном предписании, с усмешкой добавил:
– Итак, капитан, завтра мы выступаем, вроде бы на помощь жакам – на самом же деле, как я понимаю, позлить дофина и надергать перьев у окрестных дворян.
Робер, хмурый и озабоченный, пожал плечами:
– Глупая затея, не в обиду вам будь сказано. Кому нужна такая помощь? Вот уж ни богу свечка, ни черту кочерга!
– А что делать? Хорошо, если Марсель просто устал… А если изверился? Тут у меня выбор простой – или порвать с ним, или поддерживать его до конца, какие бы ошибки он ни делал. Да впрочем, это уже и не имеет значения, одной дурью больше, одной меньше… После того что сделали в феврале…
Да, убийство маршалов, этим все и началось, подумал Робер. Один неверный шаг – и… а, да черт с ними, с маршалами. В конце концов, что было, то было – прошлого не воротишь, а вот ему-то самому что делать? Как быть дальше? С тяжелым сердцем смотрел он на Пьера, уже почти тяготясь связавшей их службой. Еще какой-нибудь месяц назад все было бы просто, но теперь… теперь он более не сомневался в любви Аэлис, и перед этим отступало все. Нет, он и не думал о том, чтобы сбежать, бросив свой отряд; это было бы изменой, а как он мог изменить человеку, который ему поверил? Но безнадежность происходящего становилась все более очевидной. Не на что надеяться взбунтовавшимся жакам, не на что надеяться Марселю и его сторонникам – не на что и не на кого. Еще недавно кичились «нерушимым союзом» с королем Наварры – уж он-то нас в обиду не даст, с ним мы как за каменной стеной, никакие Валуа нам не страшны! А что получилось? Наваррец оказался сущим иудой, сбежал и теперь, говорят, затевает какие-то тайные шашни с дофином…
Так надо ли ему самому упорно закрывать глаза на свое положение во всей этой каше? Для него главное сейчас – Аэлис, уж теперь-то ее у него не отнимут, он просто увезет ее во Фландрию, в Лангедок, куда получится, лишь бы не сыскали. Но если оставаться в этом обреченном Париже…
Пьер Жиль продолжал толковать о своем, расхаживая по комнате, потом глянул на Робера и оборвал себя на полуслове. Да, вот и этот уже не с нами, во всяком случае душой… Что ж, парня можно понять!
В комнате повисло молчание. Робер неподвижно глядел в одну точку, точно грезил наяву… Пьер вздохнул и, подойдя, тронул его плечо:
– Наскучил я тебе с нашими делами, Робер. Ну, тогда давай поговорим о твоих.
– О чем? – Робер настороженно смотрел на Пьера.
– Однажды, помнится, я тебя уже спрашивал об этом, теперь хочу спросить еще раз, может, пришла нам пора расстаться?
«Вот оно, – подумал Робер, – словно сама судьба подсказывает».
– Трудно ответить вам, мэтр Жиль. Видит бог, я желал идти с вами до конца, но… когда я был в Моранвиле, вот в этот последний раз, случилось такое, что… одним словом, я обещал и теперь…
– Все понятно, парень! – Пьер Жиль ободряюще улыбнулся. – Слово положено держать.
Лицо Робера пошло багровыми пятнами.
– Я ведь вам тоже дал слово и вот… теперь вот вроде сбегаю… понимаю, выглядит это не очень…
– Да брось ты! Я ведь сам много раз советовал тебе подумать о лучшем выборе. Предлагал еще поступить на службу к Карлу дʼЭврё… Помнишь?
– Я все помню, мэтр Жиль, – тихо ответил Робер. – Вы были добры ко мне, поэтому-то мне и трудно сейчас…
– Верю. Ну а теперь ближе к делу – когда ты хочешь уйти, теперь или после нашего «военного похода»?
Робер попытался улыбнуться:
– Так быстро вам от меня не отделаться! Конечно же, после похода.
– Вот за это спасибо. – Пьер помолчал, потом спросил: – Если не секрет, к кому решил податься? Или хоть знаешь куда?
– Куда – знаю. А вот к кому… – Робер пожал плечами. – Еще не решил, может, буду сам по себе.
– Этого не делай! Одному нынче не устоять, мигом затопчут. Почему бы тебе не подумать о Наварре?
– Не по душе он мне. Скользкий какой-то, криводушный. Какой это рыцарь!
– А тебе что, рыцарских подвигов захотелось? Тогда ступай к этому безумцу Гийому Калю, вместе головы и сложите. Глупо, зато красиво.
– Да нет, что мне там делать… – Робер задумался, потом спросил: – А не рано вы его хороните, мэтр Жиль? Ведь в такой заварухе можно и выиграть, если вовремя раскинуть мозгами.
– Можно, если мозги не набекрень. Но у твоего приятеля их вообще нету.
– У моего… Он уж скорее ваш приятель – к вам-то я по его подсказке пришел!
– За это ему спасибо. Я и в самом деле давно знаю Каля и всегда имел о нем самое доброе суждение – человек он честный и верный. Однако мыслями иной раз так его заносит, что слушаешь и только диву даешься. Особенно теперь, когда пошла вся эта неразбериха! Ну хорошо, соберет он эту свою мужицкую армию, а потом что?
– Это вы, со всем уважением будь сказано, рассуждаете как человек невоинский, – не без лихости возразил Робер. – Мало ли «что потом»! Когда приходит время подраться, об этом не спрашивают.
– Ну конечно, куда уж мне до такого вояки, как твоя милость, господин капитан.
– Вояка не вояка, но воевать мне случалось. А как же тогда, мэтр Жиль, вы в ратуше сами выступили за союз с армией жаков?
– У нас есть другая? Понятное дело, лучше бы заполучить в союзники тех же фламандцев, да как? У них там своих забот хватает с избытком! А сам по себе Париж не устоит – Наваррец нас подло бросил, регент после убийства маршалов наш злейший враг… И увидишь, теперь они помирятся – нам на голову. А против Валуа и д’Эврё Парижу не устоять, – повторил Жиль, – это я и пытался втолковать нашим эшевенам. Жаки какие ни есть, а все-таки подмога…







