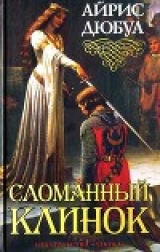
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
– Туда, к морю. – Джулио кивнул на темное окно. – По дороге на Руан, около трех дней пути через Компьень. Так ты решил ехать?
– Съездим, это ни к чему не обязывает.
– Только не соглашайся сразу! Сделаем вид, что нас это не очень интересует, иногда лучше не спешить…
– А мы и не будем спешить. Все равно надо заехать в Клермонское аббатство к нашему старому клиенту – долг он пока отдавать не собирается, но приглашал навестить. Теперь-то я понимаю, почему аббат, как мне сказали в Париже, тоже поддерживает Наварру…
– Похоже, обложили нас со всех сторон, а?
– Пусть обкладывают, – усмехнулся Франческо. – Еще не родился человек, который сумеет перехитрить банкира. Почаще бы вспоминали испанскую поговорку «Полез за шерстью, а вылез остриженный».
Глава 3
Среди ночи мессира разбудил петушиный вопль – он вскочил с бьющимся сердцем, кощунственно помянул вслух врага рода человеческого и так же громко поинтересовался, каким образом окаянная птица смогла устроиться прямо под окном опочивальни. Первым порывом было позвать кого-то немедля – сказать сенешалю, [18]чтобы завтра же птичий двор был очищен от петухов. Всех до единого, разрази их гром!
Смелое решение успокоило Гийома, он снова лег, натянул на ухо легкое меховое одеяло, но петух опять заорал – на этот раз не так пугающе.
– Ори, ори, – хмыкнул барон, – скоро ты умолкнешь надолго…
Впрочем, ему уже пришло в голову, что дело с петухами надо бы обдумать получше, крайняя мера может оказаться убыточной. Без цыплят тоже не обойтись. За всеми этими соображениями сон ушел окончательно – забрезжил рассвет, от окна потянуло утренней свежестью, а мессир Гийом все еще разглядывал потолочную балку, взвешивая и перебирая в уме события последних дней.
Собственно, взвешивать было поздно. Монсеньор Ле Кок, этот викарий Сатаны, добился-таки своего – менялу пришлось пригласить, и приглашение было принято. Но с каким видом – раны Христовы! – будто принц крови оказывает внимание захудалому вальвасору… [19]
Почувствовав удушье, мессир Гийом откинул одеяло, сел в постели и потянулся к шесту с переброшенной через него одеждой. Торопливо облачившись в долгополую утреннюю рубаху, дабы не оскорблять видом наготы стоящую напротив кровати статую святого Христофора, он встал, подошел к окну и толкнул наружу массивную дубовую раму в частом свинцовом переплете. Замок уже просыпался, с хозяйственного двора слышались размеренное поскрипывание колодезного колеса, кудахтанье кур, крикливые голоса бранящихся служанок.
Глубоко вдохнув свежий утренний воздух, мессир вернулся к статуе, рассеянно перекрестившись, опустился на колени и, не утруждая себя молитвой, пробормотал вслух то, что было вырезано на каменном свитке, развернутом у ног святого: «Christophori sancti speciem quinque tuetur – isto nempe die non mala murietur». [20]Перекрестился еще раз, поднялся, покряхтывая и опираясь на пьедестал статуи. Может быть, зря он так переживает… В конце концов, что от него требуется? Принять полюбезнее этого флорентийца, съездить вместе на охоту – не такое уж беспокойство. Да и не впервой ему играть в эту игру. Мессир Гийом усмехнулся, вспомнив свою «дружбу» с парижскими эшевенами. Эти болваны действительно считают его «своим бароном»; он-то и внушил им соблазнительную мысль, что Карл Наваррский, получив корону Франции, может стать «буржуазным королем»… Если так ловко удалось провести самого Марселя, то уж польстить тщеславию флорентийского молокососа труда не составит.
Хотелось успокоиться на этой мысли, но тревога не проходила. Выругавшись сквозь зубы, мессир Гийом заходил по комнате, шлепая босыми ногами по прохладным каменным плитам пола. Спавшая возле двери борзая – его любимица Геката – подняла голову и несколько раз вопросительно ударила хвостом, видимо не понимая, что заставляет хозяина метаться из угла в угол, словно он потерял след на охоте.
Дело в Аэлис. Неприятно ее участие в затее с займом. Разумеется, страшного нет ничего, монсеньор прав: отец может приказать дочери принять гостя со всей любезностью, а ей ничего не стоит улыбнуться как-нибудь понежнее, выпить с ним из одного кубка. Да она и сама будет рада, жизнь в замке не балует развлечениями… Смешно расстраиваться из-за такого пустяка. Ну, погостит у них этот проклятый банкир, зато, если расчет окажется верным, они получат заем, необходимый сейчас не только Карлу и Ле Коку, но и ему самому… Пикиньи обвел комнату хмурым взглядом – даже тут чувствуется надвигающееся разорение. Роскошный, когда-то бархатный, балдахин над постелью поистерся, в камине давно пора заменить сломанную решетку, но свой кузнец соорудит нечто уродливое, а заказать в городе… И Аэлис одета неподобающе. В чем ей принимать итальянца?
Гийом снова заходил по комнате из угла в угол. Кровь Христова! Кто подсказал монсеньору мерзкую мысль – сделать из его дочери приманку? Ясно, за это надо благодарить ее крестного отца – досточтимого аббата Сюжера. Епископская митра ему понадобилась, старому честолюбцу! Почему не саван? Он пнул подвернувшийся табурет, Геката вскочила, подошла к хозяину и, словно успокаивая, ткнулась в руку холодным носом. Пикиньи вздохнул, рассеянно погладил собаку по узкой шелковистой морде.
А в общем, не беда. Если девчонке и придется какое-то время побыть любезной с буржуа, поделом ей. Пусть зачтет это как наказание за распущенность. Вспомнив и об этой неприятности, Пикиньи расстроился еще больше, хуже всего было признать, что он и сам виноват в ее вульгарном пристрастии к черни. Надо было отдать девочку на воспитание в монастырь, как советовал братец Жан. И этого нищего попа Мореля нельзя было оставлять в приходе, чтобы она слушала его безумные проповеди…
Сразу вспомнилось, как года два назад он попытался перевоспитывать дочь. Узнав о намерении изгнать деревенского кюре, Аэлис объявила голодовку. Четыре дня отказывалась от еды, на пятый он струсил и уступил. Да, Аэлис избаловалась; потеряв жену, умершую десять лет назад от морового поветрия, он привязался к дочери всем сердцем и стал позволять слишком многое…
К чему, скажем, было давать ей столько знаний? Движимый тщеславием, он доверил Филиппу Бертье, своему нотарию, ее обучение и даже гордился тем, что дочь будет уметь читать и даже писать; бродяга же, занимаясь грамматикой, заодно мог вбить ей в голову что угодно.
Нотария мессир Гийом подобрал в Париже, в сточной канаве, много лет назад, после большой уличной драки между школярами Сорбонны и кокийярами. [21]Он был почти уверен, что спас беглого монаха или попавшего в дурную историю легиста – слишком уж хорошо тот разбирался в законах, – и сначала пытался это выяснить, в чем не преуспел. Как-то незаметно Филипп сумел стать необходимым и с тех пор неотлучно находился при нем, исполняя обязанности нотария, а то и ближайшего советника.
Сейчас Филипп был в отъезде – отправился в Руан переписывать векселя. Еще неизвестно, перепишет ли, эти вампиры рисковать не любят…
Пикиньи хлопнул в ладоши, крикнул, не оборачиваясь:
– Эй, там!
Дверь осторожно скрипнула.
– Мыться, одеваться, – распорядился мессир. – Нотарий не вернулся еще?
– Да вроде не видать было… Хотя врать не буду, насчет нотария не спрашивал.
– Так спроси, дурак! Воды побольше, да погорячее, и пусть позовут Симона. Девкам скажи, чтобы узнали, встала ли дамуазель; если нет – разбудить немедля, и ее тоже сюда. Я вам всем!
Он был уже одет, когда Симон де Берн, начальник замковой стражи, вошел в комнату, по обыкновению не постучавшись. Начав когда-то службу в личной охране господина, Симон однажды отбил его у англичан, доблестно избавив от позорного пленения и, главное, необходимости платить выкуп. Получив за это рыцарские шпоры, Симон стал самым доверенным, после нотария, человеком в замке.
– Рад тебя видеть, друг Симон, – сказал Пикиньи.
– Приветствую вас в Моранвиле, мессир. Сожалею, что не мог сделать это вчера.
– Да, мне сказали, что у тебя там опять какая-то история с баварцами. Что они натворили на сей раз?
– Сожгли мельницу у сира де Луаньи, но это ладно…
– Ничего себе «ладно»! Он же теперь станет требовать возмещения убытков?
– Уже требует – вчера приезжал его писец и говорил нагло. Но послушайте дальше: подпалив мельницу, алеманская сволочь орала во всеуслышание, что то же самое сделают и с Моранвилем, если им, дескать, не заплатят то, что задолжали.
– Вот это, Симон, плохо. – Пикиньи горестно покачал головой. – Ты бы хоть свои веселые новости сообщал как-нибудь… мало-помалу. А сколько мы им задолжали, ты записываешь?
– Чего тут записывать, я и так знаю. Не плачено с Рождества, а на дворе что? Август!
– Ах, мерзавцы, ах, содомиты, черт меня надоумил с ними связаться… Действительно, нет хуже чумы, чем наемная солдатня, особенно из алеманских краев!
– Наши, что ли, лучше…
– Ну, не скажи, с нашими все-таки можно иной раз и договориться. А вот что делать с баварцами?
– Расплатиться, что же еще делать! Этих дикарей опасно доводить до крайности.
– А я не доведен до крайности? – крикнул Пикиньи. – Сам подумай, откуда взять столько денег? У меня их нет! Я и так кругом в долгах! Если Филипп не добьется отсрочки – мы пропали! Ладно, скажешь мерзавцам, что вскорости расплачусь. Собрать, что ли, дополнительный оброк?
– Одумайтесь, – грубо сказал де Берн. – Весной уже брали вторую талью!
– А вот это уж, друг Симон, не моя забота. Виллан для того и существует, чтобы выручать своего сеньора.
– Смотрите, как бы нас не «выручили» на баварский манер! Тут один парень пришел из-под Бовэ – там, говорит, поджоги стали обычным делом. С мужиком тоже надо быть поосмотрительнее, иначе можно и доиграться.
– Ну, это уж ты хватил! Осмотрительным надо быть в любом деле, с этим никто не спорит, но насчет «доиграться»… Не придумывай опасности там, где ее нет! Благодарение Господу, наш здешний виллан – существо смирное и привычное к разного рода тяготам; не знаю, кто там и что поджигает в Бовэзи, но у нас до этого не дойдет. Вот наемники – дело другое, от этих жди чего угодно.
Оставшись один, Пикиньи быстро заходил по комнате, стараясь успокоиться. Да как тут успокоишься? Десять отъявленных висельников, и каждому плати два су в день; в тридцать ливров ежемесячно обходится ему проклятая баварская банда…
Раздобыть где-то двести, хотя бы полтораста экю! Но у кого? Братец Тибо скорее подавится собственной шпорой, Жана просить неловко – и так уже много ему задолжал. Разве послать Бертье к этим торгашам в Париж? Ясное дело, и Марселю, и какому-нибудь Жилю ничего не стоило бы его выручить… Но нет, нет! Нельзя терять лицо; вельможа не может нуждаться в столь мизерной сумме. Гвоздь Господень! Что за подлое время, когда рыцарство нищает, а вонючие горожане разбухают от золота, словно пиявки…
Ища утешения, Пикиньи вошел в глубокую оконную нишу, наподобие узкого алькова, где хранилось в дубовом резном шкапчике главное его сокровище – библиотека, целая полка книг. Вот разве продать что-нибудь? Нет, легче расстаться с пальцем… Да и какой это выход? Продать то, что с любовью собирал годами, можно сказать, всю жизнь! Выбрав ключ из висящей на поясе связки, он открыл шкапчик и осторожно провел пальцем по корешкам. Каждый томик что-то напоминает, с каждым связано какое-то событие в жизни. Вот этот Плутарх с обгоревшими углами переплета добыт в самом начале войны в одном монастыре, где засели англичане. Там был богатый либрарий, [22]но его успели подпалить – Плутарха едва удалось выхватить прямо из пламени. А вот «Ивейн, или Рыцарь Льва», доставшийся ему от дяди, старого Жан-Гийома; тот получил книгу от благодарных еретиков Каркассона, с которыми каноник Пикиньи якшался так долго, что потом сам чуть не угодил под инквизиторский трибунал. Несколько странный подарок: духовному лицу приличнее было бы читать Блаженного Августина, нежели Кретьена де Труа. Впрочем, дядя Жан был человек со странностями, недаром нечестивые альбигойцы души в нем не чаяли… Роскошно переплетенный «Роман о Розе» Жана Ренара – часть выкупа одного английского рыцаря. Пикиньи вздохнул от зависти к самому себе, молодому и удачливому, припомнив богатую добычу: шесть тысяч экю, вот эта книга, три боевых коня и пятнадцать бочек бордосского…
Тут приятные воспоминания были нарушены: в тишине опочивальни грохнула распахнутая с налета дверь, испуганно взвизгнула собака, послышались шум падения и вскрик. Узнав голос дочери, мессир с книгой в руке выглянул из альковчика – Аэлис сидела на полу, морщась от боли и потирая колено.
– Пошла вон, разрази тебя чума! – крикнула она и замахнулась на Гекату. – Вечно разляжется под ногами, тварь, чуть шею из-за тебя не сломала! Отец, ну что это – житья уже нет от этой псарни, блох всюду полно. Мерлин третьего дня чуть не повалил меня на лестнице, а нынче ночью натащили костей мне под дверь и грызлись чуть не до утра – я думала, с ума сойду…
– Аэлис! – строго прикрикнул мессир Гийом.
Дочь поднялась, оправила юбку и подошла к нему, прихрамывая:
– Доброе утро, отец, как почивать изволили? Жаклин сказала, что вы велели прийти, да и у меня к вам дело…
Она поцеловала у него руку, скосив глаза на доверчиво подошедшую Гекату, и, изловчившись, достала ее пинком. Мессир Гийом принял строгий вид:
– Мадам, [23]у вас манеры простолюдинки! Разве вас не учили, как положено ходить девице благородного воспитания?
– Голову держа высоко, глаза опущенными, – затверженно оттарабанила Аэлис, – чтобы пол видеть в двух туазах [24]перед собой. И еще не размахивать руками.
– Ни в коем случае, – подтвердил отец. – А вы врываетесь в комнату, словно борзая в погоне за зайцем! Садись, разговор будет долгий. Кстати, забыл спросить у Симона – мэтр Филипп когда должен вернуться?
– Его ждали еще вчера, задержался, наверное…
Любопытно бы знать – почему. Пикиньи нахмурился. Что может означать эта задержка? Если бы векселя переписали, уже бы приехал. А с другой стороны, если отказано, так тоже нечего там сидеть. Может, улещивает этих кровопийц, торгуется об условиях отсрочки… Да, но это в любом случае всего лишь отсрочка! Ах, как нужен этот флорентийский заем…
Пикиньи внимательно, придирчивым взглядом оглядел дочь. Хороша, ничего не скажешь, очень хороша. Каштановые волосы отливают начищенной медью, темные живые глаза, горящее нежным румянцем круглое личико, стройная осанка, высокая грудь – откуда что взялось у пигалицы; скажите на милость, и это за какие-нибудь полгода… Только вот платье, м-да! В груди чуть не лопается (мать была поменьше), и рукава коротки…
Он подошел, взял дочь за рукав, повернул к себе локтем и недовольно засопел при виде безобразной заплаты.
– Некому зашить? – спросил он. – В замке полно бездельниц, целыми днями сплетничают, орут, как сороки, а проследить за твоим платьем нету времени?
– Ах, при чем тут время, – затараторила Аэлис (тоже сорока не хуже тех), – когда ткань совсем ветхая и не держит нитку! Я уже говорила Томазе, но та сказала, что с этим ничего не сделать, посмотрит другое – зеленое. И еще она сказала: «Пора бы мессиру отцу позаботиться о вашем приданом, он-то на Рождество пошил себе новый камзол, мог и о дочери подумать…»
– Вот велю ей всыпать, чтобы не лезла куда не надо! – пригрозил мессир отец. – Пошил, да! Потому что мне приходится бывать при дворе!
Он обследовал другой рукав, залатанный еще безобразнее; под тканью что-то шуршаще хрустнуло.
– Что у тебя там?
– О, это так… безделица, – быстро ответила Аэлис. – Вы что-то хотели мне сказать?
– Да, хотел! Ты соблюдаешь посты, которые тебе предписаны?
– Что мне еще остается? Только я не понимаю, для чего морить меня голодом.
– Для того, – строго сказал мессир Гийом, – что иначе избыток сил может породить в девушке твоего возраста неподобающие мысли. Я вчера говорил с капелланом, и он тобой недоволен.
– Еще неизвестно, кто кем больше. Ты думаешь, я им довольна?
– Вот уж это, мадам, меня нисколько не занимает!
– О, еще бы! Вам-то это куда как удобно – уезжать на полгода, оставляя меня здесь под присмотром этого старого…
– Аэлис, придержи язык, пока не сказала такого, за что не избежать наказания. Не забывай, что отец Эсташ – твой духовник!
– Увы! Я предпочла бы, чтобы им был отец Морель, и вообще, почему Эсташ запрещает мне у него бывать?
– Вот-вот! Он как раз тем и огорчен, что ты бываешь в деревне слишком часто.
– Ничего не «слишком»! Да, я в деревне бываю, мне ведь, вы отлично знаете, приходится там иногда помогать больным. Но я езжу туда, нарушая запрет этого… ну ладно! И чем же еще я огорчаю отца Эсташа?
– Мадам, он боится за вашу нравственность.
– Что-о-о?
– Ты хорошо знаешь, что согрешить можно и делом, и словом, и помышлением. Насчет «дела» отец Эсташ ни в чем тебя не обвиняет. Ровно ни в чем!
Аэлис низко присела, разведя кончиками пальцев фалды юбки.
– Ах, мессир отец, вы такую тяжесть сняли с моей души, теперь я смогу спать спокойно!
– Перестань дурачиться, я пытаюсь говорить с тобой всерьез. Капеллан не раз заставал тебя шепчущейся со служанками, особенно с этой твоей распутной камеристкой.
– Интересно, с чего ты взял, что Жаклин так уж распутна?
– Да это видно издалека! Ты что, не видела, как она крутит задницей, проходя мимо любого мужчины?
– В отличие от вас, мессир отец, – издевательски ответила Аэлис, – я задницами служанок не любуюсь. Да и вам бы не советовала!
– Тьфу, дура!
– Так что еще наговорил про меня его благочестие отец Эсташ? По-моему, шептаться с прислугой – не такой уж грех. Бывают и хуже.
– Да, бывают. Бывают! Дело не в том с кем, а о чем ты шепчешься. То, что однажды услышал капеллан, было непристойно…
– Ах, так он еще и подслушивает. И что же непристойного ему открылось?
– Ну, как бы тебе сказать… – Пикиньи замялся. – Речь шла об отношениях между супругами.
– А они что, греховны и непристойны? Однако церковь освящает их таинством брака?
– Греховного в них нет, но если девушка твоего возраста чрезмерно ими интересуется – это непристойно.
Аэлис сделала большие наивные глаза:
– Послушайте, что непристойного в послушании и добронравии? Да, я теперь припоминаю. Однажды мы, не помню уж с кем, говорили о том, что если жена злостно перечит мужу, не проявляет к нему уважения и любви, то ей лучше не ждать ничего хорошего… И еще Томаза учила меня, как заготавливать припасы на зиму, – что при этом надо твердо знать вкусы супруга: любит ли он кислое или соленое и какие предпочитает приправы. Некоторые, к примеру, обожают уксус, а иной от одного запаха уксуса начинает корчиться, как нечистый от ладана…
Пикиньи безнадежно махнул рукой, хотя не мог не испытать некоторого тайного удовлетворения: находчивость и умение легко вывернуться дочка явно унаследовала от него – покойная мать была существо скорее простое и бесхитростное. Аэлис же попробуй прищеми – безнадежно, ускользнет как намыленная. Да и что толку? Поди отыщи девку, которая не шепталась бы со сверстницами о самом запретном…
– Ладно, – сказал он, – довольно об этом. Может, отец Эсташ и в самом деле что-то не так понял…
– Или стал туговат на ухо, бедненький!
– Довольно, я сказал! А насчет платья ты права, чинить это нет смысла. А нового пошить уже не успеем, так что придется обойтись зеленым. Пусть Томаза съездит в Жизор и купит золотого позумента, чтобы обшить по краю, – будет выглядеть вполне прилично.
– О, спасибо! – Аэлис захлопала в ладошки. – Но вы сказали «не успеем» – не успеем к чему? Будет какой-нибудь турнир? И где же?
Нет, турнира не будет. Я пригласил одного человека погостить у нас в замке, он скоро приедет.
– Гость! – воскликнула Аэлис. – Я его знаю? Кто он?
– Ну, это… итальянец. Банкир из Флоренции.
– Банкир? – Аэлис приоткрыла рот и торопливо осенила себя крестным знамением. – Но, отец, как можно принимать у себя банкира! Отец Морель говорил, что эту нечисть даже не хоронят в освященной земле!
Мессир Гийом отмахнулся:
– Старый святотатец либо совсем выжил из ума… либо ты что-то напутала. В освященной земле не хоронят ростовщиков!
– Но разве банкир и ростовщик…
– Нет, – раздраженно перебил Пикиньи, – это совсем не одно и то же! Быть банкиром – занятие почетное и достойное христианина, а ростовщиками бывают жиды. Наш гость молод, хорош собой, знает куртуазное обхождение, так что тебе будет приятно с ним общаться.
– Надеюсь, не слишком часто! – Аэлис выразительно наморщила нос.
– Посмотрим. Надо, чтобы он чувствовал себя здесь как дома. Тебя от этого не убудет, если и полюбезничаешь с ним немного.
– Мессир, да вы спятили! Мне любезничать с мерзким банкиром?!
– Сказано же тебе, он не мерзок. А вот ты как смеешь говорить отцу, что он спятил? Что за манеры, разрази меня гром! Что за язык! Больше шепчись со своими подлянками, они тебя еще не такому научат! А этот сатанинский кюре – он куда смотрит? Капеллан тебе не по нраву, предпочитаешь исповедоваться в деревне – так что же ты там рассказываешь, хотел бы я знать! Надеюсь, не врешь в исповедальне, как только что врала здесь передо мной; но если ты созналась, что нарушаешь заповедь «чти отца своего», то как тебя могли допустить к причастию?
Пикиньи стал разжигать в себе ярость против отца Мореля. Не то чтобы он и впрямь увидел в нем главного виновника распущенности Аэлис, просто надо было выплеснуть гнев, но он вовремя сообразил, что с дочерью ссориться неразумно.
– Теперь-то гнусный поп поплатится! – вопил он. – Сегодня же велю вышвырнуть его из прихода, вышвырнуть с позором! Он у меня попляшет! Конюхи будут плетьми гнать мошенника до самого Понтуаза, чтобы ему неповадно было калечить молодые души! У-у-у, проклятое отродье вальденсов! [25]Столько лет пользоваться моей добротой!
Аэлис не приняла его крики всерьез, но для приличия постаралась принять испуганный вид:
– Бога ради, не гневайтесь так на отца Мореля! Поверьте, он никогда не нарушал благочестия в своих речах и не учил меня дурному! Не сердитесь, мессир, прошу вас, скажите лучше, как мне принять вашего гостя, чтобы он остался доволен.
Это замечание, как она и предполагала, сразу успокоило разгневанного мессира, и он снова воззвал к совести самой Аэлис:
– Разве я в чем-то утеснял вас, мадам? Как можете вы вести столь дерзновенные речи со своим отцом? Видно, я был слишком мягок! Ведь предупреждал меня Тибо…
– Вы самый добрый отец на свете, и за это я вас люблю и почитаю, – смиренным тоном продолжала Аэлис. – Я догадываюсь, зачем вам нужен банкир, и обещаю не быть помехой в ваших замыслах. Но только обещайте и вы мне исполнить мою просьбу!
– Что еще за просьба?
– Ах, это совершеннейший пустяк… – Аэлис вытащила из рукава свернутый в трубку пергамен. – Вам надо лишь подписать, это такая отпускная грамота…
– Отпускная грамота! Кому?!
– О, вы его не знаете, – небрежным тоном отозвалась Аэлис, разворачивая грамоту на колене. – Это некий Робер, ну… воспитанник Симона! Вы давно обещали освободить этого серва, [26]так что грамота – это уж просто чтоб вы не забыли снова, я же хотела просить о другом: взять юношу в охрану замка. Симон давно обучил его пешему и конному бою, так что солдат он будет отличный, вы не пожалеете! Зачем нам эти безбожные баварцы? – спросила она таким невинным тоном, что Пикиньи догадался: разговор с Симоном был подслушан. – Согласитесь, мессир, чем больше добрых французов будет в охране, тем лучше… С вашего позволения, я прочитаю сама, а то вы не разберете – почерк у меня… Значит, так: «Мы, [27]Гийом барон де Пикиньи, владетельный сеньор Моранвиля что в Вексене, всех кто увидит настоящую грамоту извещаем. Что мы, движимые христианским состраданием к некоему крепостному нашему именем Робер возрастом XVIII лет, не имеющему ни родителей, ни братьев, ни сестер, а также из любви к Богу решили. Отпустить его дабы из личной крепостной зависимости перешел он к свободному вилланскому праву. И еще мы именно Гийом сьёр де Моранвиль тронутые крайней бедностью человека нашего от всякого выкупа за отпускную грамоту вышеозначенного Робера освободить решили. С тем дабы обещался он от своего имени и от имени наследников крепко хранить нам вассальную верность согласно феодальному праву и кутюмам [28]Земли Вексен. [29]Дано в замке Моранвиль в III день августа лета от воплощения Господа и Спасителя нашего MCCCIVII». Вот и все, уф! Прочитать, так вроде немного, а писала вчера с утра и до обеда.
Аэлис направилась к столу, расстелила пергамен, прижав углы чернильницей, песочными часами и свинцовой баночкой с песком, выбрала хорошо очинённое перо сокола и одарила отца обольстительной улыбкой:
– Соблаговолите скрепить грамоту вашей подписью!
– И не подумаю, будь я проклят.
– Неужто у вас хватит жестокосердия отказать дочери, которая смиренно обращается к вам со столь малой просьбой?
– Ничего себе малая просьба! Погоди-ка, – спохватился Пикиньи, – а пергамен у тебя откуда? Кто тебе позволил переводить такую ценность на эту мазню? Где ты его взяла, небось выскоблила старую грамоту? А если это было что-то важное?
– Как вы могли подумать, – обиделась Аэлис. – Я ведь не такая невежда, чтобы пользоваться палимпсестом! [30]Это был чистый, почти новый пергамен, я стащила у мэтра Филиппа. Понимаю, что совершила грех, но он был оправдан. Так вы подпишете?
– Бог не допустит меня до такого безумия.
– Ах, вот как! – угрожающе сказала Аэлис, сворачивая грамоту. – Тогда уж пусть Он заодно научит вас любезничать с банкиром! Потому что я, мессир, не стану этого делать! Я вообще не покажусь ему на глаза! Пока он будет торчать в Моранвиле, запрусь в своих покоях, и попробуйте вытащить меня силком! Я вам тут такой устрою миракль, [31]какого и в Жизоре на Рождество не увидишь!
– Что вы себе позволяете, мадам! Совсем уже ополоумели?!
– С вами ополоумеешь! Отказываете дочери в таком пустяке – и не стесняетесь вынуждать ее к непристойному заигрыванию с каким-то ломбардцем! Вот сами с ним и заигрывайте! Или поручите это мэтру Филиппу – уж перед ним-то банкир не устоит. Мне рассказывали, ломбардцы все склонны к содомскому греху, им что девочка, что мальчик…
– Нет, ну на этот раз ты у меня получишь!! – заорал, побагровев, мессир Гийом. – Какой еще, к черту, содомский грех! И кто, разрази меня чума, вынуждает тебя вести себя непристойно – надо уже совсем лишиться ума, чтобы говорить такое отцу!! – Он затопал ногами, задохнулся. – Я тебе покажу! В каменном мешке у меня насидишься!
– Вместе с банкиром? – издевательски поинтересовалась Аэлис, засовывая обратно в рукав свернутую грамоту.
– Нет, с крысами!! Со змеями! С пауками! И не думай, что там тебя будут кормить, неблагодарная дочь!
– Ах, так вы еще и голодом решили меня заморить. Послушайте, хватит вам делать из себя посмешище! Куда проще подписать, а в благодарность за это я буду так любезна с вашим банкиром, что – не пить мне вина до самой Пасхи – он останется доволен!
– Ладно уж. – Поняв, что спорить и угрожать бесполезно, Пикиньи махнул рукой. – Надежные люди в охране нам нужны, тут ты права. Дармоедов в Моранвиле хватает, а воинов мало, так что грамоту я подпишу. Но только если договорюсь с Симоном о выкупе. Почему это я должен отпускать мальчишку даром?
– Побойтесь Бога, мессир, – закричала Аэлис, – что ж вы торгуетесь, как жид!
– Ничего, – ухмыльнулся Пикиньи, – с вами не поторгуешься, так останешься нищим. Не будьте ослицей, мадам, на эти деньги вы себе сошьете новое платье!
Глава 4
К вечеру того же дня Аэлис в сопровождении Симона де Берна отправилась в деревню. Она не спеша ехала рядом со своим провожатым, покачиваясь в седле и рассеянно поглядывая по сторонам. Обсаженная старыми вязами дорога пылила, было жарко, и Аэлис лениво обмахивалась сорванной по пути веткой.
– Скажите, друг Симон, – спросила она небрежным тоном, – случалось вам видеть банкира?
– Про этих пауков вам лучше расскажет Филипп, он чаще с ними якшается. Но мне тоже случалось, когда ездили получать выкуп за годона.
– И вы его видели?
– Еще бы, вместе брали! Здоровый был годон, едва скрутили.
– При чем тут годон, я про банкира спрашиваю!
– А-а-а, банкир. – Симон снял шляпу и рукавом утер блестящий от испарины лоб. – Видел и его, как же. Они с мессиром золотые считали.
– И как он выглядел?
– Тошнотворно! Если такой плюгавец отважится взгромоздиться на коня, его можно сшибить плевком.
– Какая мерзость! – поморщилась Аэлис. – Но он был молод?
– Молод? Мерзавец был стар, как Мафусаил! Где это вы видели молодого банкира, они уже из материнской утробы выползают старцами.
– Как же так? – обескуражено произнесла Аэлис. – А отец говорит, что… ну, что этот вроде молод и куртуазен.
– Про кого это вы?
– Ну, про этого банкира… который к нам приедет.
– Вон оно что! – Симон оглушительно высморкался, деликатно перевесившись в седле на правую сторону, подальше от спутницы, и снова надел шляпу. – К нам едет банкир? Это хорошая новость!
– Что же в ней хорошего, друг Симон?
– А то, что где банкир, там и денежки. Будет чем расплатиться с баварской сволочью. Но чтобы банкир был куртуазным, ха-ха-ха!
– Вы хоть предупреждайте, прежде чем ржать, – с досадой сказала Аэлис, обеими руками натягивая поводья шарахнувшегося иноходца. – Одного баварца, кстати, уже можно выгнать – теперь ведь Робер будет в страже!
– Это отродье по одному не разгонишь – вместе нанимались, вместе и уйдут. Иначе я давно уж спровадил бы самых зловредных…
Когда уже въехали в деревню, Аэлис спросила:
– Отец много с вас содрал за Робера?
– Да уж не продешевил! Но я ведь, мадам, тоже не дурак! Мессир мне давно кое-что задолжал, так что я просто сказал ему, что списываю парнишкин выкуп с его долга; этого он, конечно, не ожидал, его аж перекосило. Предвкушал небось, что я ему так и выложу новенькими флоринами!
– Вот уж не думала, мессир Симон, что вы такой скряга! – заметила Аэлис, сделав гримаску.
– Да вам-то не все равно?
– Отец на эти деньги собирался купить мне платье.
– Во-он оно что! Я не знал, мадам, да только к чему вам новое платье? Вы вон и в старом словно цветочек.
– Да это мое лучшее платье! – возмутилась Аэлис.
Симон хмыкнул.
– Надолго к Морелю?
– Побуду, пока вернетесь от кузнеца, но вы там не торопитесь.
– А скоро его и не уломаешь. Хочу, чтобы поработал в замке, – наш дурень обжегся и теперь не может взять в руки молотка. Деревенщина же наверняка станет отлынивать.
Аэлис ловко спрыгнула на землю и повела коня к дому священника. Тот вышел навстречу, подслеповато всматриваясь, кто приехал.
– А, это ты, дочь моя!
– Благословите, отец…
– In nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti, benedictio. Domine sit tecum. [32]– Отец Морель перекрестил ее и ладонью коснулся головы.
– Робер дома?
– Да, в огороде. Ступай, я привяжу. – Кюре взял повод из ее рук. – Что нового в замке?







