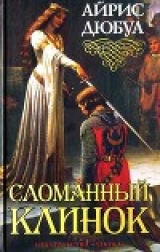
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Узнав о столь открытом неповиновении, Наваррец был уязвлен, но сделал вид, что это его не трогает. Да, в сущности, так оно и было – теперь его больше интересовало, удастся ли восстановить позиции в Париже, занять предложенную Марселем должность генерального капитана.
Пятнадцатого июня Карл с балкона ратуши держал речь перед тысячами парижан, заполнивших Гревскую площадь.
– Любезные сограждане! – взывал он и раскидывал руки, готовый обнять и прижать к сердцу всю эту шумливую и дурнопахнущую толпу. – Меня недруги часто обвиняли в небрежении к интересам Французского королевства. Бог свидетель, сколь облыжны подобные наветы, ибо кому же, как не мне, радеть о сих интересах? Я возрос среди лилий, и, будь моя мать мужчиной, она унаследовала бы французский престол, ибо была единственной дочерью короля Франции! Что же до вас, добрые парижане, то я готов жить и умереть с вами, защищая ваши права и вольности…
Группы крикунов, заранее расставленные Марселем в разных местах площади, время от времени прерывали его воплями: «Наварра! Наварра!!» – и тогда вся толпа разражалась оглушительным ревом. От имени эшевенов выступил затем Жан Туссак, который сказал, что королевство «дурно управляется» и что только король Наварры способен навести в нем порядок, а посему и надлежит провозгласить его генеральным капитаном.
Провозглашение состоялось. Карл д’Эврё торжественно пообещал парижанам «крепкую защиту и доброе управление», но предупредил, чтобы чудес от него не ждали и не винили бы потом, если что не заладится.
Оставалось неясным, что это за чудеса и каковы вообще обязанности генерального капитана; скорее всего, сам он понимал их как верховную власть в стране. Таким образом, регенту был брошен вызов.
Регент ответил ордонансом о созыве оста – всеобщего королевского ополчения, что означало особую опасность для державы.
Это был смелый шаг, потому что никто не мог сказать с уверенностью, откликнутся ли вообще вассалы на призыв некоронованного и обладающего не столь уж прочной властью сюзерена. Вассалы, однако, на этот раз не подвели, и причиной тому было безрассудное поведение Наваррца, в Париже открыто вставшего на сторону мятежных горожан. В Шель, где расположился двор Карла Валуа, со всех сторон потянулись вооруженные отряды – из Бургундии, рыцарство которой оказалось самым единодушным в поддержке регента, Шампани, из Лотарингии. К концу месяца герцог Нормандский располагал уже армией в пять тысяч копий; [97]и в последние дни июня осадная армия подступила к стенам столицы с востока, обложив ее от Монтрея до Шарантона. Потребовав открыть ворота, регент объявил, что в противном случае Париж, взятый приступом, будет отдан на разграбление.
Парижане храбрились, со стен обзывали осаждающих разными зазорными кличками, изобретательно поносили герцога Нормандского и его ближайших родственниц, но на душе у них было неспокойно. Особенно тревожило горожан отсутствие нового генерального капитана, который снова исчез, отправившись со своими наемниками захватывать никому не нужные городки и крепости по Уазе.
За ним послали гонцов. Известие о том, что кузен Карл, этот носатый недоносок, начал против Парижа военные действия, настигло Наваррца под стенами Санлиса, и настигло вовремя. Взять город он, понятно, мог, но это потребовало бы сил и времени, а наемники не любят, когда их заставляют проливать кровь без особого толку. Овладение же ветхим гнездом Меровингов [98]и впрямь не принесло бы им ни славы, ни добычи.
Поэтому гонец из Парижа прибыл как нельзя более вовремя. Наварра пригласил в шатер своих капитанов и с удрученным видом объявил, что долг прежде всего, а посему войско возвращается, дабы оказать помощь осажденной столице.
Помощь эта, впрочем, оказалась странной. Расположив армию у стен Парижа, генеральный капитан предоставил своим союзникам-англичанам полную свободу грабить западные предместья, не препятствуя солдатам регента жечь и разорять восточные. Сам же обосновался в Сен-Дени, где принимал то приезжающих от Марселя парижских эшевенов, то тайных гонцов королевы Жанны, [99]не теряющей надежды примирить его с Валуа.
В Париже стало голодно, подвоз продовольствия сократился настолько, что лишь самые богатые могли позволить себе свежее мясо или хлеб из чистой муки. Но это было бы еще полбеды, оставайся у горожан надежда на перемены к лучшему, а как раз этой-то надежды и не оставалось. Марсель, которому еще недавно все так верили, делал ошибку за ошибкой и быстро терял популярность. Теперь его уже винили не только за союз с Наваррцем, многократно доказавшим свою лживость, но и за необдуманные шаги, делавшие невозможным примирение с регентом. Припоминали и февральские убийства маршалов, и учиненную месяц назад расправу над двумя королевскими чиновниками – Марсель объявил, что они якобы сговорились ввезти в Париж солдат регента, укрыв на баржах со строительным лесом; обоих казнили без судебного разбирательства, и куски разрубленных тел до сих пор висели у восьми городских застав, распространяя рои мух и невыносимое зловоние.
А Наварра между тем делал все, чтобы еще больше уронить престиж купеческого старшины. Вернувшись в Париж после неудачных переговоров с регентом, он был встречен с открытым уже недоверием и недовольством и, чтобы поправить дело, не нашел ничего умнее, как ввести в город четыре сотни своих английских головорезов, которые, сделав пару вылазок через Сен-Антуанские ворота, ничего толком не добились и начали предаваться в Париже подвигам иного рода, захватывая в плен горожанок.
Четырнадцатого июля переговоры двух Карлов возобновились, на этот раз решили для разнообразия встретиться на воде: наплавной мост через Сену у Шарантона, где была ставка регента, покрыли коврами, уставили креслами и обтянутыми сукном скамьями, для защиты от солнца и дождя подняли на шестах полосатый балдахин, украшенный пучками страусовых перьев. Состав участников был теперь более представительный – кроме Наварры и Валуа с их советниками, присутствовали трое князей Церкви, уполномоченные папой Иннокентием VI сделать наконец что-нибудь для прекращения прискорбной смуты во Французском королевстве.
Сделало ли свое дело присутствие папских легатов, или просто все уже и без них понимали, что пора кончать, – так или иначе, договориться удалось быстро. Парижане согласились отдаться на милость регента и принять его требования; регент, со своей стороны, заявил, что прощает мятежной столице ее непокорство и немедленно снимает осаду, чтобы пропустить в Париж обозы с продовольствием.
Карл Валуа уже на следующий день распустил армию. Многие увидели в этом свидетельство его веры в прочность предварительного соглашения с парижанами, но дело объяснялось проще: истощенная казна не могла больше оплачивать содержание армии, к тому же истекал сорокадневный срок службы, и вассалы все равно начали бы разъезжаться по своим замкам.
Парижане отнеслись к перемирию с опаской. Осада была снята, по Сене прошла первая баржа с мукой, но людей регента, появившихся на одной из застав, стража задержала и взашей вытолкала обратно, крича: «Проваливайте к своему герцогу!» Казначей двора, мэтр Матьё Гет, все же ухитрился пробраться в город, но был опознан на улице и подвергся побоям; на сей раз, правда, у Марселя хватило ума вмешаться, отбить его у толпы и укрыть в безопасном месте. Впрочем, запоздалое благоразумие уже ничем не могло ему помочь.
Озлобленные, изверившиеся во всем, парижане готовы уже были взбунтоваться против собственного магистрата, который довел столицу до нынешнего жалкого положения. Случай направил их ярость в другую сторону: пьяная банда «наваррских годонов» попыталась взять приступом дом некоего пирожника на Университетской стороне, неподалеку от Нельского отеля. Сбежавшиеся соседи уложили на месте дюжину англичан, а потом кто-то закричал, что надо их перебить всех до единого, прикончили сгоряча еще нескольких, подвернувшихся под руку. В Нельском отеле, принадлежавшем Карлу д’Эврё, квартировали приглашенные им английские капитаны; услышав шум побоища, один из них имел неосторожность выйти взглянуть, в чем дело; преследуя его, толпа ворвалась в отель, и все годонские предводители были схвачены – сорок семь нечестивых душ. Пришибить их на месте все-таки не осмелились, но отволокли в Лувр и заперли в подземелье. Охота за англичанами пошла по всему Парижу, и к вечеру все, сумевшие уцелеть, сидели в луврских подвалах.
Случилось это в субботу, а в воскресенье с утра площадь перед ратушей заполнилась вооруженными людьми, требовали Наварру, и Наварра скоро появился на том же балконе, с которого месяц назад клялся Парижу в любви и верности. На этот раз тон его был другим – взбешенный расправой над своими годонами, он обрушился на парижан с упреками в неблагодарности и вероломстве к своим союзникам. Но говорить ему не дали.
– Хватит с нас таких союзников!! – ревела толпа. – Перебить их всех, чтобы духу не было! Веди нас на Сен-Клу!
Сен-Клу, маленький городок к западу от столицы, с некоторых пор стал главной опорной базой английских рутьеров, известных своей алчностью и свирепостью. Воодушевленные вчерашним избиением англичан на улицах города, парижане рвались покончить с ними и в окрестностях. Ремесленники, торговцы, мастеровые и никогда не упускавшие случая пошуметь и подраться школяры из Сорбонны разбушевались вовсю. Потрясая над головами палками, пиками и топорами, они не давали Карлу д’Эврё говорить, заглушая его слова громовым ревом:
– На Сен-Клу!! Бей годонов!! На Сен-Клу!!
Карл сделал непристойный жест и ушел с балкона, через некоторое время на его месте появился Марсель в сопровождении нескольких эшевенов; выждав, пока стихнет шум, он объявил, что, коли такова воля сограждан, ополчение выступит сегодня же.
И оно действительно выступило – на свою беду. Когда в ратуше обсуждали план вылазки, Наварра предложил действовать двумя колоннами, чтобы ударить на англичан с двух сторон. Честь вести первую колонну он предоставил Марселю, сказав, что сам поведет вторую, вспомогательную. Так и сделали. Силу Париж выставил большую – полторы тысячи всадников и около восьми тысяч пехотинцев, но Марсель получил лишь половину, вторая осталась в распоряжении генерального капитана. Добравшись к наступлению темноты до Монмартрского холма, Наварра объявил привал, а сам послал к англичанам тайного гонца.
Тем временем первая колонна приблизилась к Сен-Клу. Уже предупрежденные, рутьеры разыграли панику и стали шумно спасаться бегством; забыв об осторожности, неискушенные в хитростях воинского искусства, парижане бросились в погоню. Заманив их на топкое заболоченное место в чаще Булонского леса, англичане начали со всех сторон расстреливать ополченцев из луков, настигали и рубили убегающих.
Разгром был полный. Утром, когда остатки первой колонны, потеряв более шестисот человек, добрались обратно до Парижа, вся ярость и возмущение обернулись против Марселя. О предательстве Наварры еще не знали (он опять скрылся, и больше в Париже его не видели), поэтому виноватым оказался купеческий старшина – его чуть не растерзали горожане, еще вчера требовавшие похода на англичан.
Начинался последний акт драмы. Еще недавно казавшаяся неоспоримой, власть Этьена Марселя над Парижем становилась все более призрачной, а партия Валуа усиливала позиции с каждым днем. В ратуше тайными ее вождями были эшевены Белло и Майяр, после перемирия они постоянно переписывались с канцелярией регента, обсуждая условия его возвращения в Париж. Регент непреклонно требовал лишь одного – выдачи ему двенадцати зачинщиков смуты, включая Марселя. «Дабы поступить с ними по своему усмотрению». Сторону регента открыто держали и дворяне, в свое время укрывшиеся в Париже от Жакерии, и самыми деятельными среди них были Жан, сьёр де Шарни и еще один рыцарь по имени Пепен Дез-Эссар, родственник второй жены Этьена Марселя и ярый его противник.
Вечером 29-го было перехвачено письмо, подписанное секретарем герцога Нормандского. В письме снова повторялось требование выдать регенту главарей парижского «мятежа». Несмотря на поздний час, Марсель собрал в ратуше тех, чьей выдачи так упорно добивался Карл Валуа, – Туссака, Жиля, Леблона, Жиффара и еще с полудюжины смутьянов.
– Теперь сами можете убедиться: в городе заговор, – сказал он, зачитав письмо. – Так что же, ждать, пока всех нас поволокут на эшафот связанными, словно баранов под нож? Клянусь терниями, лучше убивать, чем самому быть убитым! Мы должны немедля истребить всех изменников, а в город пустить Наварру, если не хотим, чтобы вошел Валуа!
– Истребить всех не так просто, – заметил Филипп Жиффар. – У герцога в Париже много сторонников, всех не перережешь.
– Достаточно управиться с сотней главных, – возразил Туссак. – Завтра распорядимся пометить мелом определенные дома, и ночью…
– К ночи не успеть, – сказал Марсель. – Возьмем себе еще сутки. Днем раньше, днем позже – это уже дела не меняет.
– Тогда что же, в ночь на первое августа?
– Выходит, так. Надо только, чтобы к вечеру тридцать первого ключи от ворот Сен-Дени были в наших руках.
– Сен-Дени охраняют люди Майяра, эти ключей не отдадут.
– Значит, отберем силой!
– Майяр давно продался Валуа, нельзя было доверять ему такой большой участок стены…
– Кто же знал, что так получится…
– Ладно, – прервал Марсель, – теперь об этом толковать нечего! Майяра тоже пометить, а еще лучше уберем его раньше, чтобы не помешал. Завтра пошлю человека к Наварре, чтобы он к ночи вызвал англичан из Сен-Клу. Как только ворота будут наши, зажжем наверху огонь, и пусть входят. А с предателями к тому времени управимся. Клянусь терниями, регенту не видать Парижа как своих ушей!
Регент тем временем и сам пришел к такому же неутешительному выводу. Как он и опасался, достигнутое на мосту соглашение осталось пустым набором слов, армия растаяла, казна была опустошена. Дворянство заверяло его в преданности, но что толку? Даже верные бургундцы и те разбрелись по своим замкам, как только поняли, что платить больше не будут (видно, и в самом деле прошли добрые старые времена, когда вассал служил сюзерену как рыцарь, а не как наемник). Многочисленные титулы, на которые имел право старший сын короля, тоже мало что значили: герцогом Нормандским его теперь можно было называть разве что в насмешку, ибо в Нормандии грабительски хозяйничали злокозненные братья д’Эврё, регентство не давало пока никакой реальной власти. Его даже изгнали из собственной столицы – скоро полгода, как он топчется вокруг стен Парижа, словно попрошайка, надеющийся пробраться в дом с заднего крыльца…
Был, правда, еще титул дофина, и о нем Карл Валуа вспоминал теперь все чаще и чаще. Он любил свое новое владение – Дофинэ, одну из красивейших провинций королевства. Места несказанного очарования: горы, виноградники, чистейшие воды Дрома и Дюрансы, живописные города, и первый среди них – Гренобль, жемчужина края… Особенно приятно было, что население относилось к нему хорошо, его там любили, потому что провинция не была завоевана или насильственно присоединена к королевским доменам; последний ее правитель, бездетный Юмбер II, сам по доброй воле сделал его, Карла Валуа, своим наследником. Уехать бы туда, на юг, где много солнца, где люди приветливы и не гоняют своего правителя, точно затравленного зайца…
Он долго не решался заговорить с Жанной об отъезде: стыдно было признать свое поражение – регент, старший сын короля, и ничего не смог, не сумел, вынужден отступить перед шайкой обнаглевших суконщиков. Можно себе представить, какая слава пойдет о нем по всему королевству, уж кузен-то любезный об этом позаботится. Наконец решился, поговорил, и жена успокоила его: что за вздор, еще не хватало этих забот! Кузен пусть болтает, что ему будет угодно, его дела тоже не блестящи, со всем своим лукавством он пока мало чего добился. А мысль о том, чтобы поселиться в Дофинэ, обрадовала герцогиню несказанно: Жанна Бурбон давно уже тяготилась пребыванием на этом унылом, нищем, разоренном бесконечными смутами севере. О Париже после февральских ужасов она вообще не могла думать без содрогания.
Решено было ехать немедля. Карл распорядился ладить обоз, послал в Гренобль гонца, чтобы там все было приготовлено. Но 1 августа, едва отобедали, регенту доложили о прибытии делегации из Парижа.
Сразу догадавшись, что произошло нечто важное, Карл прошел в кабинет. Там стояли трое в пыльном дорожном платье, всех их он знал в лицо: Симон Майяр, брат Жана, и двое судейских – Этьен Альфонс и Жан Пастурель. Симон Майяр шагнул вперед на негнущихся от долгой скачки ногах.
– Сир, – сказал он, – соблаговолите вернуться в Париж, Этьен Марсель убит.
Регент долго молчал.
– Как это случилось? – спросил он наконец. – Когда?
– Сегодня ночью, сир. Изменник хотел открыть ворота англичанам короля Наварры, мой брат зарубил его на месте…
Странно, в эту минуту, когда сбылось то, чего он так долго желал, Карл Валуа не испытал радости, не ощутил вкуса победы. Первой мыслью было: как же так, ведь уже все решили, и Жанна так радовалась… Теперь ничего этого не будет – ни солнечного зеленого Дофинэ в кольце снежных гор, ни покойной жизни среди мирных и доброжелательных подданных…
У Симона прервался голос, он бросил взгляд на серебряный кувшин на столе. Заметив это, регент подошел, сам налил вина и подал Симону:
– Промочите горло, друг, вы устали. – Пока Майяр жадно пил, Карл обернулся к Пастурелю. – Domine magister, [100]я все же хотел бы знать подробности…
Адвокат кашлянул и начал говорить своим высоким, хорошо натренированным голосом, на той беглой упрощенной латыни, которая обычно служила в парламенте основным рабочим языком:
– Bene. Praepositus mercatorum mandavit regi Navarrae quod congregaret suos homines et veniret Parisium de nocte, et quod portas sibi patentes inveniret… [101]
Регент слушал невнимательно, – в сущности, все это не так уж его и интересовало. Это был не его личный триумф, сам он мало что сделал для того, чтобы события приняли такой оборот. Скорее уж судьба, знак свыше – и именно в момент слабости, когда уже готов был бросить все, отказаться, подобно Исаву продать право первородства. Какой был соблазн – предоставить Францию самой себе, пусть выкручивается как знает, что ему до этой огромной, враждебной, разодранной смутами страны… Но нет, не получилось! Регент подавил вздох и, глядя на Пастуреля, снова изобразил на лице заинтересованное внимание.
– Tunc mandavit rex suis Anglicis qui erant in Sancto Clodaldo ut venirent ad eum, – продолжал тот монотонно и деловито, словно зачитывая протокол допроса, – et congregavit quotquot potuit habere de hominibus et itr arripuit tendens Parisius… [102]
Карл сочувственно покачал головой, представив себе, как должен был беситься любезный кузен, когда очередная хитроумная затея пошла прахом. Видно, это и впрямь разные вещи – любить власть или иметь к ней подлинное призвание. Вот он, Валуа, не властолюбец; видит бог, никогда к власти не стремился, всегда рассматривал ее как бремя, порою невыносимое, превышающее человеческие силы. Может быть, именно поэтому он и станет когда-нибудь неплохим правителем?
Глава 32
Робер встал на ноги через неделю после встречи с отрядом итальянцев. Но Донати оказался прав – пробраться в Париж им тогда так и не удалось. Возле Энгьена Урбан оставил их с Катрин у знакомого лошадиного барышника, а сам отправился разведать как да что. Пропадал он целых два дня, но ничего утешительного не принес. Ему одному, сказал он, проникнуть в город, может, и удастся, если повезет; на худой конец, можно было бы попробовать вдвоем, но чтобы с конем и девкой – об этом и думать нечего. Предместья все выжжены от Батиньоля до Менильмонтана, там ни укрыться, ни прошмыгнуть даже в темноте, и всюду полно наваррцев, а от них ни одна девка не уйдет, не говоря уж о коне…
– Может, вдвоем попытаемся? – предложил он нерешительно. – Этих тут оставим, после вернемся, как поспокойнее станет…
Робер подумал и сказал, что если барышник согласится подержать Глориана в своих тайных конюшнях (он и сейчас продолжал приторговывать лошадьми, несмотря на окрестное разорение), – если согласится, то можно оставить на время. Катрин же оставлять не захотел.
– Да на кой она тебе, господин? – удивился Урбан. – В Париже, что ли, мало этого добра…
– Дурак, она мне спасла жизнь, выходила меня – забыл?
– Понятное дело, выходила, а чего ей еще было делать! Для того в отряде и держали. Да я и не говорю, чтобы вообще ее прогнать! Тут бы пока и пожила, поработала бы у папаши Пьера, он вроде без служанки остался. А после уж как получится… да нет, не забудем! За конем-то все равно сюда вернемся.
– Нет, пойдем вместе, – оборвал Робер.
Папаша Пьер долго торговался, но наконец согласился присмотреть за конем, хотя и заломил непомерно большую плату с условием, что если до Дня Всех Святых с ним не рассчитаются, то Глориан перейдет в его собственность.
– До Дня Всех Святых еще далеко, – успокаивающе сказал Урбан, когда они вышли от папаши Пьера, – в Париже всегда можно заработать. На худой конец, зарежем кого-нибудь, ограбим!
Седло и все конское убранство оставили при Глориане, дальше пошли налегке, увязав котомки. Урбан нес на плече свой арбалет, изображая воинского человека. Теперь, впрочем, мало кто ходил невооруженным, разве что клирики да самые бедные вилланы, кому уж и вовсе нечего было защищать.
Робер чувствовал себя неплохо, но быстро уставал, к дождю начинало болеть разрубленное левое плечо, ныли долго не заживавшие колотые раны на ногах. На время, пока Катрин выхаживала его своими травами да возила в тележке, словно младенца, он отвык ходить пешком и сейчас не представлял себе, как сможет одолеть весь оставшийся путь.
А путь предстоял неблизкий – посоветовавшись, они решили податься на юг, чтобы подойти к Парижу с другой стороны. Там, говорили люди, вообще спокойнее – бесчинствовавших на дорогах бригандов поприжали, а главное было то, что в тех краях не шла охота за беглыми жаками, которая еще продолжалась здесь, между Сеной и Уазой. Если спуститься по Сене до Буживаля, можно лесами пройти прямо на Кламар, а оттуда до парижских застав рукой подать.
Так и сделали, в Эпинэ еще с вечера Урбаном была присмотрена лодка, привязанная простой веревкой, без цепи и замка; дождавшись позднего часа, он украл ее и пригнал в условленное место, где прятались Робер и Катрин. Плыли долго – летом Сена мелеет, течение здесь медленное, а весла в лодке не оказалось. Хорошо, Урбан догадался прихватить на берегу обломок доски – с ее помощью и правил, кое-как выгребая на середину, когда лодку слишком сносило к берегу. Перед рассветом сделалось совсем холодно. У Катрин даже зубы стали постукивать, но она уверяла, что ничуть не озябла, и исправно вычерпывала воду найденным черепком. Становилось все светлее, над водой курился легкий туман, наконец слева из-за холмов появилось солнце. Урбан показал на холм поближе и повыше других:
– Вон она, Валерьянова гора. За ней опять Сена – она тут петлями кружит, – а на том берегу уже Булонский лес. Чащоба страшная, не зная, запросто можно пропасть, такие есть гиблые места. Я там косуль иногда стрелял…
– Опасный промысел, – заметил Робер, подавляя зевок.
– То-то и оно! Дружка моего, да покоится в мире, королевские лесники повесили прямо на месте. Сперва руку отрубили, а после и самого – на дуб… Скоро нам вылезать – вот как станет река вправо заворачивать, так и сойдем. Она тут так и петляет до самого Мёлана…
Когда поднявшееся еще выше солнце оказалось за кормой, Урбан выгреб к левому берегу. Берег был илистый, топкий, поросший камышами; они порядком вымокли и извозились в грязи, пока сумели выбраться на сухое место.
– Ну вот, а теперь тронемся вон туда. – Урбан показал на лесистые холмы, подступающие близко к пойме. – За ними места уже знакомые – мы были там, помнишь, как ходили разорять крепости…
– Ну, то дальше было.
– Дальше, понятно, я говорю – в ту сторону. Палезо, Трапп, нам так далеко и не надо. Сейчас холмы перевалим, а там прямо к восходу. Ну, не прямо, а чуть поправее. Прямо-то в самый раз угодили бы к англичанам, ихнее там самое гнездовище, еще с зимы сидят…
За два дня без спешки добрались до Кламара. Урбан и здесь разыскал приятелей, пропьянствовал с ними всю ночь и узнал много полезного. В Париж сейчас торопиться не следует, там неспокойно; ходят слухи о каких-то переговорах, то ли с герцогом, то ли с королем, но толком никто ничего не знает. Эшевены засели в ратуше и лаются до хрипоты, обвиняя друг друга в злых умыслах, а по улицам бродят вооруженные шайки, нападают на прохожих, и каждая заставляет кричать свое: одни за Марселя и Наварру, другие за Майяра и Валуа.
– Покричать-то можно, – рассуждал Урбан, – отчего не покричать, если просят, но худо другое: Марселю, говорят, всюду мерещатся герцогские лазутчики и теперь городская стража хватает всякого подозрительного – откуда взялся, да с чем идешь, да к кому… Сразу волокут в Шатле, а там пыточники знаешь какие мастера!
– Ну, нам этого бояться нечего, – возразил Робер, – меня в квартале Сен-Дени каждая собака знает, да и ты тоже был в отряде Жиля, на него, в случае чего, и сошлемся.
– Э-э-э, тут все не так просто! – Урбан заговорщицки понизил тон. – Мы почем знаем, с кем теперь твой Жиль? Если переметнулся к Майяру, то его называть – это все равно что сознаться, что ты прямо от герцога!
– Нет, Жиль не мог переметнуться, – подумав, сказал Робер. – Не из таких он, я-то его знаю, говорил с ним не раз.
– Да что «говорил»! Это когда было? Тогда, может, и сам Майяр был заодно с Марселем, а теперь видишь как дело обернулось…
– Хорошо. Но мы-то с тобой служили у Жиля раньше, когда все эшевены были заодно. Так если они потом перелаялись, мы тут при чем?
– Опомнись, господин! Да ты просто ничего не соображаешь – со всем уважением будь сказано. Ты был моим капитаном и буквы знаешь не хуже клирика, но сейчас рассуждаешь, как самый распоследний простак. Ты что же, пыточникам в Шатле будешь все это растолковывать – когда служил да почему? Да не будем про нас с тобой говорить, мы все-таки мужчины, хотя там и не таких ломали. А про нее подумал? – Урбан кивнул в сторону Катрин, которая сидела поодаль, шила, не принимая участия в разговоре. – Ты же ее оставлять не хотел – значит, вместе хочешь идти? Так вот сообрази, если ее на кобыле растянут – что будет? Да она от одного страха такого им нарасскажет, что было и чего не было…
– Грех тебе это говорить, – спокойно отозвалась Катрин, не поднимая головы от шитья. – Чтоб у тебя твой поганый язык засох.
Урбан вскочил, едва не опрокинув скамейку.
– Чур меня, чур! – завопил он, показывая рожки из пальцев. – Ведьма!
– Успокойся. – Робер улыбнулся, подмигнув Катрин. – Сам виноват, ты ведь ее обидел. Разве она не доказала, что и мужчине не уступит в верности? Но я не спорю – если пока лучше в Париж не идти, давай подождем, куда спешить…
Спешить и впрямь было некуда. Робер и сам не знал, зачем, собственно, ему в Париж. Тогда, перед битвой, он наказал Катрин, в случае чего, пробираться к Оливье, вот они с Урбаном и решили тащить туда же и его самого. Но ему в Париже делать нечего… вот разве что девчонку пристроить. Может, Оливье женится на ней?
Ладно, с Като что-нибудь придумаем; если Оливье не соблазнится, можно в какой-нибудь монастырь отдать, и не просто так, а с хорошим вкладом, чтобы была там не хуже других. Вклад – это не задача; за Глориана дадут много, хотя и жаль расстаться с таким конем. Ну а потом? Может, действительно опять бригандом… Год назад ему это занятие не понравилось, но тогда он был в чужой банде, делал что велели, а теперь соберет свою, поставит дело по собственному разумению. Главное – знать, кого грабить. И для чего…
Эх, знать бы вообще, зачем жить! Раньше ему никогда не пришел бы в голову такой вопрос. Сколько он себя помнил, жизнь всегда казалась ему открытой во все стороны, как зеленая равнина солнечным летним утром. Его нисколько не угнетало даже то, что родился сервом; может, потому, что отец Морель сызмальства приучил его не придавать этому значения, говоря, что дело не в том, кем рожден, а в том, на что способен. Он верил в себя, и Аэлис верила в него; он всегда знал, что сервом не останется, что его ждет совсем другая судьба. И даже год назад, когда все уже случилось, когда мечты рухнули и ему пришлось бежать из Моранвиля, – даже тогда не было у него этого ощущения пустоты и ненужности жизни. Наверное, поддерживало мстительное чувство: Аэлис предала его, обманула, предпочла другого, – тем важнее казалось доказать ей, что и он чего-то стоит… Доказать уже не самой Аэлис, а судьбе, жизни, самому себе. Наверное, это было глупо, по-мальчишески, но во всяком случае это была цель, ради которой стоило жить. А впрочем, что душой кривить? Пусть не совсем осознанно, но в нем всегда теплилась надежда на то, что и с Аэлис все может обернуться как-то по-другому… И ведь обернулось! И снова, пусть лишь на миг, он поверил, что все возможно…
Да, теперь он возвращался в Париж совсем не таким, каким пришел год назад. Теперь он не знал, для чего жить дальше, зачем живет вообще, зачем Глориан вынес его, полумертвого, из боя, зачем рядом оказался Урбан с его медвежьей силой, Катрин с ее травами и бесконечным заботливым терпением… Не проще ли было умереть там, в тот день, среди лязга, хруста и истошных воплей, где нельзя уже было отличить человеческого крика от визга обезумевших коней. Конечно, это было бы проще и легче, а главное – Робер не мог подобрать слова – разумнее, что ли. Потому что эта, неизвестно зачем подаренная ему, жизнь теперь не имела в его глазах никакого смысла. Да простит ему Господь эту грешную мысль!
И дело было не только в том, что он потерял Аэлис, на этот раз уже окончательно, без тени надежды; в конце концов, мужчина живет не только любовью или для любви, есть ведь и другое: рыцарская честь, подвиги, доблесть. Но теперь все это потеряло смысл. Конечно, он давно знал, что Наварра лжив и вероломен, все это знали, но чтобы рыцарь и король вот так открыто, на глазах у двух армий, втоптал в грязь свое слово чести, открыто совершил самое подлое вероломство, предательски схватив человека, им же приглашенного на переговоры, – это было уже где-то рядом со святотатством, от такого иуды должны были бежать в ужасе его же ближайшие друзья – так ведь не бежали! Мало того, сам Этьен Марсель, уже зная о судьбе Каля, пригласил иуду в Париж, сделал его генеральным капитаном…







