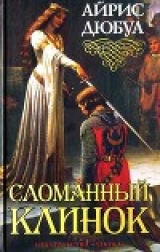
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Робер насилу от него отделался – идти к столь знаменитому человеку нельзя было просто так, не приведя себя в порядок и, главное, не собравшись с мыслями. Он и не думал, что у Пьера Жиля такие большие связи; кем становился в Париже Этьен Марсель, Робер уже себе представлял, горожане, похоже, видели в нем единственного законного правителя, ни во что не ставя дофина, – тот вообще не появлялся в столице, кочуя из замка в замок. Парижем управлял Совет эшевенов, безоговорочно подчиненный купеческому старшине. Выходит, если Жиля считают другом Марселя, то и он тоже птица высокого полета. Как еще к такому придешь…
Но он вспомнил, что Симон отзывался о Жиле как о человеке простом и отзывчивом, не в пример иным богатым горожанам; у тех, говорил Симон, спеси бывает иной раз побольше, чем у баронов, потому что эти скоробогачи больше всего боятся, как бы сквозь позолоту не проглянула вдруг их подлая сущность. Вот они и пыжатся, не понимая, что именно в этом подлая сущность и проявляется. Барон пыжиться не станет, ему это ни к чему.
И на следующий день Робер отправился на улицу Сен-Дени. С утра он тщательно вычистил платье, побывал у брадобрея и вышел от него с подстриженными и вымытыми волосами и лицом гладким, как щеки младенца. Ему издали еще указали на церковь Святой Оппортюны; лавку Жиля он нашел без труда, и хозяин оказался на месте.
– Ты, часом, не из Моранвиля, что в Вексене? – спросил он, едва Робер успел выговорить, что желал бы с ним поговорить.
Робер был поражен, решив, что Пьер Жиль не только могущественный человек, но еще и колдун.
– Вижу, что угадал, – рассмеялся тот. – Не удивляйся, господин де Берн писал о тебе уже с месяц назад, а вчера сказали, что меня разыскивает какой-то парень, видно из приезжих.
– Да, я… не знал, где улица, – пробормотал Робер.
– Ну хорошо! Я знаю, с чем ты пришел, и сейчас мы обо всем потолкуем. А пока тебя проводят наверх, подожди немного, закончу дела и поднимусь к тебе…
Робера проводили наверх, в жилые покои. После громадных залов Моранвиля жилище горожанина, даже столь богатого и могущественного, выглядело тесным, как и все здесь, в Париже. Потолки были низкие, окна маленькие, но убранство покоя поражало роскошью. Пахло какими-то благовониями, дубовый пол блестел, словно политый водой, стол на тяжелых витых ножках был покрыт расшитой скатертью, которой цены нет. На полке над камином и в поставце сверкала серебряная и позолоченная посуда – кувшины причудливой формы, кубки, чеканные тарелки. В окнах горели разноцветные стеклышки, и так ярко, что казалось – на улице светит солнце. Хотя день был пасмурный и ненастный.
Робер постоял возле камина, погрелся, не решаясь присесть на один из стульев с высокими резными спинками. Слуга принес угощение – паштет с румяной запеченной корочкой, кувшин, два стеклянных кубка; следом вошел Пьер Жиль.
– Садись, – пригласил он Робера и сделал знак слуге. Тот разрезал паштет, налил в оба кубка темного, почти черного, вина и вышел. – Ешь и пей, я кое-чем обязан мессиру де Берну и буду рад выполнить его просьбу.
Робер следом за хозяином отпил вина и отломил кусочек паштета, подивившись, что же здесь едят и пьют на Пасху или Рождество, если в будний день такая роскошь и стеклянный кубок подают случайному гостю, словно какой-нибудь из олова или хотя бы из серебра.
– А тебя торговля привлекает? – спросил хозяин. – Хотел бы помогать мне в лавке?
– Боюсь огорчить вашу милость, – сказал Робер. – Я, конечно, поработаю у вас… какое-то время, если так надо, но…
– Ясно, – перебил Пьер. – Как я и думал, это не по тебе. Тогда поговорим о другом! Скажи-ка, ты представляешь себе, что сейчас происходит в королевстве?
– Что происходит? – нерешительно переспросил Робер. – Ну… война происходит, я так понимаю. С годонами, то есть с англичанами…
– Ты прав, война – это главное. Но война с англичанами, если разобраться, лишь полбеды. Как раз с ними-то сейчас перемирие…
– Это я знаю, – осмелел Робер. – В Бордо подписали этой весной?
– Молодец, ты не такой уж простак, как я думал. А знаешь, чем обернулось бордоское перемирие? Наши края наводнены бандами солдат, которых распустили, не заплатив ни гроша. Наемники, – Пьер стал загибать пальцы, – люди дофина, люди Наваррца, отдельные английские отряды, не признавшие перемирия, – и все грабят и убивают. Рутьеры уже появились вокруг Парижа! Можешь ты себе это представить?
Как раз это-то Робер мог представить себе очень хорошо. Он стал спешно соображать, стоит ли рассказать Жилю о своих собственных подвигах, но решил, что не стоит. Он ведь его прямо не спрашивает!
– Так вот, – продолжал хозяин, – в такой обстановке нам здесь не остается ничего другого, как тоже обзавестись армией. Эшевены решили собрать городское ополчение, а это значит, что каждый квартал должен выставить некоторое количество солдат, обучив и вооружив их за свой счет. Я подписался на три тысячи ливров – это стоимость годового содержания отряда в двадцать человек.
Робер не удержался и присвистнул:
– Три тысячи! Это стоит так дорого?
– А ты как думал? Ну считай сам – двенадцать ливров в месяц на человека, меньше не выходит. Решили так: каждый, кто подписался, выставляет свой отряд уже с капитаном, чтобы люди знали его, успели к нему привыкнуть. А генерального капитана всего ополчения назначит ратуша. Вот я и подумал – Симон про тебя пишет, вроде ты солдат не из последних?
– По правде, – осторожно сказал Робер, покраснев от похвалы, – по-настоящему мне еще не так часто довелось бывать в деле… но случалось. Господин Симон был мною доволен.
– Так почему бы тебе не стать моим капитаном?
– Мне? – переспросил Робер ошеломленно. Он уже догадался, что мэтр Жиль предложит ему поступить в отряд, и это его обрадовало, но чтобы капитаном? – То есть как это… над всем отрядом?
– Да-да! Людей я тебе подберу сам, ты этого не сумеешь, тут в Париже столько всяких проходимцев, что попробуй отличить честного малого от висельника. Этим займусь я сам! Но ты их вооружишь, обучишь и, главное, заставишь слушаться. Подумай хорошо, справишься ли, чтобы не получилось потом так, что время потеряем, а отряда не будет. Марсель хочет, чтобы к Рождеству парижское ополчение было готово выступить, если придется.
У Робера голова шла кругом. Иметь под своим началом двадцать человек! Да еще горожан, а они вон какие бойкие, их разве переспоришь… Но он понимал, что такого случая, как теперь, никогда больше не представится, такое бывает раз в жизни. Ему ведь всегда думалось, что должно произойти что-то необычное, что его ждут большие и опасные дела, что его судьба – не такая, как у других… Чего же теперь медлить?
– Мессир, я готов служить вам верой и правдой, – сказал он, учтиво поклонившись. – У меня и конь есть!
– Не называй меня мессиром, – Жиль рассмеялся, – я не дворянин. И служить будешь не мне, а доброму городу Парижу. Что ж, я рад! Жить и кормиться будешь у меня, найдется место на конюшне и твоему коню, платье и вооружение я тебе куплю, а потом буду понемногу высчитывать стоимость оружия из твоего жалованья. Одежда пусть будет подарком. Насчет жалованья поговорим позже, когда я увижу, чего ты стоишь. Симон писал, у тебя есть отпускная грамота?
– Да, грамота у меня есть.
– Это хорошо. Ты обучен счету и письму?
– Обучен, – кивнул Робер и, поколебавшись, добавил: – Наш приходской кюрэ хотел из меня клирика сделать… и спуску не давал.
– Понятно. Напиши-ка свое имя! – Жиль положил перед ним листок бумаги и странный, никогда не виданный Робером предмет – тонкую серебряную палочку с темным концом.
Он с опаской взял ее в руку, палочка была тяжелой.
– Этим можно писать? – спросил он с недоумением.
– Конечно, вот так. – Жиль забран палочку из его пальцев и темным концом провел по бумаге, оставив хорошо видную черту.
Робер потрогал пальцем – черта была сухой, не размазывалась, как свежие чернила.
– Как удобно, – сказал он, качая головой, – и чернильницу не надо с собой носить… Придумают же!
– Это придумали уже давно, здесь внутри свинец. Ну, так как тебя зовут?
Робер низко наклонил над столом голову и стал старательно выводить палочкой букву за буквой. Потом, довольно улыбнувшись, приписал ниже: «XX людей».
– Молодец, – снова похвалил Жиль. – Совершенно верно, два десятка ратных людей будет у тебя под началом. Можешь мне сказать, сколько чего им понадобится – ну, из оружия, снаряжения?
– Это будет конный отряд?
– Нет конечно! Ополчение будет пешее.
– А, ну тогда проще. Значит, так – полный доспех, я полагаю, пехотинцу ни к чему. Без салады на голову, понятно, не обойтись, а вместо кольчуги можно просто бармицу…
– Бармицу?
– Да, это вот так, до сих пор, – чтобы если по плечу рубанут…
– Погоди, – сказал Жиль и вынул из сумки у пояса маленькую книжицу. – Давай-ка я буду записывать все по порядку…
Глава 15
Дофин вернулся в Париж в середине ноября, получив известие о побеге Карла Наваррского из Арлё. Как он и предвидел, парижане с ликованием встретили эту новость, тем более опасно было оставлять столицу без присмотра.
Но и его присутствие мало что могло уже изменить. Многие видели в Наваррце законного – и куда более достойного короны – соперника дому Валуа, который до сих пор не принес Франции ничего, кроме бед и позора; союз с Наваррой, таким образом, придавал действиям Этьена Марселя некое подобие правомерности: теперь он не просто боролся за власть над столицей, но как бы поддерживал законного претендента на трон.
Мятежный старшина уже не скрывал своих намерений. Для сторонников городской партии придумали особый отличительный знак – красно-синюю шапку с гербом Парижа и надписью: «На доброе дело». Все способные носить оружие были вооружены, и каждый квартал имел своего выборного, подчинявшегося непосредственно ратуше. Спешно создавалось ополчение: Этьен Марсель готовился к решающей схватке.
В свою очередь действовал и Наваррец. Обретя свободу, он задержался в Амьене, усердно завоевывая симпатии горожан, и настолько преуспел, что молва о его «простоте и любезности» мигом долетела до Парижа. Неудивительно, что появление Злого у стен столицы стало чуть ли не праздником. Вечером 29 ноября он с многочисленной свитой прибыл в аббатство Святого Германа на Лугах; наутро огромная толпа заполнила примыкающий к аббатству «Луг клириков» – излюбленное студентами и горожанами место сборищ и увеселений. Собравшиеся долго выкликали «своего короля», и наконец он появился на выступе монастырской стены – смиренный, одетый в черное, без оружия и украшений. Со слезой в голосе начал говорить, избрав темой стих десятого псалма: «Господь праведен, любит правду; лицо Его видит праведника». Подразумевая под этим праведником самого себя, Карл искусно защищался от возводимых на него обвинений в измене и так горячо уверял в своих добрых чувствах, что ему поверили даже не склонные к наивности парижане.
Долго ждать результатов не пришлось. Первого декабря представители парижской ратуши отправились в Ситэ и от имени верных городов просили дофина возвратить свою милость королю Наварры. Дофин был вынужден уступить. Состоялась встреча, кузены дружески обнялись на глазах у ликующих горожан. А затем начался торг: Карл Наваррский требовал у Карла Французского земель и замков в возмещение обид, учиненных ему тестем.
Монсеньор Ле Кок, чье влияние сильно возросло после освобождения Наварры, потребовал в Королевском совете, чтобы для обсуждения этих вопросов были приглашены Марсель и другие представители города. Совету пришлось уступить и в этом, спор двух венценосцев был улажен под надзором и при содействии парижских эшевенов.
Однако вынужденное перемирие было непрочным. Согласившись для видимости на требования кузена, дофин тут же послал тайные приказы комендантам уступленных крепостей не сдавать их Наваррцу. В ответ Карл повел себя вызывающе: клялся в любви к горожанам, приглашал к своему столу представителей купечества, льстил им, осыпал любезностями, а незадолго до Рождества покинул Париж и стал объезжать города Иль-де-Франса, открыто сея смуту и недовольство домом Валуа.
Все это не могло не привести к новому разрыву с дофином. И тогда Наваррец передал Марселю совет вести себя «решительнее», сам же, верный своей всегдашней коварной уклончивости, в Париж не вернулся, предпочитая наблюдать за назревающими событиями со стороны. Тем временем подошел к концу декабрь, и наступил январь, с морозами, обильным снегом и низким, негреющим солнцем в седом от стужи небе…
Ледяной ветер срывал снег с островерхих крыш и кружил, нес его вдоль узкой, заваленной сугробами улицы. Сгущались сумерки, заливая все вокруг мутной синевой. Плотнее завернувшись в плащ, Робер шел по протоптанной посредине тропинке, настороженно поглядывая по сторонам, – зимой, когда ночи были долгими и темными, разгуливать по Парижу с наступлением темноты становилось делом небезопасным. Хотя и считалось, что столица хорошо охраняется, по ночам здесь безраздельно хозяйничали разного рода лихие люди, от которых было одно спасение: двери и ставни покрепче да запоры понадежнее.
Выйдя на улицу Сен-Дени, он с невольным облегчением перевел дух – здесь было попросторнее, поменьше сугробов, а значит, меньше и мест, где можно устроить засаду. Да и до дому тут рукой подать. Он уже миновал церковь Святой Оппортюны, когда навстречу показалась темная фигура – правда, одна. Робер замедлил шаги, положил руку под плащом на рукоять кинжала. Человек, приблизившись, приветственно помахал, и он узнал Гишара, одного из своих солдат, за смекалку и исполнительность состоявшего при нем первым помощником.
– Это вы, капитан? А я тут встретить вышел – что-то, думаю, долго нет, не ровен час, напали… Вас там какой-то человек дожидается – засветло еще пришел, говорит – земляк, а звать Гийом…
– Гийом, говоришь?
– Да, Гийом Шарль, вот как, я еще подумал, он родом из Нормандии, потому как у него не «Шарль» выговаривается, а вроде «Каль»…
– Ах, этот! Проводи в мою комнату и пусть принесут поесть, а я – скажи – только загляну к хозяину и поднимусь…
Новость его не обрадовала. Гийом мужик вроде неплохой, но сейчас все связанное с Моранвилем было Роберу в тягость, а Каль словоохотлив и уж, наверное, выложит кучу тамошних новостей. Вот их-то Робер и боялся.
Когда он, покончив с делами, поднялся к себе, Гийом Каль стоял посреди комнаты, с детской непосредственностью разглядывая обстановку. Увидев Робера, он восхищенно прищелкнул языком:
– Ну-у, парень! Ты, я вижу, неплохо устроился!
– Да я попроще хотел, так, говорят, не положено, – улыбнулся Робер и добавил, стараясь казаться приветливым: – Рад видеть тебя в добром здравии, друг Гийом.
– Рад не рад, – засмеялся Гийом, – а я пришел и даже надеюсь промочить глотку!
– Зачем же только промочить? Сейчас все будет… – Робер приоткрыл дверь в коридор и крикнул: – Ну, что там? Долго мне еще ждать?
Слуга тут же, словно дожидался окрика, притащил золотистый каравай хлеба, блюдо с мясом и глиняный кувшин. Сели ужинать. Гийом ел с аппетитом, усердно подливая в свою кружку, много говорил. Робер, почти не прикасаясь к еде, слушал молча, со сдержанным вниманием.
– …в Эперноне у бригандов вроде как главная крепость, – рассказывал гость, – и все туда прямо как мухи на падаль. Жак де Пип, тот, что служил вместе с Кнолем у Филиппа Наваррского, тоже туда перебрался со своим отрядом и такие там дела заворачивает, что, кабы мне кто другой рассказал, не поверил бы!
– Место выбрано с умом, – кивнул Робер. – Замок крепкий и до Парижа рукой подать.
– Это точно, почитай, все дороги здешние перекрыты. Я вот налегке, и то еле ноги унес. А если кто с товаром – попробуй не поделись, так тебя сразу… – Гийом выразительно подмигнул и, оттопырив большой палец, полоснул себя по горлу.
– Да… бригандам в наше время раздолье.
– Помнишь, как сам помышлял к ним податься? Еще до смерти напугал попа Мореля.
– Помню, – кивнул Робер. Отщипнув кусочек хлеба, он прожевал его, запил вином и сказал: – А я у них и побывал этим летом.
– Брось ты!
– Да, был случай. Как-нибудь расскажу… позже. Почти неделю с ними прошлялся, потом ушел.
– Вон оно что… – Гийом внимательно посмотрел на него и перестал смеяться. – А вообще не нравишься ты мне, – сказал он вдруг. – Так-то с виду возмужал и повадки такие уверенные, а вот глаза…
– Глаза как глаза, – делано зевнул Робер. – Забот много, устаю я.
– Уставать в твои лета не положено! Ну да ладно, не хочешь говорить – неволить не стану. А что, правильно я сделал, посоветовав тебе идти к Жилю?
– Правильно. Только почему вы сами к нему не пришли? Были бы капитаном у него, у вас это лучше получилось бы, чем у меня…
– Капитаном – у Жиля? – Гийом Каль засмеялся, покрутил головой и, потянувшись к блюду, откромсал себе еще кус мяса. – Мне, друг Робер, двадцати человек маловато…
Робер почувствовал себя задетым.
– Тогда к Марселю, – посоветовал он. – Генеральный капитан ополчения еще не назначен, я слышал.
– И это мне тоже ни к чему, – спокойно ответил Гийом, словно не понял насмешки. – Генеральный капитан парижского ополчения будет делать то, что ему велят господа эшевены. А я, когда придет время, буду делать то, что сам сочту нужным.
– И когда же это время придет?
– А вот пусть оба Карла хорошенько друг друга потеребят, зубы себе пообломают. Тогда и придет нам пора позаботиться о себе! – Гийом тряхнул гривой нечесаных волос, влажных от растаявшего снега, и пристукнул по столу кулаком, в котором был зажат нож. – Тогда-то мы им всем покажем!
– Кому «им» и кто это «мы»?
– Им – это значит всем тем, кто ходит в шелках да бархате, а мы – это мы и есть, простой люд королевства, вилланы!
– Опять вы за свое, – пожал плечами Робер. – Как будто и без того мало смуты… Хотите еще большую учинить?
– Чем больше, тем лучше. Пора и нам навести в королевстве порядок – чтобы дворяне не драли с мужика по три шкуры, не вытаптывали себе на потеху наших полей! Подумаешь, смута, нашел чего бояться.
– Понятно… Надеетесь поудить рыбку в мутной воде, наподобие Марселя или Карла Злого. Только ведь за теми сила, а у вас что?
– И у нас силы хватит, коли весь народ подымется!
– Весь не подымется. А если бы и поднялся, это был бы вооруженный сброд. Уж вам, как человеку военному, следовало бы понимать это. Умеют наши вилланы воевать всерьез?
– Их можно и обучить, дело не такое хитрое.
– Не хитрое, говоришь? Я тоже когда-то так считал. Думал, все дело в том, чтобы иметь в руках что-нибудь острое – хоть вилы, хоть косу на древке. А вот когда Симон со мной поработал, только тут до меня дошло, что солдатом не рождаешься – им стать надо. А пока не стал, так, сколько бы вас ни собралось с вилами да косами, всех в первой же схватке изрубят как капусту…
– Однако мне тут уже порассказали, как ты из горожан солдат делаешь. А они ведь тоже не умели управляться с оружием, верно? Капитаном можно быть не только в Париже…
– Вот, значит, для чего вы меня искали, – усмехнулся Робер. – Что же мне, явиться к вам в Мелло и засесть там капитаном?
– Ты не ухмыляйся! В Мелло тебе делать нечего. А сколько жаков по лесам таится, ты знаешь? И идут туда самые отчаянные, хилый да трусливый не пойдет… – Гийом Каль помолчал, выжидающе глядя на Робера, потом вздохнул. – Я там кое-что начал, но… одному трудно. Чем больше нас будет, тем лучше. Ты бы на это дело как раз и сгодился!
Робер помолчал, отломил корочку хлеба, отпил вина.
– Может, и сгодился бы… коли поверил.
– А сейчас не веришь? Я что же, выходит, враки тут тебе развожу?
– Не об том речь. Знаю, врать ты бы не стал! Я, друг Гийом, другое хочу сказать… Я не тому не верю, что жаки готовы поднять смуту. Наверняка так оно и есть, коли разбредаются по лесам. Я не верю, что простому люду после этой смуты легче жить станет.
– Да как же не легче, коли они самых зловредных баронов изничтожат!
– И что же, сами объявят себя баронами? Или станут жить при новых? Феод-то по наследству передается – это вроде бы любой мужик знает. А ну, как наследники изничтоженных захотят поквитаться да еще пуще начнут свирепствовать?
– Тогда и тех туда же, – спокойно ответил Каль. – Пожалуй, так оно надежнее выйдет. И замки ихние снести все до основания!
«Странно, – подумал Робер, – там, в Моранвиле, Гийом казался разумным человеком, а тут несет бог весть что. Сдурел, что ли?»
– Больно уж просто у тебя все получается: баронов изничтожить всех до единого, замки порушить – и сразу будет рай на земле… Хоть бы то сообразил, что когда баронов не станет, то замки ихние нам же самим и придется возводить заново – только уже для годонов…
– И на тех управу найдем, – хмуро возразил Каль.
– Да уж нашли – под Пуатье! Так нашли, что король по сей день у них в плену сидит.
– На короля мне плевать…
– А вот мне – нет. Не знаю, за что его Добрым прозвали, я здесь другое слыхал: будто он придурковатый. Может, из добрых дураков, такие бывают. Однако какой ни есть, а все ж таки он король и должен быть на своем месте. А то глянь, что тут сейчас творится: парижане одни за дофина, другие за Наваррца, третьи уже чуть ли не Марселя готовы посадить на трон…
– А ты что, против него?
– Да я не против! Какое же «против», если я обучаю отряд господина Жиля, а уж он-то у Марселя в первых дружках. Но когда он меня нанимая, я так понял, что ополчение для того собирают, чтобы Париж не оставался беззащитным. Понятное дело – столица королевства, а тут приходи кто хочешь, бери голыми руками! А если бы он сказал, что задумано у них корону на Марселя надеть, я бы ему служить не пошел. Не по душе мне такие дела.
– А почем знать, может, Марсель не хуже других оказался бы королем, – усмехнулся Каль, и не понять было, то ли он всерьез говорит, то ли подначивает собеседника. – Про него-то уж не скажешь, что он придурковатый.
– Да разве в уме дело, – с досадой отозвался Робер. – Где это видано, купцу отдавать власть в государстве! Коли ты суконщик, так и будь при своем суконном деле, а выше не заглядывайся…
– Так-так, – недобро усмехнулся Каль. – Тогда, значит, барону оставаться бароном, а виллану – вилланом? Эх ты, сам-то небось заглядывался кой-куда повыше, вроде и о золотых шпорах мечтал…
– Мало ли о чем сдуру мечтаешь… покуда не поумнел. Знаешь, Гийом, в чем нам не столковаться? Ты всех делишь на дворян и недворян… Те, дескать, все злые, и надо их без рассуждения сразу под нож. А этим добрякам отдать все: власть, богатство – все, чего душа захочет. Ведь так у тебя получается?
– Ну… не совсем так, но близко к тому. А как, по-твоему, должно получаться?
– Да я не думал как-то про такие дела, но знаю одно: не важно, сеньор этот человек или виллан, главное, доброе у него сердце или злое.
– Ты среди сеньоров много видел добросердечных?
– Нет. Да их и среди вилланов немногим больше. Я тебе говорил, что побывал у бригандов, – те все из простых были; ты бы поглядел, что они вытворяли с пленными!
– Да-а-а… Вижу, тебя в Моранвиле хорошо приручили!
– Приручили бы, так там бы и жил. Как ты узнал, что я в Париже?
– Морель сказал. Я еще прошлым месяцем к нему наведывался и сейчас заходил, там и узнал.
Они снова выпили и некоторое время оба молчали, думая о своем, а потом Гийом вдруг сказал:
– А в Моранвиле тебя не забывают… – И, подмигнув, добавил: – Видать, крепко любят!
Робер впился глазами в лицо Гийома:
– Кто же это… не забывает?
– Будто сам не знаешь! Поп Морель, ясное дело, а еще Катрин. Только о тебе и толковала… А хороша девка!
Робер отвернулся, стараясь подавить досаду.
– Тоже в сваты лезешь? – спросил он раздраженно.
Гийом засмеялся:
– А хоть бы и так, чего злишься?
– Не злюсь я вовсе, – буркнул Робер. Взяв нож, повертел его в руках, помолчал, потом спросил делано безразличным тоном: – Что там нового? Как здоровье Мореля? Как Симон, как госпожа…
– Поп и господин Симон здоровы, а госпожа чуть было не померла.
– А что… с ней было?
– Да я толком не знаю. Свалилась откуда-то, а сама в тягости была, вот выкидыш и получился.
Робер, не поднимая глаз, крепко взялся обеими руками за край столешницы – пол ощутимо качнулся у него под ногами. Как в тот вечер, когда услышал о замужестве Аэлис. Но только с чего бы это теперь? Теперь-то какое ему до них дело…
– Что же это меняла так плохо бережет свою женушку, – сказал он деревянным голосом. – Хотя, говоришь, обошлось? Ну, то и слава богу. Госпожу, помню, в деревне любили…
– А все они хороши. – Каль зевнул, стал выбираться из-за стола. – Ладно, парень, за угощение благодарствую, а теперь мне пора.
– Куда же ты попрешься в такой час? Ночуй здесь, сейчас я скажу, чтобы приготовили постель.
– Не надо, я тут еще к одному хочу заглянуть… Коли стража не прихватит. Ну что, а у вас уже дело идет к большой драке? Гляди в оба, парень, не промахнись, когда придет время решать, на чьей ты стороне.
– Чего тут решать, я на службе, и мне уйти из городского ополчения теперь негоже, – сказал Робер и добавил: – А сказать по правде, так мне все эти распри пустыми кажутся. Не все ли равно, который из двух Карлов наденет корону…
Разговор с Калем утомил его, и он, проводив гостя, немедля завалился в постель. Но заснуть, как надеялся, не удалось. Легко сказать – «какое мне до них дело», но попробуй убедить себя в этом, перестать чувствовать то, чего чувствовать нельзя, непозволительно. Понятно, что нет ему никакого дела до жизни, радостей и бед этой предательницы. Даже ребенка не сумела доносить – что ж, поделом ей. Да и меняле тоже. Радовался уже небось, что сразу спроворили наследника, будет кому оставить свое богатство! А судьба и подсунь им такой курбет. Еще неизвестно, как оно теперь дальше будет… а без ребенка то-то будет счастливая семейка!
Робер тут же опомнился: да что это с ним, в самом деле! Предательница – да, она его предала самым постыдным образом (а ведь чего только не наговорила какой-то неделей раньше, провожая его в погоню за рутьерами!), и все-таки это она – Аэлис. Аэлис, которой он надел на палец материно колечко, которой принес вассальный омаж и блюсти его поклялся спасением души. Она оказалась предательницей, кто же спорит, но разве это дает ему право самому стать предателем по ее нечестивому примеру? Предателем и клятвопреступником? Робер оттянул ворот рубахи и, нащупав медальон, стиснул его.
Понятное дело, он давно уже не любит ее. Можно сказать, вообще про нее забыл. Забыл, да! Это вот Каль сейчас напомнил, а не зайди разговор о Моранвиле… С чего бы ему о ней думать! Любил когда-то, еще как любил, но когда это было. Любовь он сумел сломать в своей душе сразу и напрочь – как переломил клинок там, на башне. Теперь она для него никто! Чужая женщина, замужем за безбожным менялой, разрази его чума. Все это так, однако радоваться ее беде, желать им в будущем еще горшего – это, наверное, ничуть не лучше того, что сделала она сама. Ведь спасением души клялся не просто любить (любовь – вздор, вчера любил, а сегодня уже и не вспоминаешь), но еще и хранить верность. Это поважнее того, что дурни зовут «любовью». Верность! Не важно, что тебя предали; если платить той же монетой – тогда чем ты лучше, какое у тебя право осуждать. Ты – ты сам, не кто-то другой, – ты должен оставаться верен своему слову, своей клятве. Не важно, что тебе изменили; ты – не изменишь ни под огнем, ни под железом…
Глава 16
День начинался безрадостно, и самым тоскливым бывал первый миг, самый первый, когда пробуждение отгоняло сон, сразу стирая его из памяти, и надо было открыть глаза, увидеть все то новое – и уже бесконечно постылое, ненужное, – что ее теперь окружало.
Открывать глаза приходилось каждое утро – не будешь ведь лежать зажмурившись до самой мессы. А не явиться в капеллу нельзя, хотя теперь Аэлис присутствовала там как бы наполовину – совсем не так, как прежде. Когда-то она, хотя и не была очень набожной по натуре, любила слушать мессу, особенно в деревенской церквушке у отца Мореля.
Проснуться и лежать затаившись, не раскрывая глаз, позволяя еще какое-то время потешить себя несбыточной надеждой: вот сейчас выгляну из-под одеяла и увижу, что ничего этого нет – ни затканного золотыми флорентийскими лилиями синего полога над кроватью, ни цветущих яркими красками гобеленов справа и слева от камина, ни – еще ярче – сарацинского ковра во весь пол. Чтобы ничего этого не было, а было бы все прежнее, привычное и простое: небольшой тканый коврик аррасской работы в простенке между камином и глубоким оконным проемом, а по бокам и выше – просто побеленная известью кирпичная кладка. Кирпич там был выложен особенно искусно, побелку освежали ежегодно перед праздником Святого Духа, и стена с ковриком выглядела очень нарядно. На коврике же был представлен сир Ролан, тщетно пытающийся оповестить императора о битве с неверными в Ронсевальской теснине. Изображение было Красивым и трогательным (как раз это место «Песни» нередко заставляло ее заливаться слезами), хотя кое-кто посмеивался и над несоразмерно большим рогом в руках Ролана, и над тем, что сам паладин получился каким-то коротконогим – такой ногой и до стремени не достанешь, как его ни подкорачивай.
Вспомнив это сейчас, Аэлис привычно подавила в себе желание плакать. Она давно свыклась с тем, что помнить о Робере нельзя, но легко сказать: забудь, а если все равно помнится, вспоминается по любому поводу, даже вот при взгляде на эту драгоценную флорентийскую таписерию, наглухо закрывшую простенок, где раньше трубил коротконогий Ролан… И еще, дескать, голова у него несоразмерно велика! Да что из того, помилуй бог, каким бы он ни был – пусть коротконогий и большеголовый, пусть хоть кривой, – все равно это он, знакомый с детства, свой, добрый француз, и родом откуда-нибудь отсюда неподалеку, – не чета этим греческим и римским язычникам, которыми она теперь вынуждена услаждать взор каждое утро!
Конечно, Франсуа, когда их привезли, первым делом спросил, нравятся ли они ей, и она сказала, что да, еще бы, такая красивая ткань, ей и не приходилось видеть ничего столь роскошного. Сказала из вежливости, просто чтобы не огорчить (она-то знала, что выбирал их он сам)? Да нет, вовсе нет, тогда они ей и в самом деле понравились. Тогда ей нравилось все. А какой радостью было проснуться и ощутить его рядом. Действительно, почему «из вежливости»? Тогда все было иначе, все доставляло радость – и прежде всего его внимание, проявлялось ли оно в ласках или подарках. Именно поэтому она им радовалась – как знакам его внимания. Наверное, была даже счастлива… Была – или думала, что была? Не все ли равно…
Аэлис вздохнула, приподнялась на локте, рассеянно глядя в камин, где уже дымились огромные поленья. Как удалось ей в то первое утро после бегства Робера скрыть правду от всех, даже от Франсуа? Разум мутился от стыда и горя, и все-таки она нашла силы поговорить с Симоном, убедить его, что отъезд Робера вызван глупой ссорой. Для отца тоже придумала целую историю в объяснение своей порезанной руки. И спасибо Жаклин, подавшей счастливую мысль: до самой свадьбы (оставалось два дня) затвориться в своей комнате под предлогом поста и молитвы. Отец Эсташ поддержал благочестивое намерение, и эти два дня не надо было притворяться, лгать, с кем-то разговаривать. А потом, когда одетая в алое подвенечное платье, она спустилась в зал и встретила сияющий счастьем и восхищением взгляд жениха, ей вдруг снова стало хорошо, почти радостно. И все словно забылось!







