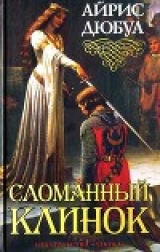
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Жиль снова вскочил, замахал руками, забегал по комнате:
– Что значит «не верят»? Кто это тебе не верит? Если бы я не верил, дурень, то не держал бы у себя, я не держу в своем доме тех, кому не доверяю! Ну хорошо, хорошо! Решено – ты остаешься! В конце концов, может быть, все еще и уладится как-то.
Отъезд мессира Гийома был назначен на Петров день, приходившийся в этом году на конец апреля, и Аэлис до самого последнего часа не находила себе места от страха и тревоги – а вдруг опять передумает? Но нет, сборы шли своим чередом: ковались лошади, было отобрано и проветрено парадное платье (благо мессир мог теперь блеснуть при самом пышном дворе, столько у него было кафтанов, шляп бархатных и шелковых, плащей, отороченных дорогими мехами), увязывались дорожные тюки, Симон лично проверил каждый ремешок и каждую железку у солдат охраны, отобранных сопровождать мессира. Капеллан уложил в дорожный короб достаточно мазей, порошков и сухих трав, чтобы в случае нужды вылечить ораву недужных. В кладовых и на поварне отливались во вьючные бочонки разные сорта вин, от самого простого для употребления челяди до самых изысканных, старых, на случай если мессиру придется принимать гостей, в кожаные мешки укладывалось жаренное впрок мясо и печеный хлеб, ибо не всегда можно было теперь раздобыть в пути достаточное количество припасов для такого отряда. Аэлис хлопотала, как положено заботливой хозяйке и любящей дочери, и все время ловила себя на мысли – ну скорее бы уж, скорей бы они все уехали…
Наконец 29-го утром, отслушав мессу, путники отбыли. Вернувшись в свою комнату, Аэлис достала спрятанное на груди колечко и, прижав его к губам, закрыла глаза. Сердце колотилось, ее бросало то в жар, то в холод, на какое-то мгновение она даже испугалась – такого не было с ней даже накануне свадьбы, что же это за наваждение? Но это наваждение она не променяла бы ни на что во вселенной, сейчас вселенная сошлась для нее в этом ожидании, в ослепительной, сжигающей все остальное уверенности, что завтра она увидит Робера и они снова будут вместе, вместе, вместе…
Осенью, после того случая, когда она оступилась на лестнице Фредегонды, Франческо приказал заколотить вход в проклятую башню, но замковый столяр, то ли не поняв распоряжения, то ли просто решив проявить добросовестность в работе, навесил там дубовую дверь с замком; месяц назад, когда Аэлис начала обдумывать свой план, она велела Жаклин под каким-то предлогом взять у него ключ от этого замка. Теперь ключ был надежно спрятан, а петли и замок обильно политы маслом. Самым удобным было то, что дверь можно было теперь запирать как снаружи, так и изнутри.
Испугавшись вдруг, не пропал ли ключ, Аэлис бросилась к своему тайнику в оконной нише, просунула руку за отошедшую деревянную панель и с облегчением перевела дыхание – ключ был на месте. На всякий случай она все же достала его и опустила в подвешенный к поясу мешочек – теперь можно было не опасаться, что кто-то случайно увидит, спросит, что это за ключ и зачем он ей. Теперь она вообще не опасалась ничего. Вернись сейчас муж, она и то не отступила бы от задуманного – просто пришлось бы изменить кое-что.
После обеда она вышла в сад. Перед входом в башню густо разрослась сирень, дверь была из окон не видна. А впрочем, хотя бы и увидели! Она вложила ключ в скважину, нажала, тот повернулся с легким звоном, дверь отошла без звука. Аэлис вынула ключ, проскользнула внутрь и заперлась. Здесь было тихо, холодно, пахло сыростью и каким-то тленом. Ей вдруг стало жутко. «Это только здесь, внизу, – сказала она себе, – там, на площадке, светло, жарко, солнечно». А ночью там тишина и звезды. Обломки кинжала она убрала оттуда уже давно, как только сошел снег, убрала и выбросила в ров. Была у нее мысль отдать их кузнецу – сломанные клинки, говорят, сваривают, но нет, зачем. Робер все равно не взял бы его…
Она вышла из башни, тщательно заперев за собой, и на хозяйственном дворе велела позвать Жаклин.
– Этот… как его, Тома? Пришли его ко мне, – приказала она, избегая смотреть на камеристку.
– Ах что вы, госпожа, еще рано! – возразила та развязным тоном соучастницы, понимающей свою незаменимость. – Потерпите уж до вечера, ничего с вами не…
Аэлис с наслаждением залепила ей пощечину.
– Хватит? – спросила она спокойно. – Или, может, еще и розог захотела? Пусть придет ко мне в комнату, я буду там.
Робер был уже в постели, когда ему сказали, что приехал человек по срочному делу и спрашивает его. Он оделся, сошел вниз. На улице, перед лавкой, держа в поводу лошадь, стоял парень, в котором он не сразу узнал арбалетчика Тома из моранвильской охраны.
– Ты? – спросил он недоверчиво и с тревогой. – Здорово! Кто тебя послал – Симон? Что случилось?
– Да ничего не случилось, сударь, – ответил Тома и полез за пазуху. – В замке все слава богу, а послал меня не мессир Симон, а госпожа.
– Что? – Роберу показалось, что на него пахнуло жаром, как из раскаленной печи. – Кто послал? Госпожа, ты говоришь?
Потом ему стало зябко, словно на ледяном сквозняке, а Тома достал из-за пазухи какую-то тряпицу и протянул ему:
– Это вот госпожа велела отдать вам, только сказала, чтобы в собственные руки, никому больше…
Медленно, уже догадываясь, зная, что найдет, Робер разворачивал шелковый мешочек на шнурке, который столько раз видел на поясе Аэлис, и его продолжало бросать изо льда в пламя, из жара в ледяной озноб.
– Что-нибудь она велела еще сказать? – спросил он, до боли стиснув в кулаке тоненькое колечко.
– Госпожа так сказала: если, мол, вы спросите, не велела ли чего передать на словах, то чтобы я сказал – «завтра ночью». А если не спросите, то и не говорить.
– Хорошо, Тома. Ты прямо оттуда?
– Прямиком, сударь.
– Сейчас тебя устроят на ночлег, идем.
– Благодарствую, но не надо, мне тут есть где… И лошадку пристроят. Так что я пойду тогда, доброй ночи…
Медленно, как старик, останавливаясь на каждой ступеньке, Робер поднялся к себе и сел на постель, глядя в раскрытое окошко, где в треугольнике прозрачной синевы между двумя соседними крышами уже зажглось несколько звезд. Как быть? Она предала его, теперь предает мужа… а впрочем, что он знает о ней, теперешней? Как можно судить, не зная? А он поклялся. «Ни камень, – сказал он, – ни железо не помешают мне прийти на твой зов. Что бы ни случилось, лишь бы я оказался нужен. Вот сейчас ты нужен. Но нужен ли? Или это просто прихоть, очередная блажь? Муж, наверное, уехал… он ведь много ездит, тогда вот был здесь в Париже, а сейчас мог уехать еще дальше…» Он пожалел, что не расспросил подробнее Тома. А впрочем, что он мог спросить – как, мол, живет госпожа со своим мужем? Но что делать? Что делать…
Утром он, осунувшийся и с покрасневшими от бессонной ночи глазами, сказал Жилю, что просит отпустить его на день-другой – съездить домой.
– Да, я слышал, вчера ночью тебя кто-то спрашивал на улице. Что-нибудь случилось?
– Да нет, дела там… – уклончиво отозвался Робер.
– Поезжай, ясно. Урбана возьми с собой, пусть выберет себе лошадь у меня на конюшне.
– Не нужен мне никакой Урбан, что вы!
– Не спорь, дороги сейчас небезопасные. Прямо сейчас отправитесь?
– Нет, попозже… Мне чтобы вечером там быть. После обеда тронемся.
– Понятно! – Жиль заговорщицки подмигнул и потрепал его по плечу. – Я ведь не зря посоветовал тебе не ехать без провожатого. С этими дамами, видишь ли, никогда не знаешь, как оно обернется; лишний клинок не помешает, а еще удобнее, когда есть приятель, который может и постеречь, и знак, в случае чего, подать…
– Да что вы такое говорите, – запротестовал Робер, чувствуя, что краснеет. – Я же вам сказал – у меня там дела!
– А я и не спорю! Только не спорь и ты, я тоже был молод, и у меня тоже случались дела, для которых надо было дождаться вечера…
Глава 22
Выехав из Парижа по большой королевской дороге на Руан, Робер благополучно миновал Понтуаз, где тоже пригодился пропуск, выписанный Пьером Жилем (понтуазцы еще держали сторону парижан против регента), и свернул вправо, на Шомон. Здесь дорога сделалась вдвое уже, в ширину не превышая пяти туазов, но была довольно безлюдной, так что можно было бы ехать быстрее, если бы не Урбан на своем перекормленном гнедом. Робер уже раскаивался, что связался с такой обузой. Глориан нес его легко, послушно переходя с рыси на галоп, с галопа обратно на шаг, и не обнаруживал никаких признаков усталости.
От Парижа до Моранвиля, через Понтуаз и Шомон, считалось около девяти лье. Выехали в полдень, значит, на месте будут задолго до полуночи – часа за три-четыре, как подсчитал Робер, в последнее время привыкший определять время по горологу. Разобраться в этом ему помог мэтр Пьер, сказавший, что колдовства там нет, а есть просто некая механика, составленная из большого количества зубчатых колес вроде тех, что передают вращение от мельничных крыльев или колеса к поставу с жерновами. От них-то и поворачивается стрелка горолога, но так медленно, что уследить ее движение глазом нельзя…
Робер представлял себе эти зацепленные одно за другое колеса, дивился хитроумию мудреца, который смог такое измыслить, и это помогало не думать о том, что ждет его там, дома. Ждать могло что угодно, но не было никакого смысла пытаться это предугадать. Пустив Глориана шагом, он прикрывал глаза и, расслабившись, отдыхал сам, даже задремывал по временам и нетерпеливо ждал, когда сможет опять перейти на рысь, а потом бросить коня в галоп и, стоя в стременах, снова под грохот копыт лететь сквозь этот солнечный и зеленый ветер – все дальше и дальше по ровной, как натянутый шнур, дороге.
В начале пути солнце грело ему левую щеку и тень бежала впереди справа, потом понемногу стала отставать, спряталась сзади, а солнце начало заглядывать в лицо, слепить глаза, все ниже и ниже клонясь над лесом. И всякий раз, когда Робер взглядывал на него, щурясь и прикидывая оставшуюся еще высоту, сердце у него замирало от невыразимого предчувствия.
Тени были уже длинными, когда всадники миновали каменный крест, где жизорскую дорогу пересекала другая, из Мерю в Маньи-ан-Вексен. Оставалась еще треть пути. Робер спрыгнул на землю размять ноги, прошелся взад-вперед, с наслаждением бросился на траву и закрыл глаза, отдаваясь тишине и покою благоуханного весеннего вечера. Урбан, кряхтя и жалуясь на судьбу, улегся было рядом, но Робер уже вскочил и стал нетерпеливо постукивать шпорой о его сапог:
– В седло, в седло! Живо, старина, спать будешь потом…
Помчались дальше. Уже в сумерках свернули у другого креста, взяв еще правее – прямо на Моранвиль; небо по правую руку загоралось первыми звездами, а слева еще стояла высокая розовая заря, обещая на завтра хорошую погоду.
Робер опять прикинул время: когда приедут, замковые ворота уже будут закрыты, но поднять шум – разбудить Симона, а что ему объяснить, зачем примчался? Придумать-то что-нибудь можно, но ведь надо сразу повидать Аэлис, а под каким предлогом уйти от Симона, что ему сказать? Нет, лучше войти через потерну. Если, конечно, ее еще не заложили. Потерна, прорезанная в подошве стены с северной стороны замка, выходила к самому рву, и Симон не раз говорил, что надо ее заложить на всякий случай или хотя бы навесить дверь покрепче, дубовую и окованную железом, и чтобы она всегда была на запоре, но сенешаль, которого не столько заботили военные соображения, сколько всякого рода хозяйственные дела, возражал, говоря, что служанкам из прачечной нужен выход ко рву, чтобы брать воду для грубой стирки, – не бегать же с ведрами через весь двор вокруг. Поэтому выход из потерны был снабжен обычной дверцей, которая с одинаковой легкостью открывалась как изнутри, так и снаружи; замковая челядь пользовалась ею для ночных вылазок в деревню, и ров в этом месте был даже завален камнями так, что его можно было перейти вброд, не замочив ноги выше щиколоток…
Месяц уже вставал над лесом, когда всадники поднялись на гребень последнего невысокого холма перед Моранвилем. Отсюда дорога уходила вниз, вдоль леса, левее белела квадратная звонница деревенской церкви, а еще дальше, на фоне светлого ночного неба, чернело нагромождение башен и стен самого замка. Там мерцало два-три огонька, а в деревне было темно, все давно спали.
Подъехав к самой околице, на опушке Робер придержал коня и сказал поравнявшемуся с ним Урбану:
– Сейчас проедем поближе, там я сойду, а ты вернешься сюда. Приметь место! Здесь и спи, лошадей расседлай, стреножь, пусть пасутся. Только сперва напоишь, когда остынут. Ручей вон там – слышишь?
Урбан прислушался, сказал, что слышит.
– Это рядом, там и спуск удобный – деревенские туда на водопой водят. Если меня до утра не будет, езжай потихоньку к замку, я выйду.
– А если кто спросит?
– Скажешь, что со мной. Приехали, мол, поздно, не хотели будить стражу, поэтому и заночевали в деревне…
На полпути Робер спешился, отдал повод Урбану.
– Ну, возвращайся. Будешь поить – смотри, чтобы хорошо остыли сначала.
– Да уж соображу. А вы что, так и пойдете, не поевши?
– Там поем. А впрочем, дай чего-нибудь.
Урбан развязал седельную сумку, протянул Роберу хлеб и кусок мяса. Тот стал есть на ходу, жадно, только сейчас почувствовав вдруг голод и усталость. Ломило спину, ноги одеревенели от непривычно долгой скачки. Хотя в Париже он и не упускал свободного дня, чтобы не выехать на Глориане куда-нибудь недалеко, все же такая возможность представлялась не часто, и от настоящей верховой езды он отвык. Завтра, наверное, мышцы будут болеть. А впрочем, какое «завтра»!
У моста он постоял, прислушался – было тихо, никто его не увидел и не окликнул – и пошел вдоль рва к тому месту, где был брод к потерне. Звонко орали лягушки, от воды пахло свежестью и тиной. Если дверь замуровали или ров расчистили, придется будить сторожа…
Брод оказался на месте; благополучно перебравшись через ров, Робер – почему-то на цыпочках – подошел к маленькой дверце, глубоко врезанной в нишу стены, и тронул щеколду… Дверь послушно открылась, он вошел – в конце сводчатого туннеля брезжил слабый свет, слюдяной фонарь с огарком свечи висел на крюке у двери в прачечную, тут же на охапке соломы храпел человек. Подойдя, Робер нагнулся и узнал арбалетчика, что приезжал вчера в Париж.
Поняв, что тот улегся здесь не случайно, он тронул его за плечо.
– А. это вы, – сказал Тома спросонья, ничуть не удивившись. – Я так и думал, что тут пойдете. Как добрались?
– Хорошо. Кто тебе велел тут ждать?
– Жаклин, кто же еще. Велела кликнуть, как приедете. Пойду скажу?
– Иди, я подожду здесь…
Жаклин прибежала скоро, всплеснула руками, увидев Робера, принялась восхищаться его видом: «Вы теперь истый парижанин, сударь, не то что здешняя деревенщина!» – и потащила за собой, приложив палец к губам.
– Ты ведь небось голодный? – спросила она, когда проходили мимо входа в поварню.
– Нет, я поел. Вот попить, если найдешь…
Они зашли. Жаклин стала шарить в темноте, пошепталась с кем-то и принесла Роберу жбан, он стал пить, проливая на грудь. Вкус вина – оно было слабое, прошлогоднего урожая – сразу напомнил ему трапезы в большом зале, на нижнем конце стола всегда подавали кларет из этой бочки. Сердце опять стало колотиться, он все еще не мог поверить, что снова здесь, дома, в Моранвиле…
Он был как во сне – или, напротив, сном было все то, оставленное там: Париж, дом на улице Сен-Дени, пропитанный запахами пряностей из лавки, вся та страшная зима, рев толпы в гулких дворцовых залах, брошенные в слякоть окровавленные трупы маршалов, – он так и не мог понять, во сне или наяву идет сейчас за Жаклин, та нетерпеливо тянула его за руку, вела куда-то по бесконечным переходам то вверх, то вниз, потом в лицо снова пахнуло свежестью, и открылось звездное небо, и свет месяца на темной зелени, а Жаклин исчезла в кустах и стала возиться там, негромко звякая железом.
– Иди же сюда! Эту-то дверь ты, конечно, помнишь? – спросила она со смешком и толкнула его внутрь. – Поднимайся, сейчас она придет…
Да, эту дверь он помнил, и вырубленную в стене лестницу тоже, но почему здесь, подумал он, и даже чего-то испугался на миг, продолжая подниматься привычным путем – первый поворот, второй, третий… «Я бы на ее месте просто не решился – здесь, на этом месте… А впрочем, может, так и надо, может, она понимает что-то, чего не понимаю я, наверное. Но как отважны бывают женщины, а еще говорят – „труслив, как женщина“… просто они боятся всякой ерунды – боли, лягушек, или мышей, или пауков… а настоящей отваги у них больше, я бы так не смог…»
Он вышел наверх, и площадка открылась ему, как в ту ночь, – пустая, слабо освещенная звездным светом, месяца здесь не было видно, его заслоняла громада донжона. «Все-таки я пришел, – подумал он (или в нем подумал кто-то другой), – простил все и пришел, и не только из-за той клятвы. Пришел, потому что ни на миг, даже когда запрещал себе думать о ней, вспоминать… даже когда сам верил, что ненавижу…»
Он недодумал этой мысли, потому что услышал шаги там, внизу, на лестнице, – легкие, торопливо бегущие, – и ему показалось, что он сейчас умрет, не в силах больше вынести этого бесконечного ожидания, растянувшегося на долгие месяцы – с той самой ночи. Бросился навстречу, но она уже была здесь – наяву, освещенная звездами, видимая, осязаемая, – он схватил ее на полпути, обнял, сразу ощутил ее всю под длинным темным плащом. «Любимый, о любимый, единственный мой, любимый, ты все-таки пришел, я знала, о моя любовь, спасибо тебе, любимый, любимый мой». – «Ты плачешь? Не надо, любимая, я ведь здесь, я никуда не уйду, не плачь, ты же видишь, я пришел, как и обещал, неужели ты могла подумать». – «Не обращай внимания, любимый, это от счастья, о Робер, Робер, Робер, я могу твердить без конца, как все это время, только уже не про себя, вслух, Робер, моя любовь…»
Она опустилась к его ногам, на колени, выскальзывая из его рук, из плаща, он тоже встал на колени, продолжая держать ее так же крепко, словно боялся уронить, упустить, опять потерять…
– Ты что, не оделась? – шепнул он. – Замерзнешь, тут свежо…
– Нет, что ты, я горю… Я ведь уже легла – хотела уснуть, даже собралась выпить макового отвару… Я ведь не ждала, что ты приедешь сегодня, думала – завтра… Но на всякий случай сказала Жаклин, чтобы стерегла, и она вдруг прибегает – я только вот плащ успела… О мой любимый, мое счастье, о моя любовь, спасибо тебе. Ты знаешь, в замке никого нет, Франсуа…
– Не надо о нем! – Он ладонью прикрыл ей рот, она отняла ее, стала осыпать поцелуями, продолжая горячечно шептать: —…отец тоже уехал, я могла бы тебя ждать у себя, о моя прекрасная любовь, Робер, но я хотела встретить тебя только здесь, на нашей башне, понимаешь, здесь, мой любимый… Я не могу без тебя, обними меня крепче, я ведь сейчас умру…
Отец Морель уже заканчивал мессу, когда увидел вошедшую в церковь Катрин, и сразу подумал, что в замке что-то случилось. Обычно девушка приходила к вечеру, если просто навестить или по другим делам, или уж к началу мессы, если хотела послушать ее здесь, а не в замковой капелле вместе со всеми. В столь неурочный час ее могло привести сюда только какое-то неожиданное событие.
После службы он подошел к ней, благословил и сразу спросил, что случилось.
– Робер приехал, – испуганно шепнула Катрин. – Мне стало страшно, отец, может, я и зря к вам прибежала, но…
– Робер? – Морель нахмурился, поджал губы. – Ты видела его?
– Нет, он пришел тайно, ночью, Жаклин проводила его через прачечную – ну, где выход ко рву, и зашла в кухню взять вина. А там спала Томаза – она спрашивает: «Что тебе», а Жаклин говорит: «Где тут у вас вино, господин Робер приехал, хочет пить»…
– Томазе это приснилось, наверное. С чего бы ему являться тайно, ночью? Он сперва ко мне бы зашел!
– Нет, отец, не приснилось, я сейчас бегала к вам, а навстречу едет от деревни солдат, огромный такой, страшный, верхом, а в поводу ведет того вороного, что прошлым летом госпожа подарила Роберу. И тот вороной заседлан, все честь честью, даже чепрак тот же, я узнала…
– Да что вы там, белены все опились? – рассердился Морель. – Одной дуре Робер ночью мерещится, другая видит, что его коня к замку ведут. Он что ж, по-твоему, по воздуху прилетел, а коня велел вести следом?
– Коня он ведь мог с тем солдатом где-то в лесочке оставить, чтобы ночью шума не подымать. А сейчас выйдет, сядет на него и приедет в замок, вроде как и не бывал там ночью…
Морель помолчал, нахмурился еще больше:
– Ладно, ступай! Никому ничего не говори, я приду в замок. Роберу, если увидишь, тоже не говори, что была у меня.
– Мне почему-то страшно, отец мой, – всхлипнула Катрин.
– Мне еще страшнее. Ступай! И утри глаза!
Ему действительно было очень страшно. Потому что именно этого он боялся уже давно, со дня исчезновения Робера. Слухам о какой-то ссоре, из-за которой Робер и уехал, он не верил. Все было куда серьезнее, не случайно брак Аэлис обернулся такой бедой. Как далеко зашли они тогда, отец Морель знать не мог, но то, что теперь, дорвавшись наконец друг до друга, они не остановятся ни перед чем, это он понимал хорошо.
Первым, кого он встретил, придя в замок, был Симон, радостно сообщивший ему о приезде гостя.
– Знаю, слыхал уже, – сухо ответил Морель. – Где он?
– Были с госпожой в саду. Робер такой ладный стал да красивый, госпожа на него прямо не налюбуется! Да и он на нее, – простодушно добавил старый солдат. – По правде сказать, отец Жан, ежели бы нашему парню родиться дворянином, то лучшей парочки не придумать. А то ведь с этим итальянским еретиком у девчонки что-то не получилось…
– Получилось то, что должно было получиться. А ты выкинь из головы неподобающие мысли, если не хочешь, чтобы я тебя посадил на покаяние до самого Рождества. Так они, говоришь, в саду?
По пути ему встретилась Жаклин, испуганно залопотала, что госпожу видеть нельзя, она велела, то есть просила, не беспокоить, она себя плохо чувствует… Морель, не останавливаясь, заверил, что сейчас госпоже станет куда лучше, и направился к дверце в садовой ограде. Жаклин еще попыталась удержать его, отчаянно вскрикнув, что туда нельзя, но он молча оттолкнул ее в сторону.
Они сидели на траве и, похоже, едва успели разомкнуть объятия. Робер увидел его первым и вскочил, глядя ошалелыми глазами; Аэлис, не оборачиваясь, шаловливо протянула руки призывным жестом.
– Мир вам! – громко сказал Морель, подходя ближе.
Теперь оглянулась и она, но осталась сидеть, опершись на руки у себя за спиной и глядя на него – даже не с вызовом, а с выражением такого безразличия ко всему вокруг, такой погруженности в свое греховное счастье, что отец Морель невольно перекрестился и перевел взгляд на Робера.
– Когда ты приехал? – спросил он.
– Сегодня… то есть ночью еще, – ответил тот, медленно заливаясь краской.
– И где спал? Твоего коня утром привели из деревни – почему ты оставил его там, а сюда пришел пешком?
– Я… было поздно, не хотел будить сторожа – я вошел через потерну, а спал на конюшне, в сене…
– Надеюсь, хорошо выспался! Пойдешь сейчас со мной, там господин Ашар приготовил кое-что для моих бедных, поможешь донести.
– Зачем же! – воскликнула Аэлис. – Я велю, вам все отнесут!
– Мне нужен Робер. А ты была сегодня у мессы?
– У мессы? – Она туманно улыбнулась. – У нас нынче не служили, отец ведь забрал с собой капеллана…
– Могла бы и ко мне приехать. Пойдем, я тебя исповедую.
Аэлис широко раскрыла глаза, пожала плечами:
– Но, отец Жан… ведь мой духовник – отец Эсташ, я обычно…
– А исповедоваться можно не только у духовника. Так ты не хочешь?
Она медленно покачала головой и одарила его улыбкой столь пленительной, что у отца Мореля потемнело в глазах и явственно почуялось, как в этом благоуханном весеннем саду потянуло сернистым духом из преисподней.
– Vade retro, Satan! [80]– крикнул он, замахнувшись посохом, и пошел к выходу, поманив за собой Робера.
Всю дорогу до деревни они молчали. Морель шагал быстро, взметая пыль обтрепанным подолом сутаны, Робер плелся следом. Несколько раз пытался заговорить то о местных делах, то о парижских, но Морель разговора не поддержал, и он молча тащил корзину, со страхом думая о предстоящем. Когда пришли, Морель отпер церковную дверь, велел идти в исповедальню и ждать там.
– …но ты хоть понимаешь, что вы наделали? – спросил он, услышав подтверждение тому, что уже и так знал. – Понимал и вчера, надо думать. И все-таки пошел на это, взял на душу такой грех! Ну ладно, твоя. А о её душе ты подумал?
– Нет, – честно сознался Робер. – Не до того было, по правде сказать.
– А зря! Потому что ее грех тяжелее, она изменила мужу. О муже ты тоже не подумал?
– О муже я думал раньше… Мне даже жалко его было, я его видел раз… в Париже, в соборе Богоматери. Он там молился. Я увидел его лицо, и мне стало его жалко, потому что я понял, что он несчастен. Но, отец мой, она ведь все равно его не любит! Так какая разница…
– Какая разница, хочешь ты сказать, верна ли она своей клятве или нарушила ее? Разница та, что клятвопреступников ждет геенна, вот какая разница!
– Да мало ли кто нарушает клятвы… Вон, в Париже говорили – и король Наваррский, и сам дофин, они тоже столько раз…
– Опомнись, безумец, при чем здесь твои дофины и короли? Я говорю о женщине, которую ты, как только что сказал, любишь!
– Но ведь я тоже согрешил?
– Еще бы ты не согрешил! Ты нарушил заповедь Господа нашего – «Не пожелай жены ближнего твоего…»
– Ну, какой он мне «ближний». И если уж на то пошло, он отнял Аэлис у меня, а не я у него. Но раз я тоже согрешил, выходит, меня тоже ждет геенна?
– Можешь не сомневаться, – пообещал отец Морель. – Можешь не сомневаться!
– Ну, если вместе, тогда не страшно.
– Безумец, безумец… Она что, и впрямь околдовала тебя? Опомнись, Робер, ну что с тобой творится, как мне проникнуть в твое окаменелое сердце?
– Да вовсе оно не окаменело, с чего вы взяли… Я вот сегодня вас увидел, и мне так хорошо стало… и стыдно, правда. Я ведь знал, что ругать станете.
– Робер, сынок, уезжай отсюда!
– Уеду, ясно, я ведь отпросился всего на пару дней.
– Уезжай сегодня, тебя затягивает трясина, еще шаг – и вам уже не спастись, ни тебе, ни ей… О ней подумай, если не думаешь о себе!
– Вот о ней-то я и думаю. Как же мне уехать сегодня? Ведь она помрет, если я ей скажу такое, да у меня скорее язык отсохнет! Нет, уехать мне сейчас невозможно. Завтра, может быть.
– Хорошо, завтра. Даешь слово?
– Лучше я не буду давать слово, мало ли как там обернется. Но обещаю, что попытаюсь уехать завтра, ну или чуть позже. Как же я могу не уехать? В Париж-то вернуться надо!
– Вот и возвращайся! И обещай не встречаться больше с Аэлис – потом, я хочу сказать.
– Ну, опять же, как такое обещать… А если случайно встретимся?
– Случайно – дело другое, – терпеливо разъяснил Морель. – Обещай, что не будешь искать с ней встреч; не губи ее окончательно, ты ведь должен пожалеть ее, если любишь.
– Хорошо, я… постараюсь не искать встреч.
– И чтобы она не искала!
– А вот за нее поручиться не могу. Вы же знаете, отец мой, какая она… если чего захочет. Только нынче зря вы ее сатаной обозвали, она ведь не со зла.
– Я не ее personaliter [81]обозвал сатаной, я просто узрел духа зла за всем тем, что случилось, а она, несомненно, сейчас в его власти. И чем скорее опомнится, чем скорее очистится раскаянием, тем лучше для нее же. Пойми, сынок, нет греха, которого не смывает чистосердечное раскаяние. Без следа смывает, каким бы черным он ни был!
– Так мы раскаемся, – повеселевшим голосом заверил Робер. – Может, не сразу, но после – обязательно! А сейчас я не могу еще, вы уж не гневайтесь, да и она тоже не захочет…
Когда он вернулся в замок, Аэлис рассеянно спросила, сильно ли ругал его отец Морель, и сказала, что не беда, ее тоже будет ругать, ну и что? Робер сказал, что кюре требует его отъезда.
– Вот еще вздор! – изумилась Аэлис. – Не зря его зовут «безумным попом». Надеюсь, ты сказал, что никуда не собираешься уезжать?
– Но мне действительно придется уехать.
– Куда и зачем?
В Париж, моя любовь, меня ведь ненадолго отпустили.
– А я тебя вообще не отпускаю. Ты кого любишь, меня или своего бакалейщика?
– Аэлис, ну при чем тут это, как ты не понимаешь…
– При том, при том! Как ты только мог сказать такое: «придется уехать»! Ты хочешь, чтобы я умерла?
– Бог не допустит этого, моя любовь.
– Еще как допустит!
Аэлис разрыдалась, он принялся ее утешать. В конце концов пришли к согласию, что он пробудет здесь еще два дня, уедет на третий, утром, а потом она приедет в Париж; вспомнив о своем письме к мужу, которое послала с Беппо, Аэлис решила воспользоваться своей же выдумкой и в самом деле навестить кузину де Траси.
– Остановлюсь у нее, – сказала она, – а там придумаем что-нибудь. Жаклин уверяет, что в Париже есть дома, где дамы могут встречаться со своими кавалерами. Ты слыхал про такое?
Робер сознался, что слыхать про такое ему не доводилось.
– Непотребные дома есть, – сказал он, – я жил напротив. Но ведь это, наверное, не то?
– Думаю, что нет. Ладно, что-нибудь придумаем, – повторила она решительным тоном.
Остаток дня прошел как во сне, а следующие дни – тем более, потому что уже третью ночь они почти не смыкали глаз, лишь ненадолго забываясь в дремоте, и тут же снова просыпались, разбуженные своим счастьем. Позже Робер совершенно не мог вспомнить, что было в эти три дня, запомнился ему лишь разговор с отцом Морелем в то первое утро, после исповеди, а дальше запомнились лишь те короткие часы, что им удавалось побыть с Аэлис вдвоем. Это было не так просто. Симон не отпускал его, расспрашивал о парижской жизни, о службе, давал советы касательно обучения отряда, и ведь от него нельзя было отделаться, это было бы попросту опасно. Их спасала непостижимая наивность старого вояки, но, если бы Симон что-то заподозрил, он, пожалуй, мог бы убить Робера на месте, потому что в его глазах тот стал бы не просто прелюбодеем, соблазнившим чужую жену, но и – что куда хуже – предателем, обесчестившим дочь сюзерена.
На четвертую ночь они все-таки немного поспали – уже под утро. С вечера Робер велел Урбану быть готовым к выезду на рассвете. Он проснулся первым, когда уже светало, встал, осторожно высвободил руку из-под головы спящей Аэлис и раскрыл окно, впустив в комнату зябкую рассветную свежесть и гомон просыпающихся в саду птиц. Прислушавшись, Робер уловил протяжный скрип раскрываемых ворот и чуть погодя гулкий перестук подков под въездной аркой.
Что там? – сонным голосом спросила Аэлис.
– Похоже, кто-то приехал.
– А-а-а… Иди ко мне… Ты прямо сейчас и уезжаешь? – спросила она потом, когда он уже заканчивал одеваться. – Ну хоть позавтракаем!







