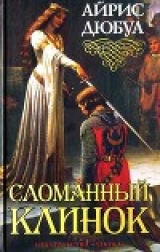
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
– Ты что?.. – спросил он охрипшим вдруг голосом. – Почему молчишь?
Она упрямо молчала, и глаза ее, которые только что смотрели на него с таким испепеляющим презрением, ускользали теперь куда-то в сторону. Кровь снова бросилась Тестару в голову; неужели и в самом деле она, его кузина, урожденная Пикиньи, с каким-нибудь мужиком…
– Почему прячешь глаза? – спросил он почти испуганно. – Скажи, что это не так!
Быстро оглядевшись, он увидел на стене распятие, сорвал его и, подойдя к Аэлис вплотную, грубо схватил ее за плечо, поворачивая к себе лицом.
– Клянись на этом! – крикнул он, сунув распятие к ее губам. – Клянись, что не наставила своему мужу рога с каким-нибудь холопом!
– Вот пусть муж и спросит! – вырвалось у Аэлис. – Почему я должна давать эту клятву тебе?
Тестар отшвырнул распятие.
– Ах вот оно что! – прошипел он. – Значит, и в самом деле. Ах же ты распутная дрянь, ах подлая! Да тебя… тебя голую надо бы протащить по улицам, стегая плетьми! Чем они тебе заплатили, мужицкая шлюха?!
Взявшись за ворот ее платья, он рванул его книзу, разодрав до пояса; Аэлис, с трясущимися губами на побелевшем лице, стала отступать, правой рукой пытаясь собрать на груди края разорванной ткани, чтобы скрыть наготу, а левой нашаривая опору у себя за спиной, пока не ухватилась за резной столбик надкроватного балдахина.
– Видит бог, – тем же шипящим от ярости голосом продолжал Тестар, – я бы уехал, не тронув тебя пальцем… Но коль скоро ты сама, по своей воле, превратила этот дом в непотребный вертеп… – Он задохнулся и стал дергать завязки своего кожаного камзола, словно ему не хватало воздуха. – Тогда почему и мне не повести себя как в вертепе?! Конюхам я тебя не отдам – им хватит и твоих девок, но уж от меня, высокородная дама Аэлис, ты на этот раз легко не отделаешься!
Глава 27
Урбан провел этот день в лесу. Накануне в деревню заходил человек, который сказал, что парижский отряд идет к Жизору и должен быть там не сегодня завтра; Урбан решил побывать в Жизоре и спросить у Робера, как быть дальше – то ли ждать, пока к госпоже вернется рассудок, то ли оставаться с отрядом. А пока надо было еще разок сходить за хворостом, да притащить побольше, чтобы отцу Морелю хватило надолго.
Вернувшись вечером с огромной вязанкой на спине, он застал в деревне смятение. Какие-то люди, сказали ему, еще засветло проехали в замок, и там творится неладное – слышны были истошные крики, а потом прислали за кюре и велели идти туда.
Услышанное Урбану не понравилось. Свалив хворост у дома, он отправился к замку, чтобы попытаться самому выяснить, что же там произошло: что за люди приехали и почему были крики. Уже почти стемнело; не пройдя и половины пути, он остановился и прислушался, всматриваясь в сумерки: кто-то, похоже, бежал навстречу, задыхаясь и всхлипывая, бежал легко – ребенок или девушка. Когда бегущий приблизился, Урбан вышел на середину дороги. Женщина пронзительно вскрикнула и метнулась в кусты, но теперь он ее узнал – это была Катрин.
– Не бойся, это я – Урбан, – позвал он. – Что с тобой?
Катрин свалилась в траву на обочине и стала рыдать взахлеб. Урбан, присев рядом, долго не мог ничего понять. Но даже потом, уяснив наконец из ее бессвязного рассказа, что случилось, он не сразу поверил.
– Так ты говоришь, это родич твоих господ? – переспрашивал он. – Что-то я не пойму… А Симона точно убили?
– Да убили же, я говорю! Сама видела, он лежит там, и всех стражников перебили, – может, только кто успел где схорониться. «А госпожу, – он кричал, – надо отдать конюхам на забаву…»
Выглядело все это непонятно, но не могла же Катрин такое придумать, да и перепугана она взаправду…
– Ладно, пойду посмотрю, – сказал он, – а ты ступай к попу, жди там.
– Куда ты пойдешь? – Катрин схватила его за руку. – Мост они подняли, да и что ты сделаешь один, пропадешь там – их ведь знаешь сколько! А Роберу кто весть пошлет?
– Это верно, весть послать надо. А ты как из замка выбралась?
– Там дверца есть через прачечную, выходит в кусты над самым рвом, ров в том месте совсем мелкий – слуги знают, они часто так на деревню ходят, а больше никто. Нет, ты туда и не думай…
– Ладно, подумаем, что делать. Погоди-ка…
Он опять прислушался – от замка слышался приближающийся топот копыт. Спрятавшись в кусты, они пропустили всадника, галопом проскакавшего в деревню, потом пошли следом. Когда подходили к дому кюре, еще издали различили в сумерках коня, привязанного у ворот; в окошке, сквозь щели ставни, мелькал свет.
– Стой здесь, – велел Урбан.
Подойдя к коню, он ощупал седло, проверил стремена, подпругу, успокаивающе похлопал животное по холке, потом крадучись вошел в дом. В комнате пахло незнакомым человеком, и человек этот, держа над головой факел, стоял на коленях перед раскрытым сундуком, выбрасывая оттуда убогие пожитки отца Мореля.
– Чем занят, приятель? – спросил Урбан.
Человек обернулся, глянул равнодушно.
– Поджечь велено, так я вот думаю, может, что найдется ценного. Поверишь, даже оловянной чашки ни одной…
– Ложи все обратно.
– Ты чего, парень? Ему это больше не понадобится, ха-ха…
Кулак молотом рухнул на затылок грабителя, вбив смех ему в глотку. Урбан подхватил падающий факел, сунул в кадку с водой, за ногу выволок обмякшее тело из дома и перекинул через седло.
– Ты убил его? – испуганно шепнула подошедшая из темноты Катрин.
– Еще нет… Принеси-ка веревку, там, на хворосте…
Катрин принесла веревку, он крест-накрест привязал руки и ноги оглушенного к стременам и взял коня под уздцы.
– Поеду искать господина Робера, – сказал он. – А ты иди к кузнецу, спрячься там. Сюда не приходи, слышишь?
– А что, отец Морель…
– Его пока не будет. Ну, ступай! Дорога на Жизор – та, что через лес?
– Да, все прямо и прямо… Прощай, Урбан, храни тебя Бог, и поторопись!
– Потороплюсь…
Отойдя от деревни подальше, Урбан привязал повод к дереву, ощупал своего пленника и, расстегнув на нем пряжку, снял пояс с большим тяжелым ножом. Потом развязал веревку и сдернул пленника с седла; свалившись на землю, тот попытался подняться, стал что-то бормотать. Урбан за шиворот сволок его в кусты и, оттянув кверху щетинистый подбородок, перерезал горло от уха до уха. Перекрестился, сел на коня и с места бросил его в галоп.
Робер так и не понял толком, что в тот вечер заставило его покинуть жизорский лагерь. Он в последнее время был спокоен за Аэлис. Защитой замка командовал Симон, в округе было относительно спокойно, да и едва ли Моранвилю грозило вторичное нашествие жаков – разве что забрели бы какие-то из «чужих». Так что опасаться было нечего.
Но в тот день, с утра, он стал ощущать необъяснимую тревогу – беспричинную, казалось бы, но совершенно определенную. И тревога была за Аэлис. Как ни пытался Робер себя успокоить, неясное ощущение беды не проходило. Напротив, оно становилось все более отчетливым.
Может быть, убеждал он себя, это вовсе и не касается Аэлис, а все дело в усталости, в разочаровании общим ходом дел: поход оказывался все более бессмысленным, принять участие в боях парижским ополченцам так пока и не довелось – были бестолковые передвижения с места на место, случайные стычки с небольшими дворянскими отрядами, воровство, мародерство. И еще – несогласованность действий, нескончаемые переговоры, обмен гонцами, долгие ожидания. Вот хотя бы сейчас: договорились ведь, что под Жизором соединятся с ополченцами из Понтуаза и вместе пойдут на Руан, а когда пришли, понтуазцев не оказалось. Разбили лагерь, послали гонца – тот вернулся с вестью, что выступление отряда готовится, но магистрат медлит с выдачей провианта; так что и здесь придется ждать…
После обеда Робер прилег отдохнуть и незаметно уснул, а проснулся внезапно, словно разбуженный толчком, – опять от того же чувства тревоги, которое было теперь таким острым и определенным, как если бы он услышал зов о помощи. Раскрыв глаза, он даже привстал на локте и прислушался, но ничего тревожного не услышал, за багряно просвеченной заходящим солнцем стенкой палатки лагерь шумел привычно и успокаивающе: рядом негромко разговаривали, вдалеке пели, где-то заржала лошадь, от походной кузницы звонко доносились удары по металлу. Робер вышел наружу, постоял, щурясь на закат, и решительно направился к шатру Колена де Три.
Капитан сидел за жбаном вина, мрачно обсасывая мокрый ус. Услышав, что Робер хотел бы отлучиться до завтрашнего полудня, он махнул рукой:
– По мне, хоть до следующей Пасхи! Слушай, что я тебе скажу, друг Робер. Ты молод, но ты настоящий солдат, поэтому меня поймешь. Никогда, ни за какие посулы не нанимайся командовать этим городским сбродом, лавочниками да портняжками. Разве это война, пуп Господень! Сколько людей берешь с собой?
– Да никого мне не надо. – Робер пожал плечами. – Ну, может, одного-двух – на всякий случай.
– Бери десяток! Все равно им здесь, лодырям, делать пока нечего. Бери десяток, и по пути – если Бог захочет – загляните в Шомон, проведайте тамошнюю мать аббатису. – Колен де Три захохотал жирным смехом. – Монашки, и не только молоденькие, обожают такие посещения, побей меня гром! Визгу будет много, но это так, приличия ради. Помню, ходили мы с Черным принцем разорять Гиень…
Когда стемнело, Робер уже мчался по дороге. Глориан легко нес его своей широкой, размашистой рысью, позади в слитном гуле копыт следовали другие. По совету капитана он все-таки взял с собой одиннадцать человек из тех, кого сам обучил в Париже; может, предчувствие это и впрямь сулит какую-то опасность. Пытаясь заглушить голос тревоги, Робер убеждал себя, что снарядил такой солидный отряд просто из тщеславия – чтобы показать Симону, что и сам теперь командует воинскими людьми…
Около полуночи – уже луна встала, и пропели петухи, а справа низко над лесом повисла звезда Аль-Таир, [84]по которой отец Морель учил его когда-то определять время, – он распорядился сделать короткий привал, чтобы дать отдых коням. Троих выслал вперед дозором. Растянувшись на влажной от росы траве, он смотрел, как летит в легких разорванных облачках тонкий серп месяца, и ждал, пока он достигнет вершины дуба. Даже сейчас, когда он знал, что скоро – утром – увидит Аэлис, тоска и тревога не оставляли его. Он попытался заглушить их воспоминаниями о последней встрече, но странно – именно о ней вспоминалось сейчас как-то… он сам не умел бы определить это ощущение – нет, не стыд, не раскаяние, этого не было – в чем раскаиваться, чего стыдиться? – но память словно избегала задерживаться на том, что еще недавно вспоминалось как минуты неземного счастья. И он вспоминал другие свидания, раньше, намного раньше – в пронизанном солнцем саду или на раскаленной полуденным зноем верхней площадке Фредегонды, – когда все еще было впереди, только предчувствовалось, предугадывалось…
Месяц запутался наконец в верхушке дуба, и он вскочил на ноги, скомандовал: «В седло!»; ему подвели Глориана, конь пофыркивал, скреб землю передней подковой, словно тоже торопил в путь. Не успели тронуться, как впереди завиднелись возвращающиеся дозорные – один поскакал навстречу, но там – это уже было отчетливо видно на белеющей в лунном свете дороге – все еще оставалось трое. У Робера перехватило дыхание, когда он узнал в осадившем перед ним всаднике Урбана.
– Беда, господин! – крикнул тот. – Слава Пречистой Деве, это Она подсказала вам тронуться в путь; я уж боялся не успеть…
– Что случилось?!
– Тестар де Пикиньи изменой взял замок, господин Симон и вся охрана перебиты! Насчет госпожи толком не скажу.
– А ты? – Робер надвинулся на него, толкнул конем. – Ты жив?! Ты, которого я оставил ее стеречь!
– Меня там не было, госпожа сама прогнала меня из замка… еще раньше. Кабы не эта ее причуда, злую весть принес бы тебе другой.
– Прогнала? Почему?
– Богом клянусь, не ведаю! По моему разумению, в нее бесы вселились, но отец Морель мне об этом рассуждать не велел…
– Тогда и не рассуждай, а рассказывай, что знаешь!!
Урбан рассказывал, и сердце Робера каменело, наливаясь смертным холодом. Ведь чуял – с утра было не по себе, – что стоило выехать сразу, не успокаивая себя дурацкими утешениями! Может, и успел бы, а будь он в замке – Тестара бы и к воротам не подпустили, уж он-то знал, что было между Аэлис и ее кузеном…
– Катрин, говоришь, вышла из замка через ту дверцу, что в прачечной? – спросил он, когда Урбан кончил свой рассказ. – Тогда надо успеть до света, иначе придется ждать следующей ночи.
– Поспеем, господин, если кони выдержат, – заверил Урбан.
Кони выдержали, и они успели – едва-едва. В деревню въехали перед рассветом, в самый глухой час ночи – «между волком и собакой», как говорят в этих местах. Коней оставили у кузнеца, дальше пошли пешком, подъезжать к самому замку верхом было опасно. На их счастье, к этому времени нашли тучи, стало темнее, а у самого рва еще и туманом слегка подзатянуло, так что перебраться к стене удалось незамеченными; впрочем, сверху не доносилось ни звука – ни шагов, ни голоса. Возможно, на стене вообще не было стражи. Кузнец сказал им, когда принимал коней, что около полуночи сам ходил к замку и слышал, как там горланили, – видно, попойка еще продолжалась. Служанки помоложе, кто успел, за ночь сбежали тем же путем, что и Катрин.
Когда все перешли ров и собрались под стеной, Робер толкнул дверцу и первым шагнул во мрак, пахнущий погребной сыростью. Высекли огонь, зажгли заранее приготовленные факелы – здесь уже таиться было нечего.
– Я тут все знаю, – сказал Робер, – идите следом. Как только выйдем, ты, Урбан, бери с собой пятерых и – в караульное помещение у ворот. Остальные со мной. Убивать каждого, кто с оружием! Идемте…
Обширный замковый двор был уже залит бледными сумерками рассвета. Взбегая по ступеням парадного крыльца, Робер услышал позади, в воротах, истошный короткий вскрик. Дверь оказалась не заперта – распахнув ее ударом ноги, он едва не столкнулся со стариком-выжлятником, [85]тот от испуга уронил ведро костей, собранных после ночного пиршества. Робер зажал старику рот:
– Тише! Это я – не узнал, что ли. Где госпожа?
– Там, там!! – забормотал псарь, тыча дрожащим пальцем вверх. – Только ведь и они все там – наших-то всех побили, и господина Симона, и господина кюре…
– Отца Мореля?!
– Повесили, сынок, там в саду и повесили, под окнами у госпожи, – с вечера висит…
Робер отшвырнул старика, бросился к лестнице, где опередившие его солдаты схватились уже с людьми Тестара. Тех было человек шесть, но они не успели ни протрезветь, ни сообразить, что происходит, и их перебили без труда; один, правда, умер не сразу и так выл, ползая по полу с распоротым животом, что перебудил остальных. В большом зале бой пошел уже по-настоящему.
Здесь еще догорали по стенам факелы, было чадно, пахло вином и блевотиной. Роберу не раз приходилось уже принимать участие в схватках, но никогда еще не дрался он с такой бешеной яростью, испытывая от убийства дикое, темное наслаждение. Настигнув у камина, он наотмашь, сплеча рубанул какого-то кривоносого, но тот ловко увернулся – лишь для того, чтобы тут же опрокинуться навзничь с торчащей из груди жавелиной, [86]—а клинок Робера разлетелся пополам от удара о край гранитной плиты. Он подобрал брошенный кем-то топор и, задыхаясь, огляделся, отыскивая взглядом Тестара.
И тот действительно появился среди дерущихся – выскочил из боковой двери, свирепый, как вепрь, весь в отца. Робер окликнул его, он оглянулся и пошел тяжело и косолапо, отставив локти и покачивая в правой руке меч, словно пробовал его вес. К этому времени в зал уже ворвался со своими людьми Урбан, и наемники Тестара отступали в угол, затравленно отбиваясь.
Тестар и сам понимал, что дело плохо, но бежать было некуда, а на пощаду рассчитывать не приходилось. Увидев Робера, он свирепо оскалился:
– А-а-а, мессир холоп! Добро пожаловать в Моранвиль! Это уж не вас ли дарила своей благосклонностью моя целомудренная кузина? Дьявольщина, как это я раньше не догадался! Ну ничего, мы теперь, можно сказать, породнились, ха-ха-ха… Защищайся, хамово отродье!
– Подлый ублюдок! – Робер, тоже нагнувшись и обеими руками сжимая перед собой трехфутовую рукоять тяжелого боевого топора, стал медленно обходить противника посолонь. [87]– Когда встретишь в аду своего отца, спроси, с какой шлюхой он тебя прижил…
Тестар прыгнул, со свистом разрубив воздух рядом с Робером, тот отскочил, погрозил топором. Противники продолжали кружить один вокруг другого.
– …и почему взял в замок, а не оставил в сточной канаве, где тебе самое место! Сними шпоры, трусливый пес, пока их тебе не обрубили на эшафоте!
– Сначала я обрублю ноги тебе, вонючий виллан!!
– Руби! – поощрил Робер. – Ну?.. Чего ждешь, мокрица? Привык воевать с женщинами да священниками?
– Да, уж с дамой Аэлис я в эту ночь навоевался всласть! Жаль, ты сейчас издохнешь, не успев у нее спросить, осталась ли она довольна!
– Сам издохни, шелудивый предатель!!
Они прыгнули одновременно, и меч Тестара со звоном отлетел в сторону, выбитый из рук страшным ударом, которому Робера научил когда-то Симон, – в корень клинка, у самой гарды. [88]Не дав Тестару опомниться, Робер снова занес топор и с резким выдохом, как колют полено, разрубил ему череп до самого подбородка.
…Он шел по коридору, пошатываясь, время от времени опираясь рукой о стену. Жаклин, растрепанная и зареванная, в изорванном платье, тащила его, хватала за руки. «Она здесь, здесь, – твердила она, – я ее спрятала, бедняжку, она еще не в себе…» Потом он увидел Аэлис в полутемной каморке, пахнущей сыростью и мышами, она сидела на полу, забившись в угол, завернутая в какое-то рядно. При виде Робера глаза ее расширились от ужаса, она стала трястись, затыкая руками рот.
– Любимая моя… – Он опустился около нее на колени, осторожно прикоснулся к руке. – Не бойся, я его убил…
Она закивала, глядя на него с тем же ужасом. Снова появилась Жаклин, всхлипывая и громко шмыгая носом, стала тряпкой стирать что-то с его груди; он оттолкнул ее, снял кожаную безрукавку и бросил Жаклин: «Ступай вымой!»
– Ты узнаешь меня, любимая? – снова обратился он к Аэлис.
– Только не трогай меня, – выговорила она с трудом, едва слышно. – Ради всего святого, не надо… Бог вознаградит тебя, я до конца жизни буду Его об этом молить, но сама я… я не могу больше!
Она стала клониться и упала, как тряпичная кукла, лежала на полу, обхватив голову руками.
– Я не могу больше жить – среди этих зверей, в этом аду! – выкрикнула она глухо. – Если у тебя сохранилась хоть капля – не любви, Бог свидетель, – а простой жалости! – убей меня на месте, я не хочу больше жить!!
– Успокойся, – сказал Робер. – Я… я все сделаю.
Он вышел, состарившись на десяток лет. В зале его встретил Урбан.
– С победой, мессир, – сказал он, поклонившись. – Ты нашел госпожу?
– Да. Друг, ты пока останешься здесь управителем, или… нет, пусть Гитар остается.
– По мне, так лучше он, как же я без вас?
– Хорошо. Ты уже позаботился о… наших?
– Тела господина Симона и господина кюре уже обмывают.
– Потом отнесите их в часовню. А сейчас собери слуг и узнай, где Бертье. Он мне нужен. Да, вот еще что – пошлешь потом в Монбазон, чтобы приехали забрать Тестара. Здесь пусть все вымоют, и скажи Жаклин, чтобы одела госпожу. Но сперва – Бертье! Я буду в скриптории.
Рыжего легаста привели довольно скоро, – видимо, он сам выбрался из своего укрытия, услышав, что власть в замке сменилась, и даже успел наспех переодеться.
– Робер, мальчик мой! – закричал он, простирая руки. – Я всегда говорил, что ты станешь великим воителем!
– Рад видеть вас живым, мессир легист. – Робер подозрительно принюхался. – В какой это выгребной яме вы прятались?
– Где уж было выбирать! Когда эти нечестивые и звероподобные филистимляне, [89]сея вокруг себя ужас и смерть modo ferarum… [90]
– Я понимаю, – прервал Робер. – Грамоте от страха не разучились? Тогда садитесь и пишите.
Филипп робко уселся за пюпитр, прошуршал, как мышь, листами пергамена, выбирая подходящий.
– Такого хватит? – спросил он, показывая лист Роберу.
– Это уж вам виднее. Будете писать матери аббатисе, в Шомон, дабы заранее было все приготовлено к прибытию высокородной госпожи Аэлис, ну, как там сказать – изъявившей желание укрыться в аббатстве. До возвращения ее супруга.
Бертье понимающе покивал, задумался.
– Но ведь супруг… – начал он осторожно.
– Супруга отыщете вы. Сегодня же отправляйтесь в Понтуаз и найдите там банкирскую контору. В Понтуазе есть контора?
– Надо полагать…
– Если нет там – узнайте, где есть. Банкирам скажете, что надо немедля известить господина Донати, что на замок было нападение и госпожа укрылась в Шомоне. Мне говорили, банкиры все друг друга знают, а связь у них не хуже королевской почты.
– Это так, – подтвердил Бертье. – Когда госпожа выезжает?
– Как только сможет. Грамоту напишите немедля, я отправлю с гонцом…
В зале было уже убрано, служанки домывали полы горячим щелоком, в распахнутые высокие окна вливалась свежесть дождливого утра, и ничто не напоминало о недавней бойне.
По дороге в часовню к Роберу подошел Урбан.
– Не знаю, господин, как ты захочешь, – сказал он неуверенно, – но тело господина де Пикиньи я пока велел отнести на ледник… Подумал, что, может, не надо им вместе…
– Правильно сделал. Пусть его отпевают в Монбазоне. Послушай, вот еще что – вели узнать, есть ли в замке конные носилки; если нет, пошли в деревню за плотником и кузнецом. Госпожа отсюда уезжает, а верхом ей не доехать.
…Они лежали рядом на наспех сколоченном широком помосте, застланном черным сукном: Симон, большой и грузный, с застывшим на восковом лице выражением сурового гнева, с мечом, рукоять которого была подсунута под сложенные на груди руки, – точь-в-точь надгробное изваяние крестоносца, – и маленький, щуплый отец Морель в чистой холщовой рясе, с кипарисовым крестиком в руках. Рясу и крестик принесла утром Катрин, достав из разворошенного вчерашним грабителем сундучка. Лицо священника было спокойным; Робер перекрестился, с благодарностью подумав, что, наверное, Бог послал ему смерть легкую и мгновенную, – возможно, когда его тащили к петле…
Два самых близких ему человека, кроме Аэлис, и он потерял всех троих разом. Как он им сейчас завидовал, этим двоим, чьи тела лежали в тишине и покое, под колеблемыми сквозняком огоньками высоких погребальных свечей. Может, было бы лучше, если бы Тестар убил и его; Аэлис все равно не осталась бы в его власти, от Урбана и его людей ему, так или иначе, было не уйти. А им уже не быть вместе, никогда – это Робер понял сразу, поэтому и не стал ни уговаривать, ни утешать. Наверное, это действительно был великий грех то, что они сделали; недаром отец Морель столько раз говорил ему: «Забудь о ней, забудь, не смей даже в помыслах…»
Теперь жить не для кого. Раньше, что бы он ни сделал, ему всегда думалось – вот за это меня похвалил бы Симон, это понравится отцу Морелю, про это я буду рассказывать Аэлис. А теперь? Он с трудом проглотил сдавивший горло комок, еще раз преклонил колени и, встав, пошел к выходу, не оглядываясь.
У дверей часовни ему послышалось, как кто-то тихо плачет. Он всмотрелся в полумрак: у каменного столба стояла на коленях Катрин, опустив лицо в ладони.
– Не плачь, глупая, – сказал он и, сделав шаг в ее сторону, коснулся ее волос. – По ним плакать не надо, им теперь хорошо…
Глава 28
Когда Робер, оставив Аэлис в Шомонском аббатстве, вернулся в лагерь под Жизором, там уже был получен приказ идти на соединение с главными силами Гийома Каля. Судя по тому, что Колен де Три узнал от гонца, предстояло решительное сражение: отряды жаков и дворянское войско Карла Наваррского с разных сторон стягивались к плоскогорью Монтатер.
– Уноси-ка ты, парень, ноги, – сказал Роберу мессир Колен, – дело все равно пропащее. Наварра вручил командование Жану де Пикиньи, а тот поклялся отомстить за гибель братьев. И уж будь спокоен, отомстит! Жакам конец, а ты пришел с парижским ополчением и имеешь полное право увести своих горожан. Что тебе до этого мужичья?
– А вы почему не уходите?
– Ты за меня не беспокойся, я и перебежать могу, коли увижу, что дело плохо. А такие, как ты, не перебегают, для этого вы слишком глупы. Дураки же гибнут в первую очередь.
– Лучше погибнуть дураком, чем жить как иуда, – запальчиво ответил Робер.
– Ну, это уж как кому по душе. – Де Три пожал плечами. – Хочешь помирать – помирай, мне-то что!
«А зачем мне теперь жить, – подумал Робер, выходя из шатра. – Зачем, для кого?» Аэлис он потерял навсегда, Симона и отца Мореля нет в живых – ни одной души не осталось, кому он был бы хоть немного нужен. Да и ему не нужен никто… Если задуматься – что ему жаки, что ему парижане, он все это время жил только одним – своей любовью, надеждой, которая не переставала теплиться в нем даже тогда, когда сам он всячески старался убедить себя, что надеяться не на что. И зря старался, все-таки судьба еще побаловала его напоследок, вознаградив так по-королевски, что теперь и умереть не жалко. Что из того, что всего этого было ему отпущено так немного? Зато щедро! Он изведал то главное, предназначенное мужчине, ради чего стоило прийти в этот мир. Упился и любовью – в те два дня и три ночи, что провел с Аэлис, – и мщением, когда зарубил Тестара. И горем. Страшным горем, бескрайним, от которого солнце делается черным. Это ему тоже дано было изведать. Чего же теперь бояться – собственной смерти, ран, телесных страданий? Да, бывает такое, что страдания плоти жаждешь, как прохлады в палящий зной, – только бы избавиться от душевной муки…
Собрав отряд, он приказал готовиться к походу и сказал, что будет сражение с большим дворянским войском, но неволить он никого не неволит: парижских ополченцев, кроме них, тут нет. Вайян с Жилем ушли воевать город Мо, а жаки сами по себе.
– Поэтому, – продолжал он, – вас тут не держит ни служба, ни присяга. Кто хочет, возвращайтесь в Париж или догоняйте отряд Жиля. Хочу только остеречь: дворяне сейчас набирают силу и тех, кто уйдет поодиночке, могут переловить, как куропаток. Может, безопаснее держаться пока вместе, а в сражении… как там еще получится. Короче, я вместе с капитаном де Три иду к Мелло, и кто хочет, становитесь сюда. Остальные отойдите в сторону.
Подумав и пошушукавшись, отошли всего несколько человек – остальные остались, то ли из осторожности, то ли следуя примеру командира. Обходя свое воинство, Робер вдруг остановился, с недоумением вглядываясь в незнакомого парнишку, который стоял позади и словно бы прятался за спины других.
– Эй, ты! – поманил он. – Выйди-ка сюда, храбрец! Чего-то я тебя не припомню, откуда ты взялся?
Парнишка, выбравшись из строя, пробормотал что-то едва слышно, не поднимая головы. На голове у него, несмотря на жаркий день, был нахлобучен род капюшона, скрывающий плечи и верхнюю часть лица, – местные крестьяне обычно носят этот головной убор в непогоду. Робер бесцеремонно его содрал и, не веря своим глазам, отступил на шаг.
– Побей меня гром! – сказал он, задохнувшись от гнева. – Ты что, ума лишилась?! Урбан, чтоб тебя разразило, откуда тут эта чертова девка?! За каким чертом… Кто разрешил?!
– Так она еще в Моранвиле попросилась, – объяснил Урбан, кашлянув. – Сказала, что поедет в Шомон, чтобы, значит, прислуживать госпоже, вроде ты ей разрешил. А в монастыре, гляжу, она уже перерядилась, я, говорит, с вами пойду, все равно мне деваться некуда…
– Когда таким некуда деваться, – бешено крикнул Робер, – то идут в непотребный дом!
– Грех тебе такое говорить, – дрогнувшим голосом отозвалась Катрин.
– Грех такое говорить?! А вести себя как распутница – не грех?! Обрезать волосы и разгуливать в штанах – не грех? Какой дьявол попутал тебя оставить госпожу и увязаться за нами? Приключений захотелось?!
– Тебе ли не знать, почему я решилась на такое. – Глаза ее наполнились слезами.
– Не знаю и знать не хочу! – крикнул Робер, стараясь не встречаться с нею взглядом. – Не хватало мне еще девки в отряде! Сейчас же соберешь свои пожитки, и чтоб духу твоего тут не было! Ступай с теми, что возвращаются в Париж, они тебя проводят до Шомона.
– Бог не допустит этого, – тихо, но твердо возразила Катрин. – По своей воле я туда не пойду, так что тебе придется связать меня и заткнуть рот кляпом. Если позора не боишься, потому что невелика честь для воина – мериться силой с женщиной…
Заинтересовавшись необычным препирательством, солдаты Робера столпились вокруг, и он чувствовал себя дураком. Чем не потеха – переодетая девка перечит капитану, а тот ничего не может сделать.
– Ты еще чести вздумала меня учить! – Он уже терял над собой контроль. – Пошла прочь, дура, или я сейчас возьму плетку и так тебя поучу, что не забудешь до самого Рождества!
Катрин вспыхнула, потом побледнела, упрямо прикусив губу и продолжая смотреть Роберу прямо в глаза. Наверное, он и в самом деле прибил бы ее, если бы не вмешался Урбан.
– Не дело задумал, господин, – сказал он. – Девка, она ведь не кошка, просто так не выкинешь… Да и то сказать – ежели что с ней потом приключится… а время сейчас сам видишь какое… тогда ведь не только за тобой, а за нами всеми грех тот потянется, а нам это совсем уж ни к чему, и своих хватает…
– Верно он говорит, – подхватили солдаты, – от своих бы отмыться! Оставь девку, господин! Кому она мешает?
– Еще и польза будет, – прокричал один, вылезая из-за спин товарищей, – она стряпать умеет и травы ведает! Вон, у Берто чирей был на шее – в кулак, чтобы не соврать! – так она там, в монастыре, травы нажевала и привязала тряпицей, а нынче утром он уже вполовину менее стал! Покажи капитану шею, Берто!
Берто и впрямь стал было разматывать тряпку, другие закричали, тоже требуя оставить девку в отряде. Робер махнул рукой, почувствовав новый приступ безразличия ко всему на свете.
– А-а-а, да черт с вами… пускай остается, мне-то что! Завтра в бою подцепят ее на копье, тогда сама пожалеет.
– Бог милостив, – обрадовано сказал Урбан, – мы уж за ней приглядим… А что в штанах она, так оно и впрямь сподручнее среди мужиков, чужой-то и не признает, что она не парень…
Ночью он лежал в высокой траве, смотрел в обрызганное звездами небо и, смирившись с тем, что все равно уже не уснуть, снова и снова вспоминал последнюю встречу с Аэлис. Не там, в пахнущей тлением и мышами каморке, где он нашел ее после ночного боя полубезумной, кутающейся в какое-то тряпье, и не потом – в часовне, где мэтр Филипп за отсутствием капеллана читал заупокойную мессу по убиенным Морелю и Симону. Там они стояли рядом, но не обменялись ни словом. Была еще одна встреча, ночью, накануне отъезда в Шомон, – встреча, оставшаяся в памяти полусном, полуявью. Последнюю ночь в Моранвиле он провел в той же комнате, где жил раньше, год назад: в ней все оставалось по-прежнему, он обратил на это внимание, лишь когда проснулся – внезапно, словно его кто-то позвал, проснулся с колотящимся сердцем и четким сознанием, что надо куда-то спешить, иначе опоздает… Вскочив, он сидел, прислушиваясь, в ожидании неведомого; была глухая, предрассветная пора ночи, и бледный свет заходящей луны слабо высвечивал знакомые предметы: кованый сундук у противоположной стены, угол стола, глиняный кувшин на столе и подсвечник в подтеках застывшего воска. Из окна тянуло прохладой, запахами полевых трав, конюшен, болотной сыростью застоявшейся во рву воды, и что-то невыразимо тоскливое было в этом мертвенном лунном свете, этих запахах, этой – он даже не сразу понял, откуда это гнетущее чувство, потом сообразил – тишине, да, дело было в тишине – непривычной, зловещей тишине, какая поселяется в жилищах покинутых, пораженных горем и смертью. Впрочем, он тут же забыл об этом, потому что снова, и теперь уже явственно, почудилось ему в этой тишине какое-то шевеление, шорох, словно едва слышный плач…







