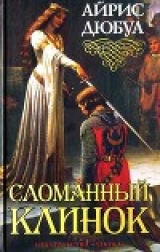
Текст книги "Сломанный клинок"
Автор книги: Айрис Дюбуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Так же как и он – за свою. Все, все поплатились! Каждый – точно в меру содеянного. Странно, Церковь обещает нам воздаяние после смерти, но как часто оно приходит уже здесь, в этой жизни, просто мы не всегда понимаем смысл того, что случается потом с нами, с нашими близкими…
Не понимаем и поэтому пытаемся мстить своими руками, хотя это не нужно, бессмысленно – не потому ли акт мести никогда не приносит истинного удовлетворения?
Он медленно поднялся, оглянулся на повозку. Катрин стояла перед ней, неловко держа в руках слишком тяжелый для нее арбалет, – видно, достала из-под холстины, которой был укрыт раненый.
– Не подходите! – крикнула она отчаянным голосом. – Богом заклинаю, мессир, не подходите – иначе выстрелю!
– Глупая, у тебя не хватит сил его взвести, – устало отозвался Франческо. Хотя было уже довольно темно, он видел, что тетива не натянута. – Что это тебе, прялка? – Он подошел, взял оружие из ее рук и положил на повозку. – Куда вы его везете?
– В Париж, мессир, – все еще дрожа, ответила Катрин, – там у Робера есть дружок, он еще раньше говорил, чтобы к нему, – он поможет…
– Наверное, это разумно, – задумчиво согласился Франческо, – там легче укрыться, здесь вас поймают… Но только туда тоже не просто пробраться, город обложен.
– Да нам бы только до Сен-Дени, – Катрин, почувствовав перемену его настроения, говорила уже живее и свободнее, – а там Урбан все устроит, он там знает все ходы-выходы!
– Ладно, поезжайте, может, и в самом деле проберетесь. Карло! Скажи, чтобы развязали этого малого, и пусть проваливают!
Катрин упала на колени, стала ловить его руку. Он оттолкнул ее и, не оглядываясь, пошел к Джулио.
Урбана тем временем распаковали; ворча и злобно озираясь, он потребовал назад отобранный при пленении нож, сунул его за пояс и погрозил кулаком одному из схвативших его солдат:
– У-у-у, жабоеды! Придумали тоже, втроем на одного прыгать! Поодиночке бы я вас как вшей…
– Не понимаю тебя, дорогой, – сказал Джулио, когда повозка исчезла в зарослях. – Не понимаю и не узнаю…
– Я и сам себя не узнаю, – отозвался Франческо неожиданно повеселевшим голосом. – А понять не пытаюсь. Чего ради? Я просто чувствую, что мне стало немного легче… Глупо, наверное, но это так, Джулио, завтра мы разделимся – бери с собой людей, и езжайте в Моранвиль, в Шомон я поеду один.
Глава 30
Досточтимая Беренгария, настоятельница Шомонской обители сестер-кларисок, восприняла прибытие племянницы как явную кару Господню. Неведомо только – за что? В аббатстве царило благочестие, чего отнюдь нельзя было сказать о других обителях, иные из которых сделались в последнее время истинными вертепами разврата; видя кругом устрашающее падение нравов, Беренгария особенно строго пасла своих овец, ужесточив дополнительными запретами и без того суровый миноритский устав, которому подчинялся орден Святой Клары. Когда началась смута и каждый день приходили вести о разграблении все новых замков и монастырей, мать аббатиса оставалась спокойной, будучи уверена, что небесное милосердие оградит ее паству от неистовства жаков. И действительно, жаки обитель не тронули.
Но поистине пути Господа неисповедимы – именно теперь, когда в округе стало поспокойнее, аббатисе было послано совсем уж непредвиденное испытание: явилась эта распутная Аэлис, чьи греховные страсти давно уже смущали воображение шомонских затворниц. Все началось с прошлогодней поездки матери Беренгарии в Моранвиль, на свадьбу, куда она имела неосторожность взять с собой двух молодых послушниц. Как выяснилось значительно позже, в ходе проведенного Беренгарией дознания, одна из них, вернувшись в обитель, рассказала подружкам о том, что у невесты была до свадьбы нежная любовь с молодым оруженосцем и что оруженосца этого накануне свадьбы велели не то утопить во рву, не то замуровать в колодце, – как бы то ни было, исчез он без следа. Конечно, узнай об этом аббатиса сразу, она сумела бы пресечь разговоры, живо отучив кого следовало от греховного любопытства, но она не знала, поэтому разговоры шли всю зиму, а питаемое ими любопытство все росло и росло, к вящей радости лукавого, испытывающего, как известно, особо изощренное удовольствие от внушения грешных мыслей Христовым невестам. На беду, обитель издавна поддерживала тесную хозяйственную связь с Моранвильским феодом, в частности получала с тамошних коптилен рыбу, через ездивших в Моранвиль монастырских работниц и наладилась передача разного рода слухов и сведений. Замурованный в колодце любовник был уже оплакан половиной монахинь, как вдруг вместе с возом карпов, доставленных к Великому посту, пришло известие, что мученик жив-здоров и обретается в Париже; тут-то все и раскрылось, ибо настоятельница не могла не заметить странного оживления среди сестер, которые стали теперь шушукаться и перешептываться даже во время служб. Обычно не поощрявшая в обители слежку и наушничество, Беренгария вынуждена была поручить одной из своих келейниц разузнать, в чем дело; и та разузнала такое, что аббатисе пришлось отворять кровь.
Все виновные в распространении соблазна понесли наказание, но содеянного было уже не исправить, соблазн угнездился в душах, тем более что последняя новость, полученная из Моранвиля, до того как аббатиса пресекла все связи с замком, касалась приезда Робера в отсутствие как мужа грешницы, так и ее отца. Узнав об этом, Беренгария решила, что сама отправится к старому дураку, своему кузену, и раскроет ему глаза на непристойное поведение дочери. Но не успела – Гийом вместе с Тибо оказались едва ли не первыми жертвами смуты.
И вот теперь грешница сама явилась в обитель. Как женщина, аббатиса не могла ей не посочувствовать, но не могла в то же время и не подумать, что лучше бы племянница избрала себе для покаяния другое место – подальше от Шомона. Как будто мало того, что на протяжении всей зимы послушницы и монахини помоложе спорили, кто же в конце концов был отцом ребенка, которого недоносила дочь сьёра де Моранвиль, а весной заключали пари – отважится ли дерзкий оруженосец посетить даму своего сердца…
Да и насколько искренне это покаяние? Мать Беренгария была женщина трезвого и уравновешенного ума, и любая чрезмерная экзальтация вызывала в ней недоверие; во всяком случае, такого рода чувства она считала непостоянными и непрочными. А что, если племяннице не удастся изгнать беса и он снова возьмет верх? Опасность для обители была слишком велика, чтобы отнестись к этому без должной осмотрительности.
Моранвильский нотарий, который предупредил аббатису о приезде Аэлис, вкратце рассказал о случившемся в замке, поэтому первые несколько дней она вообще не виделась с племянницей, решив дать ей время успокоиться и прийти в себя. Лишь через неделю пригласила к себе.
Аэлис пришла в подпоясанном веревкой рубище, босиком, под закрывающим лицо черным покрывалом. Мать Беренгария неодобрительно поджала губы – покаяние покаянием, но не слишком ли все это? Веревка особенно ей не понравилась.
– Рада тебя видеть, хотя и в таких печальных обстоятельствах, – сказала аббатиса. – Где похоронили отца?
– В Клермоне, – отозвалась Аэлис едва слышно. – Отец Эсташ, жалкий трус, побоялся везти его домой.
– Не осуждай священнослужителя, это грех. В то время мужики бесчинствовали по всем дорогам, везти тело и впрямь было опасно. Сними-ка покрывало…
– Мадам, вы меня не узнаете. – Аэлис, помедлив, откинула покрывало.
Беренгария помолчала, перебирая четки.
– Конечно, ты… повзрослела за этот год, – проговорила она наконец. – Но чтобы не узнать – вздор, не так уж ты изменилась…
Прозвучали ее слова неискренне, аббатиса и сама это понимала. Изменилась Аэлис страшно, какое там повзрослела – она погасла, выгорела; действительно, трудно было узнать ту лучезарно сиявшую невесту, на чьей свадьбе она еще так недавно присутствовала.
– Надолго к нам? – осторожно осведомилась настоятельница.
– Надеюсь, навсегда.
«Бог этого не захочет», – со страхом подумала мать Беренгария и еще быстрее защелкала четками.
– Ты что же, решила уйти из мира?
– Мне не остается ничего другого.
– Твой муж еще жив, насколько я понимаю. Жена не может постричься без согласия мужа, это тебе известно?
– Ну, он-то возражать не станет.
– Почем знать. Ты, я вижу, не слишком привыкла с ним считаться?
Аэлис, не ответив, еще ниже опустила голову.
– Впрочем, – продолжала аббатиса, – в любом случае это дело долгое, так что говорить пока не о чем. Скажу одно: я не приняла бы от тебя обета. А пожить здесь… что ж, обитель не вправе отказывать тем, кто приходит в эти святые стены, нуждаясь в утешении. Но только я не очень понимаю, в чем нуждаешься ты.
– По-вашему, мадам, в утешении я не нуждаюсь?
– Ты его уже получила, просто не поняла пока этого. Еще недавно душа твоя была отягощена грехами – лжи, клятвопреступления, прелюбодеяния… да что толку перечислять, ты свои грехи знаешь лучше. Многие живут с таким грузом долгие годы, свыкаются с ним, иные даже начинают его любить. И только в конце жизни, когда теряют цену суетные радости, ради которых была осквернена душа, грешник задумывается: а какова же будет расплата? Ибо расплата приходит неминуемо, и она оказывается тем страшнее, чем дольше жил человек в грехе и без покаяния. Бог явил тебе великую милость, наказав сразу, едва ты согрешила; а ведь в самом наказании уже отчасти как бы содержится прощение. Не полное, так как необходимо еще раскаяние, но это уже зависит только от тебя. Поэтому я не вижу, в чем тебя надо утешать. Будь ты истинной христианкой, ты уже сегодня чувствовала бы облегчение от бремени греха, а если не чувствуешь, значит, мало в тебе христианского смирения. Но тут никакими утешениями не поможешь.
– Тогда чем же? – спросила Аэлис. – Вы говорите, если наказана, то уже прощена – ну, если еще и раскаялась. Раскаиваюсь я все время, вы сами не представляете, как я раскаиваюсь; но я вовсе не чувствую себя прощенной, я ведь не знаю, соответствует ли наказание греху, достаточно ли того, что со мной случилось, чтобы искупить все причиненное мною зло отцу, мужу… Ведь это я уговорила отца поехать в Компьень, чтобы остаться одной и позвать Робера…
– Об отце не беспокойся. Бог призвал его к себе, и ты тут ни при чем. Слишком самонадеянно думать, что мы своими действиями можем изменить сроки человеческой жизни, – они в воле Всевышнего.
– А убийство?
– Убийца не сам убивает, он лишь орудие.
– Тогда и он не виноват?
– Почему же? В Писании сказано: «Должно прийти в мир соблазну, но горе тому, через кого он приходит». Так что, повторяю, об отце не думай; коль скоро пробил его час, он умер бы не по дороге на Компьень, а у себя в спальне. Твой грех, разумеется, от этого меньше не становится, но это грех не убийства, а лжи и прелюбодеяния. За него ты уже наказана, и наказана в точном соответствии с виной. Ты согрешила, дав волю своей похоти, и сама стала жертвой похотливого насилия. Неужели это не понятно? Тебе следовало бы смиренно благодарить Небо, что Тестар взял Моранвиль.
– Какие страшные слова вы говорите…
– Жизнь вообще страшна, – заметила аббатиса. – Разве для веселья приходит человек в эту юдоль? Единственное, чем мы можем облегчить себе земной путь, – это неуклонное соблюдение заповедей Господа нашего. А если стать рабом своих страстей… впрочем, ты и сама убедилась, к чему это приводит.
Они долго молчали, потом Аэлис проговорила:
– Но почему же тогда вы не одобряете моего решения расстаться с миром? Я ничего не сумела в своей жизни…
– Ты и не старалась, – возразила Беренгария. – Всегда поступала так, как тебе хотелось, как было приятнее. Ты и сейчас хочешь поступить так же, разве я не вижу?
– Мадам, – с упреком сказала Аэлис, – я говорю о том, чтобы принести обет!
– Я поняла, о чем ты говоришь. Но ты сейчас хочешь обмануть Бога, так же как обманывала своих близких. Неужели ты думаешь, Ему будет угодна такая жертва?
– Но почему же «хочу обмануть»? – воскликнула Аэлис уже в отчаянии. – Я действительно хочу принести обет!
– Истинный обет должен быть актом смирения, у тебя же он свидетельствовал бы о гордыне. И о слабости, потому что проще замаливать свои грехи, вместо того чтобы искупать их делом…
– Каким делом? Каким таким делом могу я их искупить? Бога ради, что вы говорите!
– У тебя ведь есть муж, не правда ли? Ты только что сама признала, что причинила ему зло, а между тем он тебя любит…
– Но я-то его не люблю! Я жалею его, я чувствую свою вину перед ним, но не люблю, не люблю!
– А это уж, моя милая, никого не касается. Об этом надо было думать раньше, пока ты не поклялась ему в любви и верности. Воображаю, во что превратился бы мир, если бы нам было позволено с такой легкостью нарушать клятвы! Сегодня поклялась, завтра передумала… Ты, кстати, и монашеский обет нарушила бы с такой же легкостью.
Аэлис уронила лицо в ладони и разрыдалась.
– Не знаю, как поступит твой муж, – продолжала аббатиса бесстрастным тоном, – он может и отказаться от тебя. Установленный факт прелюбодеяния дает церковному суду повод для аннуляции брака. Но если нет и если ты действительно хочешь делом искупить зло, которое причинила человеку, поверившему тебе, ты должна вернуться к нему и кротостью заслужить прощение. Вот все, что я могу тебе сказать. А теперь ступай, я хочу помолиться…
Вернувшись к себе в келью, Аэлис тоже попыталась молиться, опустившись на колени перед черным деревянным распятием, но не смогла – в душе не было ничего, кроме горечи. Наверное, ей и в самом деле нечего думать о монашестве – кому она такая нужна? Раскаяние и то не получается, потому что – ей много раз говорили отец Морель и капеллан – истинное раскаяние умягчает душу, омывает ее от грехов, приносит облегчение. Выходит, все то, что чувствует она – стыд за себя, отвращение к себе, – выходит, это еще не истинное раскаяние?
Возможно, настоятельница и в самом деле права и единственный способ попытаться исправить сделанное зло, это вернуться к Франсуа. Если, конечно, примет. Лучше бы не принял, наверное. Но если?.. Представить это себе страшно – на всю жизнь, до старости, до конца дней…
Колени мучительно болели, у нее уже образовались там незаживающие ссадины, постоянно растравляемые грубой колючей тканью. Презирая себя за слабость, Аэлис не выдержала, легла на пол, раскинув руки и прижимаясь щекой к шершавому граниту. Камень казался ледяным, здесь вообще царил постоянный холод – даже в эти знойные дни середины лета; раньше пол был покрыт камышовой циновкой, но Аэлис велела ее убрать, как и соломенный тюфячок с постели, – спала на голых досках, даже без подушки.
Сейчас она лежала, чувствуя, как в тело медленно проникает холод камня – мертвящий, вечный, не знающий ни времени года, ни дня, ни ночи. Живая плоть теряла чувствительность, наливаясь этим холодом. Наверное, так бывает, когда умираешь. Если бы умереть! Прямо сейчас, а еще лучше было бы умереть раньше, до того как все случилось. Но что – все? За последнее время случилось так много всего, что теперь уже и не вспомнить, с чего начались ее беды. Может быть, с того далекого дня, когда она – чтобы выманить отпускную грамоту для Робера – пообещала отцу быть любезной с итальянцами? Или когда итальянцы приехали и она сразу поняла, что ей не придется принуждать себя к любезности, особенно с Франсуа? Или когда согласилась стать его женой, или когда послала Роберу кольцо?
Дверь протяжно заскрипела на ржавых петлях. Аэлис не подняла головы, не оглянулась – никто, кроме Жаклин, сюда не входил.
– Что тебе нужно? – спросила она, не открывая глаз.
– Да там этот приехал, легист. Говорит, хотел бы вас видеть.
– Зачем он мне? Я не приму его, поди скажи, чтобы уезжал.
– Мадам, он говорит, что нашел мессира Франсуа… Франсуа? – Аэлис приподнялась, опираясь на руки, Жаклин помогла ей встать. – А почему он вообще его искал, кто ему велел это делать?
– Ну как же, мадам, господин Робер, когда мы уезжали из Моранвиля, отправил его найти мессира и сказать ему, что вы здесь!
Аэлис медленно подошла к столу, на котором стояла кружка воды, прикрытая ломтем темного ячменного хлеба, села, опираясь подбородком на переплетенные пальцами руки.
– Где он? – спросила она глухо после долгого молчания.
– Ах, я и не спросила толком, но только вроде в Париже мессира не было…
– Дура, я про Филиппа спрашиваю.
– А, он там – ну, возле привратницкой есть такой домик. Или спросить, – может, его сюда пустят?
– Не надо… проводи меня…
Помещение для свиданий с посетителями – в тех нечастых случаях, когда такие свидания дозволялись, – было пристроено к внутренней ограде, отделявшей сад от расположенного непосредственно у ворот хозяйственного двора. В помещении было две двери – одна выходила в сад, другая, через привратницкую, вела наружу. Узорная кованая решетка от пола до сводчатого потолка перегораживала пополам небольшой покой, слабо освещенный через узкое окно.
Войдя сюда из солнечного сада, Аэлис не сразу разглядела за решеткой легиста, одетого в темную дорожную робу.
– Что привело вас ко мне? – спросила она неприязненно.
– Я думал, Жаклин сказала…
– Да, она сказала. Как вам удалось так быстро выполнить поручение?
– Я сразу поехал в Париж, в тамошнюю контору, и встретил там человека, который видел господина Донати в Льеже. Он сказал мне, что оттуда ваш супруг отправился в Мо…
– Мо? Где это?
– Это в Шампани, мадам, не очень далеко. Дело в том, что ваш супруг собрался ехать в Париж, когда началась смута, ибо считал, что вы там, у госпожи де Траси, и опасался за вас – в столице ведь сейчас беспокойно. Но парижский конторщик сказал ему, что де Траси уехали в Мо вместе с двором дофины…
– Я понимаю, – перебила Аэлис, – он решил, что я тоже там. Вы… рассказали ему, что произошло в Моранвиле?
– Для этого я и ездил, мадам. Я сказал, что вы будете ждать его здесь.
– И он… намерен приехать?
– Как только сможет, мадам. Он был ранен там, в Мо, хотя рана неопасная.
Аэлис долго молчала.
– Благодарю вас за добрые вести, мэтр Бертье, – сказала она наконец. – Вы теперь возвращаетесь в Моранвиль?
– Пока да. Кстати, мадам, вы не думали о судьбе феода?
– Какое мне до него дело. – Аэлис пожала плечами.
– Но вы наследница; как женщина, вы не можете принести homagium [95]иначе как через представителя.
– Понимаю, и как же это делается?
– Естественно, представителем в таких случаях становится муж. Однако захочет ли господин Донати связать себя вассальными обязательствами?
– Не думаю. Он – и вассал? Сомневаюсь…
– В таком случае, мадам, поскольку феод не может оставаться без присягнувшего владельца, Моранвиль придется продать.
– Хоть завтра, – сказала она равнодушно. – Впрочем, обсудите это с моим мужем. Да, вы сказали – он был ранен?
– Неопасно, мадам, поверьте моему опыту.
– Там хоть есть кому за ним ухаживать?
– О, конечно!
– Я рада. Кстати, Беппо не с ним?
– Бедняга Беппо! – воскликнул нотарий. – Он тоже разыскивал вашего супруга – не знаю зачем, но ездил за ним по всей Фландрии; мы встретились с ним уже возле Мо, прибыли туда вместе. А там он помер.
– Как помер?
– А вот так, внезапно. Поговорил с господином Докати и…
– Странно, – прошептала Аэлис, помолчав.
– Да, странно, – согласился нотарий. – Господин Жюль считает, что у него лопнула сердечная жила; конечно, бывает и такое. Мадам, позвольте откланяться.
– Прощайте, мэтр… Скажите, а… Беппо разговаривал с мужем до вас или…
– Нет, позже.
Выйдя в сад, Аэлис без сил опустилась на каменную скамью. Итак, Франсуа знает все… Недаром в то утро – когда уезжал Робер – она, увидев вдруг неизвестно когда вернувшегося Беппо, испытала мгновенный леденящий ужас, как будто невзначай коснулась змеи. Он пробыл тогда в замке несколько дней, а потом – незадолго до начала смуты – исчез снова, и вместе с ним исчез Тома. Тогда она не придала этому значения, обрадовалась только, что не видит больше соглядатая с его немигающими глазами гадюки…
Что ж, доносчик свое получил (зная Франсуа, она не сомневалась в причине этой смерти), но теперь очередь за ней. Франсуа сказал как-то, что Беппо предан как пес, большей преданности он не видел ни в ком. И если смог не задумываясь отравить самого верного слугу (ясно, что отравил, с чего бы тому помереть внезапно? Франсуа всегда носит яд с собой, показывал ей перстень с черным камнем) – отравить только за то, что тот принес ему злую весть о ее измене, то что тогда будет с ней самой? Да точно то же и будет.
Если не хуже. Ей вспомнилось, как Франсуа рассказывал однажды о каком-то своем знакомом, убившем жену за то, что дала повод для ревности: вернулся домой и, ни о чем не спрашивая, заколол кинжалом. Аэлис сказала тогда что-то в том смысле, что едва ли бедняжка заслужила столь суровое наказание, а он удивленно поднял брови: «Суровое? Клянусь Гекатой, я бы сумел наказать иначе…» – сказал это с таким выражением, что у нее мороз пробежал по коже. И это были не пустые слова. Хотя ей самой за недолгое время их брачной жизни ни разу не случалось в этом убедиться, она почему-то была уверена, что он, при всей его утонченной куртуазности, способен на крайне жестокие поступки…
Аэлис поняла вдруг, что думает о смерти спокойно, даже с облегчением. Наверное, смерть в самом деле нисколько не страшна. Тут, конечно, две стороны: первая – это то, что будет потом, и в этом смысле ей есть чего опасаться… Хотя если Франсуа ее убьет, это, наверное, будет зачтено в ее пользу, как и то, что сделал Тестар. Отец Морель всегда говорил, что чем труднее человеку здесь, тем легче там, потом. А вторая сторона смерти – то, что она обрывает эту здешнюю жизнь, – так здесь и вовсе не о чем сожалеть…
Монастырский сад был невелик и очень запущен, настоятельница не поощряла цветоводства, полагая, что это может дать мыслям греховное направление. Когда-то давно, при прежних аббатисах, здесь, похоже, был цветник, но сейчас все заросло густой жимолостью и шиповником. Затененный старыми вязами сад одной стороной примыкал к глухой, поросшей плющом стене хозяйственного двора, а вдоль трех других шла низкая галерея, римские арки которой опирались на толстые столбы. Посредине, заваленный сухими листьями и мусором, был расположен восьмиугольный бассейн бездействующего фонтана, украшенный небольшой статуей Девы на изъеденном непогодой цоколе из седовато-желтого песчаника.
Всё здесь – и этот давно иссякший водоем, и беспорядочные заросли кустарника, и неровные плиты галереи с прорастающей в трещинах травой, – все несло на себе печать запустения, напоминало о неумолимом беге времени, о бренности всего сущего; но в этот солнечный день, когда солнце ласкало древние камни, а над усыпанным мелкими розовыми цветочками шиповником деловито гудели пчелы, сад был полон обманчивого очарования. Обманчивого потому, что оно лишь ласкало взор, не давая ни утешения, ни даже простой радости. Напротив, подчеркивало разобщенность между прекрасным в своем совершенстве миром и населявшими его людьми. Казалось бы, такие уголки созданы для счастливой жизни, а между тем сколько горя видели эти камни и эти деревья…
Все, все в жизни оказалось обманом, пустой видимостью. И прежде всего – мечта о счастье. В юности все живут этой мечтой, верят в нее, ждут чего-то… А потом счастье или вообще не приходит, или – если приходит на какой-то миг – влечет за собой столько горя, что лучше бы, наверное, и не приходило…
Когда-то они с Робером жили ожиданием счастья, совершенно несбыточного, потому что им все равно не суждено было быть вместе: не появись Франсуа, отец выдал бы ее за сына какого-нибудь барона. Правда, им довелось хоть испытать несбыточное, три дня они были счастливы. Много это или мало? Другим жизнь не дает и такого, и уж второй раз это не дается никому. Теперь, наверное, Робера уж нет в живых – Жаклин слышала от кого-то о недавнем побоище под Мелло, где рыцарское войско разгромило жаков, истребив их до последнего человека. Аэлис толком не знала, с кем он отбил замок у Тестара; возможно, это были парижские ополченцы, но могли быть и жаки, а если так, то и он должен был быть на Монтатерском плато. А ведь в живых там, говорят, никого не осталось. Уаза в тот день текла красная от крови…
Если бы самоубийство не было таким страшным грехом! Если бы можно было выбрать себе самый легкий вид смерти и самой тихо уйти из жизни, которая стала безрадостной пустыней… Нет, душу губить она не станет, но поскорее бы он приехал, думала Аэлис, подняв лицо к мерцающему сквозь листву вяза солнцу, бессознательно впитывая кожей его теплую ласку. Поскорее бы приехал и зарезал ее, как тот ревнивый кавалер из Флоренции…
Аэлис теперь жила этим ожиданием, мыслью о желанной и скорой смерти. С нею она засыпала, с нею просыпалась, с нею проводила день за днем – вместе со всеми ходила в церковь, пыталась молиться, пела в хоре – и думала об одном: когда же наконец кончится это мучительное ожидание неизбежного.
Так прошло около двух недель. Однажды под вечер – уже прозвонили Angelus [96]и она собралась идти к вечерне – в ее келью ворвалась Жаклин:
– Госпожа, мессир Франсуа приехал!
Аэлис застыла на месте, чувствуя слабость в коленях:
– Погоди, пусть… пусть подождет там, я сейчас…
– Он сюда идет, он велел сестре-привратнице вызвать даму Беренгарию, и та ему разрешила…
– Хорошо. – Аэлис попыталась овладеть собой. – Хорошо, ступай, оставь меня…
Она приложила руку к губам, словно боясь закричать, когда он войдет в келью. Но не закричала, просто смотрела во все глаза, не в силах произнести ни слова. Он, войдя, тоже стоял и смотрел.
Мадам, вы можете не рассказывать, – сказал он наконец, с трудом выговаривая слова. – Я знаю все и ни о чем не спрашиваю.
Аэлис опустилась на колени:
– Я виновата перед вами, супруг мой и господин. – Она сама удивилась, как спокойно и ясно звучит голос. – Я не сожалею о том, что сделала, но раскаиваюсь в зле, которое причинила вам, и готова принять любое наказание. Если вам так легче, дайте мне яд, и я сделаю это сама.
Франческо обвел взглядом голые каменные стены, медленно прошел к столу, сел.
– Поднимитесь, мадам, – сказал он негромко, устало. – Я не могу говорить с вами, когда вы стоите на коленях, словно проворовавшаяся служанка… раньше в ваших манерах было больше достоинства. Велите принести еще один табурет или сядьте на кровать, нам есть что обсудить.
Аэлис послушно поднялась, присела на край постели, судорожно сцепив пальцы на коленях. Франческо смотрел на ее исхудавшее лицо со следами слез на щеках – она, видно, умывалась здесь не каждый день, а плакала незадолго до его прихода – и чувствовал, как неожиданно, непрошено и неудержимо растет в сердце всепоглощающая жалость к этой девочке с широко раскрытыми, испуганными глазами на замурзанном личике, к своей неверной жене, которой он еще недавно желал жестокой смерти. Впрочем, нет, это было давно; вчера – там, в лесу, возле повозки с лежащим в беспамятстве Робером, – он понял, что не только не может мстить ни ему, ни ей, но не может и осудить до конца, бесповоротно, не осудив так же строго и самого себя. Потому что его вины было во всем этом нисколько не меньше.
Он ехал сюда не требовать объяснений, не упрекать, ему нужно было увидеть ее в последний раз и сказать, что все кончено, что он обратится в понтификальный трибунал с ходатайством об аннуляции брака, а она вольна устраивать свою жизнь, как ей будет угодно. Приняв такое решение, он успокоился, оно казалось мудрым и справедливым, он гордился тем, что сумел подавить в себе темную жажду отмщения.
Но сейчас он ничего этого не чувствовал – ни гордости, ни покоя. Ничего, кроме жалости и любви, слепой и нерассуждающей.
– Что вы думаете делать дальше? – спросил он глухо.
– Это решать вам, мессир. Я думала принять постриг… если вы меня отвергнете. Если нет, то я постараюсь быть вам доброй женой и, может быть, исправить когда-нибудь то зло, что вам причинила. Франческо долго молчал.
– Вы действительно не любили меня, Аэлис? Совсем не любили? Мне казалось, что вначале…
– Думала, что люблю, – вздохнула она. – Я не лгала вам перед алтарем, я была так уверена… но что я тогда знала о любви!
– А теперь знаете?
– Теперь знаю больше…
– И говорите, что постараетесь меня любить?
– Я буду молиться, чтобы Господь укрепил меня в этом.
– Аэлис… – Он помолчал, глядя в пол. – Наверное, это будет трудно, но давайте все же попробуем… еще раз. Поедем во Флоренцию, если вас не пугает мысль покинуть эти края. Поживем там год-другой, и, если вы все же предпочтете монастырь, я не стану вас удерживать. Вы тогда вернетесь сюда или выберете себе любую обитель там, где вам захочется. Но пока… быть может, если бы у нас был ребенок…
– Хорошо, мессир, давайте попробуем, – не поднимая головы, прошептала Аэлис.
Глава 31
Месяц, когда, перевалив вершину эклиптики, солнце спускается в созвездие Рака, всегда был неблагоприятен для короля Наварры. Об этом его еще в Памплуне предупреждал звездочет, за большие деньга переманенный из Кордовы. Звездочет, правда, оказался негодяем и снова сбежал к неверным, но кое-какие полезные сведения он все же успел дать, и время подтвердило разумность его советов. Он сказал однажды, что июль – месяц неблагоприятный, лучше в июле воздерживаться от важных решений.
Впрочем, никаких решений Карлу д’Эврё принимать уже, в сущности, не приходилось. Он все чаще ловил себя на странном ощущении: будто уподобился щепке, которую крутит и несет неудержимым потоком. Раньше гордился своим умением управлять людьми и событиями, теперь же люди все чаще переставали ему повиноваться, а события принимали непредвиденный оборот. Хотя началось это гораздо раньше, наверное еще в тот февральский день, когда он пообещал Жанне покинуть Париж, сделав вид, что верит ее наивным намекам на что-то большее в будущем. Ему ли было не знать своей кузины? И все же он разыграл с ней этот нелепый фарс. Зачем? Наверное, затем, что она была и оставалась единственным человеком, перед которым ему было важно хоть в чем-то выглядеть по-рыцарски, пусть даже в малом…
В том, что с ним перестают считаться даже подданные, Наварра смог убедиться сразу после битвы под Мелло. Истребив армию жаков, победоносные рыцарские дружины принялись опустошать всю округу, убивая без разбору. Зная, что кузен Карл запретил бессудные расправы над вилланами, и понимая мудрость такой позиции регента, Наварра, после жестокой казни Гийома Каля, тоже счел уместным призвать своих рыцарей к умеренности и напомнить им заповедь милосердия. Призыву подчинились, но тут пришло письмо от Марселя с приглашением прибыть в столицу; не желая упустить возможность примириться с парижанами, король покинул войско, и в его отсутствие рыцари словно с цепи сорвались – стали истреблять компьенских и бовэзийских крестьян, словно зверей на облавной охоте.







