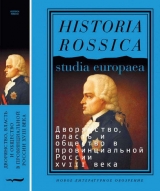
Текст книги "Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
* * *
В рамках отдельной территории наиболее интересным представляется комплексное изучение наказов, то есть анализ наказов от всех сословий. Однако эта работа очень объемная и трудоемкая, требующая к тому же больших временных затрат. Поэтому наиболее эффективным представляется отражающая сословный принцип публикация наказов с подробнейшими комментариями. Начинать работу, на наш взгляд, следует с дворянских наказов как наименее изученных{812}. В настоящее время силами ученых России, Канады и Германии, под руководством Германского исторического института в Москве, осуществляется реализация международного исследовательского проекта «Культура и быт русского дворянства в провинции XVIII века». В рамках заявленной темы проводится анализ наказов, поданных в Уложенную комиссию 1767–1768 годов дворянами уездов, вошедших впоследствии в Тульскую, Орловскую и, частично, Московскую губернии. Осуществление проекта позволит углубить и конкретизировать наши представления о жизни провинциального дворянства, сложившейся, в частности, в Орловском крае в его «догубернский» период. Уже сейчас можно сделать некоторые предварительные выводы.
Так, анализ наказов орловского дворянства позволяет увидеть включенность нужд местного дворянства в корпоративные интересы сословия в целом: отстоять и расширить дворянские привилегии за счет других сословий, добиться их законодательного закрепления, усовершенствовать казенное и судебное делопроизводства и так далее. Местные условия жизни дворян со всей очевидностью требовали указанных реформ, что находит живейшее подтверждение в архивных документах. Структурный анализ орловских наказов позволяет подтвердить высказывавшуюся ранее Веретенниковым{813} мысль о том, что прямых заимствований в дворянских наказах было мало, а если они и имели место, то были вызваны не копированием одних наказов другими, а отражением в них общих для дворян разных регионов интересов и нужд, требовавших обсуждения и реформ на общегосударственном уровне. В то же время специфика социально-экономического и демографического развития Орловского края, сложившаяся к середине XVIII века (большое количество однодворцев и казенных крестьян, экономическая несостоятельность подавляющего большинства местных дворян наряду с наличием огромных земельных владений латифундистского типа, принадлежавших дворянам, не проживавшим в самом крае, расположение в черноземной зоне и развитие зернового производства и так далее), определила появление в орловских наказах требований, не нашедших столь значительной поддержки в наказах дворян других регионов: ограничения прав однодворцев на владение крестьянами и землей и привилегий купечества на занятие торговлей, разрешения на торговлю произведенным в имениях вином, освобождения от постойной повинности (или же распространения ее на все города) и от «приема провианта в городовые магазины». Существование в крае наряду с высокоразвитыми в сельскохозяйственном отношении уездами (Ливенский, Елецкий) территорий, плохо пригодных для сельского хозяйства из-за большого количества лесов и болот (Брянский, Трубчевский, Севский), и, как следствие, их малолюдность и неразвитость дорожной сети обусловили отсутствие дворянского наказа от Севского уезда и вынудили проживавших там дворян присоединить свои голоса к наказу, составленному городскими сословиями. Вероятно, условия жизни севских дворян не только не позволили им собрать достаточное количество представителей своего сословия для написания самостоятельного наказа, но и определяли совпадение их интересов с интересами других городских жителей. Это очевидно из того факта, что в городских наказах, подписанных дворянами, специфически дворянские требования выдвинуты не были. Действительно, из личных документов дворян, подписавших городские наказы, следует, что они находились ближе к городским жителям, чем к дворянам, жившим в своих усадьбах, в силу своего положения: в большинстве своем это были служащие городских канцелярий. При неразвитости в целом городской жизни в крае местные горожане проявили значительную по сравнению с дворянством активность в составлении наказов, что, возможно, было обусловлено как их большей организованностью (принадлежностью к купеческим гильдиям, к губернским или уездным канцеляриям и так далее), так и компактностью проживания – в отличие от удаленных поместий большинства дворян, разобщенных в силу несовершенства законодательства и судебных практик, регулировавших их повседневные отношения между собой и вызвавших столь явную критику с их стороны в наказах. В целом анализ составленных дворянством Орловского края наказов в Уложенную комиссию, проводимый на фоне изучения архивных и прочих документов о личном составе дворян, их подписавших, подтверждает перспективность использования наказов в качестве весьма информативного источника для изучения локальной истории.
Владимир Сергеевич Рыжков.
«Домостроительство» и политика:
Место представлений о правильном устройстве сельского поместья в системе общественно-политических взглядов М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина
Михаил Михайлович Щербатов и Николай Михайлович Карамзин известны в первую очередь как историки. Однако, в отличие от позднейших представителей этой научной дисциплины, они были также и политическими мыслителями. Их творчество отражает различия между двумя периодами российского Просвещения, которые с некоторой долей условности можно обозначить как рационально-прагматический и сентименталистский. Отличительной чертой каждого из этих периодов была адаптация тех или иных европейских влияний к российским условиям, отражавшая как особенности различных стадий интеллектуальной истории Европы (прежде всего Франции, Великобритании и Германии), так и культурную, экономическую и общественно-политическую ситуацию в самой России.
Щербатова и Карамзина трудно назвать провинциальными дворянами в строгом смысле слова. Их жизнь и творчество связаны в основном со столицами – Москвой и Петербургом{814}. Щербатов покинул свою ярославскую усадьбу в молодости, отправившись на военную службу в Петербург, но в конце 1750-х – начале 1760-х годов, до отставки, вел подробную переписку с управляющими своими обширными поместьями, вникая во все мелочи хозяйства и стремясь добиться увеличения доходов. Денег на жизнь в Петербурге не хватало, и Щербатов, воспользовавшись Манифестом о вольности дворянства, вышел в отставку и вернулся в усадьбу Михайловка, где жил несколько лет, приезжая иногда в Москву. С открытием заседаний екатерининской Комиссии для составления нового Уложения Щербатов вновь начинает карьеру в столицах, но о его связях с провинциальным дворянством свидетельствуют подписи ярославских дворян под наказом депутату (то есть самому Щербатову), проект которого им же, вероятно, и был составлен{815}. В самой комиссии Щербатов прославился своей энергичной защитой дворянских интересов, и хотя в дальнейшем его служба протекала в Москве и Петербурге, можно сказать, что мир провинциального дворянства, его нужды и проблемы никогда не ускользали из поля зрения Щербатова. Сам он, впрочем, принадлежал к тому меньшинству среди дворян, которые владели несколькими тысячами крепостных душ, тогда как подавляющее большинство провинциальных дворян располагали значительно меньшим числом крепостных[144]144
По сведениям, приводимым в диссертации Л.В. Сретенского, в поместьях Щербатова насчитывалось примерно три тысячи крепостных – см.: Сретенский Л.В. Помещичья вотчина нечерноземной полосы России во второй половине XVIII века. (По материалам ярославской вотчины М.М. Щербатова): Дис…. канд. ист. наук. Ярославль, 1960. С. 92. Согласно позднейшим оценкам, помещики, имевшие более чем 500 крепостных душ (мужского пола), составляя менее 5 процентов всего дворянства, владели более чем 55 процентами всех крепостных в России (см.: Melton E. Enlightened Seigniorialism and Its Dilemmas in Serf Russia, 1750–1830 // The Journal of Modern History. Vol. 62. 1990. P. 681).
[Закрыть].
Карамзин также покинул деревню в ранней молодости, но его в еще большей степени можно назвать провинциалом по происхождению, так как поместье его отца находилось значительно дальше от Москвы – в Симбирской губернии (еще одно поместье располагалось в Оренбургской губернии). Карамзин, хотя и покинул свои родные места, сохранял с ними связь благодаря своим братьям, оставшимся сельскими помещиками. Им он продал свою часть имения, унаследованную после смерти отца, а полученные средства использовал на свое знаменитое заграничное путешествие и на помощь семье Плещеевых, в усадьбе которых жил некоторое время в последние годы правления Екатерины II{816}. Позднее Карамзин вновь сделался помещиком: получив приданое за первой женой, а после ее неожиданной смерти женившись вновь, он стал владельцем еще нескольких десятков крепостных душ. Однако деревни свои Карамзин посещал редко и всерьез хозяйством в них не занимался, получая оброк через управляющего[145]145
О поместье в Макателёмах (теперь это юг Нижегородской области), доставшемся Карамзину в качестве приданого от второй жены, см., например: Макаров А. Хозяйственная деятельность А.Н. Карамзина в усадьбе Рогожка // Нижегородский музей. 2007. № 13 (декабрь). Доступно в Интернете: http:// www.museum.nnov.ru/unn/managfs/index.phtml?id=8007_21, последнее обращение 14.01.2010. Интересно, что сын Карамзина, Александр, попытался реализовать утопический проект своего отца (см. ниже) и стать рачительным, но человечным по отношению к крестьянам помещиком. Однако экономических успехов он достиг – вопреки идеям отца – не за счет усиления барщины, а благодаря устройству в имении промышленных заведений.
[Закрыть]. Это и понятно, так как главным делом жизни Карамзина и основным источником его доходов была литературная деятельность, в частности написание и издание Истории государства Российского{817}.
Итак, Щербатов и Карамзин были скорее людьми столиц, хотя и сохраняли связь с провинцией. Поэтому говорить о связи их идей о правильном устройстве общества с образом мысли других представителей поместного дворянства, в том числе и провинциального, можно лишь отчасти. И все же в произведениях Щербатова и Карамзина, относящихся к миру большой политики, можно проследить, в частности, представления о том, как должно быть устроено идеальное дворянское поместье. Последнее как своего рода микромир, с одной стороны, уподоблялось, а с другой – противополагалось макромиру государства. Поместье как государство в миниатюре могло служить идеальным образцом для последнего, и, наоборот, элементы государственной практики, усвоенные на службе в столицах, могли привноситься в жизнь поместья, делая его своеобразным государством в государстве.
Как я постараюсь показать, образы поместья и представления о «правильном» отношении к нему его владельца существенно различаются у Щербатова и Карамзина. Тем не менее нетрудно заметить и общие черты в изображении обоими мыслителями характера социальных взаимосвязей внутри поместья. Это прежде всего характерное для обоих авторов идеологическое конструирование роли помещика как защитника и покровителя своих крестьян, их руководителя в труде и в повседневной жизни.
Такой патерналистский образ помещика – «отца» своих крестьян – находит параллели в античном представлении о главе «дома». Этот «дом» является не только хозяйственной, но и социальной единицей и включает в себя как членов семьи, так и рабов, которые по своему положению уподобляются детям, неразумным и неполноправным, нуждающимся в руководстве и заботе. «Дом» противопоставляется «полису» как сфере, в которой действуют полноправные граждане. Соответственно, «домостроительство», в котором рабы и домочадцы должны безоговорочно подчиняться отцу семейства, противопоставляется «политике», где каждый гражданин несет.полноту ответственности за свои действия. Таков идеал античной демократии, предполагающий противопоставление свободных греков, граждан своих полисов, подданным восточных деспотов. Для государств восточного типа, с точки зрения античной теории, противопоставления между «домостроительством» и политикой не существует. Подданные деспотических государств, каковы бы ни были их бедность или богатство, а также место в социальной иерархии, являются всего лишь рабами верховного деспота. Имущество, общественный статус и самая жизнь подданных такого государства никак не защищены от произвола верховной власти{818}.
Классицистические увлечения эпохи Просвещения позволяли русским дворянам осмыслять свою социальную роль в рамках античных категорий. Дворянин-помещик, читавший тексты античных греческих и римских авторов (если не в оригинале, то во французском переводе), мог представлять себя в качестве «гражданина отечества», а Россию – как своего рода «республику» дворян, хотя и с монархической формой правления (как демонстрировал пример Польского государства, одно не обязательно противоречило другому). Такое представление могло только укрепляться сознанием того, что в течение всего XVIII столетия монархия была подвержена угрозе дворцовых переворотов, а привилегии дворянства постоянно укреплялись. Конечно, республиканский идеал в его чистом виде был бесконечно далек от российской реальности, в некоторых отношениях больше напоминавшей восточный деспотизм. Однако здесь речь идет не о социальной реальности как таковой, а о мировоззрении определенной части образованного дворянства, которая вдохновлялась республиканскими идеалами и руководствовалась образами, почерпнутыми из античной традиции.
В русле этой традиции дворянин, считавший себя «гражданином» и «сыном отечества», мог полагать, что политической свободой он обладает, в частности, потому, что является материально независимым главой «дома», хозяйство которого основано на труде рабов. Свобода, таким образом, предполагала рабство и была основана на нем. Крепостных часто и называли рабами, хотя положение русских крепостных (речь не идет о дворовых), имевших в своем распоряжении дом, участок земли и рабочий скот, отличалось от положения античных рабов. Конечно, крестьяне не были собственниками земли, другого недвижимого (а частично – и движимого) имущества, они лишь пользовались тем, что помещик предоставлял им и мог по своему желанию отобрать. Однако на практике такие действия были бы разорительными для самого же помещика. Таким образом, крепостное право оказывалось ограничено если не юридически, то практически. Помещик, разумеется, мог действовать иррационально, например обирая своих крестьян ради сиюминутной выгоды, проигрывая их в карты, продавая в рекруты и так далее. Однако это понималось как издержки существующего положения, которое само по себе считалось вполне «нормальным». Поэтому критика русского «рабства», исходившая из уст иностранцев, воспринималась обычно как несправедливая, как следствие недостаточного знакомства с русской действительностью{819}.
Принимая такое отношение к крепостному праву как распространенное явление в русской дворянской среде (были, разумеется, и исключения, например Александр Николаевич Радищев), мы должны тем не менее обращать внимание на оттенки. Было бы неисторичным мерить дворянских мыслителей XVIII и начала XIX столетия одним аршином с защитниками крепостничества в эпоху Великих реформ.
В то же время даже для тех дворян, которые считали необходимым сохранение крепостного права в России, критика «рабства», исходившая от западноевропейцев, не проходила совершенно бесследно. Многие из европейски образованных дворян дорожили репутацией России как «европейской державы», и им вовсе не хотелось выглядеть обитателями «восточной деспотии», «рабами» царя и «рабовладельцами» в «восточном» смысле слова. Русские помещики, отвергая западную критику крепостничества как принципа, оказывались восприимчивы к аргументам, обосновывавшим экономическую неэффективность «рабства».
Западные критики рабства предполагали, что единственным побуждением к труду для раба может быть лишь страх наказания, – следовательно, никакой экономической инициативы от раба ожидать невозможно. Таким образом, рабство служило для этих критиков объяснением экономической отсталости России, низкой производительности ее сельского хозяйства. Дворянские идеологи не могли принять такого объяснения, и некоторые из них, подчеркивая различие между античным рабством и русским крепостничеством, полагали возможным использовать экономическое стимулирование работников для увеличения доходности поместий, – а это предполагало предоставление крестьянам некоторых гарантий, прежде всего в имущественной сфере. Другие же дворяне уповали скорее на традиционные методы принуждения, предполагавшие строгий надзор помещика за всеми сторонами крестьянского труда, желательно личный. Таким образом, в центре возникшей в дворянской среде дискуссии находился вопрос о том, как, не отменяя крепостного права, стимулировать труд непосредственных производителей – крестьян. Спор шел о том, можно ли добиться улучшений лишь путем личного контроля (заменявшегося в те периоды, когда дворянин был занят на службе, подробной хозяйственной перепиской, а также регламентами и инструкциями для управляющих) или же необходимо и возможно использовать собственную материальную заинтересованность крестьян, предоставляя им определенные гарантии того, что плоды их дополнительных усилий не будут попросту экспроприированы помещиком{820}.
Выбор одного из этих двух решений предполагал и разную степень вовлеченности помещика во внутреннюю жизнь его владения. Строгий контроль подразумевал постоянное вмешательство владельца, а лучше всего – переселение в поместье и повседневное участие в его хозяйственной жизни. Другие, косвенные формы контроля, предполагавшие использование материальных стимулов, не требовали таких значительных затрат времени и усилий со стороны владельца и были более совместимы с государственной службой или какими-то другими занятиями (например, литературными, как в случае Карамзина).
Далее мы постараемся показать, как специфические стили мышления, присущие Щербатову и Карамзину и отражающие в какой-то мере особенности двух разных исторических периодов, сказывались на предпочтении того или иного решения указанной проблемы – стимулирования крестьянского труда.
Утопия и практика «домостроительства» в системе экономических и политических взглядов Михаила Щербатова
1
Взглядам М.М. Щербатова как политического мыслителя и выразителя интересов дворянства, а также биографии этого общественного и государственного деятеля посвящена довольно обширная литература. Среди важнейших работ о нем можно упомянуть дореволюционные труды, несколько книг, вышедших в советское время, ряд работ европейских и американских исследователей и, кроме того, недавние диссертационные исследования, написанные в нашей стране{821}. Особенностью дореволюционной историографии было стремление классифицировать мировоззрение Щербатова как либеральное или консервативное, причем такого рода попытки неизбежно приводили к противоречивым результатам. Так, например, Венедикт Александрович Мякотин{822}, представитель либерального народничества и один из редакторов журнала Русское богатство, опубликовавший подробное изложение общественно-политических взглядов Щербатова в одном из очерков в своей книге{823}, отмечал «узость» общественного идеала Щербатова как выразителя интересов дворян – владельцев крепостных. В то же время Мякотин отмечал положительные, с точки зрения позднейшего либерализма, черты в мировоззрении Щербатова, прежде всего его стремление к созданию правового государства и, соответственно, его критику правления, основанного на произволе вельмож и фаворитов, характерном для России в период правления Екатерины II. Александр Александрович Кизеветтер, историк и один из видных деятелей кадетской партии, опубликовал очерк, посвященный роману-утопии Щербатова Путешествие в землю Офирскую. Кизеветтер отмечает характерные черты этой утопии, не позволяющие говорить о «прогрессивности» взглядов Щербатова, – в частности, использование труда рабов и стремление Офирского государства защититься от возмущения низших общественных слоев при помощи крепостей и армии – и все это в «идеальном» государстве! С другой стороны, некоторые черты, по мнению Кизеветтера, приближают мировоззрение Щербатова к идеалам внесословного правового строя. В частности, историк с одобрением отмечает мысль Щербатова о том, что все свободное население (а не только дворяне) может участвовать в законодательной деятельности, а также его требование непременного судебного решения, основанного на строгом соблюдении существующих законов, как единственного источника наказания: без него никто не может быть лишен жизни, чести или имущества. В целом Кизеветтер полагает, что Щербатов был «красноречивым идеологом основного процесса нашей социальной истории XVIII столетия – создания дворянской привилегии на основе крепостного крестьянского труда»{824}. И в то же время он утверждает, что Щербатов, «поделив свои идеалы между будущим и прошедшим, создал себе мировоззрение, оказавшееся действительно неосуществимой утопией»{825}. В этом отношении историк-либерал, вслед за Александром Ивановичем Герценом, противопоставляет Щербатова и Радищева, отмечая стремление последнего к тому, чтобы «свободными были все граждане». Кизеветтер писал: «История показала, кто из двух утопистов был ближе к исторической правде; история показала, что более радикальная утопия была наиболее дальновидной, а потому и наименее фантастичной»{826}.
Не останавливаясь подробно на других работах дореволюционного периода, отметим лишь, что авторы этих работ так или иначе подходили к оценке мировоззрения русского мыслителя XVIII столетия с позиции собственных политических взглядов, превращая Щербатова в одного из участников политической борьбы конца XIX – начала XX века. Такой интерес к политическим идеям прошлого объясняется тем, что либеральные политические деятели начала XX столетия старались найти дополнительное обоснование для своих взглядов, выстраивая идеологическую «родословную» русского либерализма. Однако, разумеется, трудно назвать такой подход историческим, да и просто справедливым по отношению к Щербатову. К тому же политические категории «либерализма» и «консерватизма» едва ли вообще применимы к периоду второй половины и конца XVIII века, для которого наряду с проникновением в общественное сознание новых представлений о «естественных» правах, присущих каждому человеку от рождения, характерно было обращение к идеям и понятиям классической древности. Можно отметить, что отношение к институту рабовладения как к чему-то позорному являлось для данного периода своего рода идеологическим новшеством, принимавшимся далеко не всеми представителями образованного общества. И Россия вовсе не являлась исключением в этом отношении: достаточно обратиться к общественным реалиям североамериканских колоний Великобритании и соответствующей им идеологии. Как раз в тот период, когда Щербатов создавал свои публицистические произведения, колонии вели войну со своей метрополией за независимость, приняв Декларацию, утверждавшую неотъемлемые права человека, – и, несмотря на это, для отмены рабства в Америке потребовалось еще почти целое столетие. Были ли представители рабовладельческих колоний, восставшие против своего короля под лозунгами «естественных прав» человека и гражданина, «либералами» или «консерваторами»? Возможный ответ состоит в том, что они не являлись ни теми ни другими, и их взгляды, как и взгляды Щербатова, следует анализировать при помощи совсем иных категорий{827}.
В еще большем противоречии с историческим подходом к анализу творчества мыслителей прошлого находились работы ряда советских историков, уделивших немало страниц анализу мировоззрения Щербатова. Прежде всего следует отметить работу Ивана Антоновича Федосова{828} и противоположный его точке зрения подход, продемонстрированный в диссертации Земфиры Пашаевны Рустам-Заде{829}. Если для первого автора Щербатов, несмотря на признание некоторых «прогрессивных» черт его мировоззрения, был в первую очередь «ярым крепостником», то другой автор, наоборот, подчеркивала привлекательные стороны в системе взглядов своего героя. Отчасти это объяснялось различием дисциплин, в рамках которых осуществлялся анализ. Федосов выступал как философ, более связанный заранее заданной идеологической парадигмой, тогда как Рустам-Заде как литературовед могла позволить себе более дифференцированное отношение к творчеству Щербатова. По существу, однако, идеологическая дилемма оказывалась неразрешимой, напоминая спор о том, является ли стакан, до середины заполненный водой, наполовину пустым или наполовину полным. При всей фактической ценности некоторых из работ советского периода, содержащих целый ряд интересных наблюдений над текстами Щербатова, теоретическая оценка его мировоззрения сводилась, по существу, к попыткам найти для его взглядов какое-то место на шкале между «прогрессивностью» и «реакционностью». Тем самым оставлялось без внимания то обстоятельство, что сам Щербатов мыслил в совершенно иных категориях – не «прогресса», а, наоборот, постепенного упадка, «повреждения нравов».
Представляют интерес работы ряда зарубежных авторов, среди которых особенно хотелось бы выделить основополагающую статью Марка Раеффа{830}, вводную статью Энтони Лентина к его публикации английского перевода самого известного из произведений Щербатова (О повреждении нравов в России) и серию позднейших статей того же автора{831}, а также неопубликованную, к сожалению, диссертацию Джоан Афферика{832}. Эти работы отчасти продолжают дореволюционную либеральную традицию истолкования творчества Щербатова, отмечая «противоречивость» его мировоззрения и сочетание в нем «консервативных» и «либеральных» элементов. При этом, однако, подчеркивается уже упоминавшаяся в дореволюционной литературе зависимость политических взглядов Щербатова от Духа законов Шарля Монтескье.
Наконец, следует отметить еще несколько работ о Щербатове, написанных в последние два десятилетия. Появление этих работ свидетельствует о заметно выросшем с 1990-х годов интересе к творчеству этого мыслителя. Значительный интерес представляет диссертационное исследование Светланы Геннадьевны Калининой, основанное на анализе большого количества архивного материала и подробно излагающее перипетии служебной карьеры Щербатова, а также затрагивающее и его общественно-политические взгляды. К сожалению, нельзя не отметить, что автор этого исследования несколько идеализирует своего героя, утверждая, например, что он отличался особой гуманностью по отношению к своим крепостным{833}.[146]146
В цитируемом в качестве подтверждения рукописном фрагменте речь идет о распространенной практике продажи крестьян поодиночке, против чего возражает Щербатов, апеллируя к чувству человечности. С.Г. Калинина спорит здесь с ИА. Федосовым, утверждения которого о Щербатове как крепостнике действительно выглядят идеологически предвзятыми. С другой стороны, однако, данные, приводимые в диссертации Л.В. Сретенского, как кажется, подтверждают, что требовательность Щербатова по отношению к его крепостным (в частности, величина оброка) превосходила обычные нормы для Ярославской губернии. «Гуманность», если таковая имела место, оказывается, таким образом, оборотной стороной стремления к извлечению дополнительных доходов – если доверять данным Сретенского. Вообще, утверждения, касающиеся отношения Щербатова к своим крепостным, будут более доказательными, если они подтвердятся анализом его повседневной практики помещика, а не ссылками на его публицистические тексты. См. данные о взимании оброка и об отношении Щербатова к просьбам крестьян уменьшить налагаемое на них бремя в упомянутой диссертации: Сретенский Л.В. Помещичья вотчина нечерноземной полосы. С. 252, 253, 269, 270.
[Закрыть] К тому же для диссертации С.Г. Калининой характерна тенденция настаивать на бесконфликтности отношений Щербатова с императрицей, что возможно лишь при сознательном игнорировании некоторых пассажей его сочинений, прежде всего характеристики Екатерины II в трактате О повреждении нравов в России. Некоторую односторонность работы С. Г. Калининой отчасти корректирует диссертационное исследование Николая Владимировича Серенченко{834}, подчеркивающего, в частности, связь мировоззрения Щербатова с настроениями той среды, из которой он вышел и взгляды которой во многом разделял. Можно добавить, что представители этой среды, как и сам Щербатов, при всей их верноподданнической риторике, обнаруживающейся в их переписке, не были чужды духу аристократического фрондерства. И, как правило, они не питали иллюзий по поводу потенциальной эффективности «гуманных» методов принуждения крепостных к повиновению.
Особое значение для нашей темы имеет диссертация Льва Владимировича Сретенского, написанная в начале 1960-х годов на основе анализа большого количества материалов хозяйственного архива Щербатовых, сохранившегося в составе одного из фондов РГАДА. Концепция автора в целом, будучи попыткой обоснования известного тезиса советской историографии о сравнительно раннем становлении капиталистического внутреннего рынка в России, может считаться устаревшей. Тем не менее целый ряд частных наблюдений Сретенского представляет значительный интерес. Многие из них не остались незамеченными в американской историографии, вызвав, например, появление любопытной статьи Уолласа Дэниэла{835}. Автор ее отмечает, что укоренившееся представление о Щербатове как об одностороннем защитнике дворянских привилегий в борьбе с другими сословиями, в частности с купечеством, нуждается в корректировке. В своей повседневной хозяйственной практике Щербатов предпочитал не конфронтацию, а сотрудничество с представителями других сословий, наладив успешное совместное производство льняного полотна с несколькими купцами из Ярославля[147]147
Характерным образом С.А. Козлов, автор обширного обобщающего труда [Козлов С.А. Аграрные традиции и новации в дореформенной России (центрально-нечерноземные губернии). М., 2002], мимоходом упомянув статью Дэниэла, отметил в ней, наоборот, сведения о конфликте между Щербатовым и местным ярославским купечеством (см. в книге Козлова примеч. 41 на с. 511). Конкуренция первоначально имела место, но, как подчеркивает Дэниэл, именно сотрудничество привело к экономическому успеху. Традиционное мнение о Щербатове представляет его выразителем экономических интересов дворянства в конфликте последнего с купечеством. Такой взгляд, основанный на интерпретации взглядов Щербатова прежде всего как представителя определенной социальной группы, не учитывает сложность мировоззрения мыслителя, его способность приспосабливать свои идеи и действия к практическим нуждам конкретной ситуации.
[Закрыть]. Вообще, многие материалы, приводимые Сретенским, свидетельствуют о том, что теоретические предпочтения Щербатова, выраженные в его ранней публицистике, могли входить в противоречие с его же практическими действиями, основанными на стремлении повысить доходность собственных имений. Сретенский вовсе не сомневается в том, что Щербатов был «ярым крепостником», но отмечает, что как разумный хозяин он не стремился разорить своих крестьян, предоставляя им известную экономическую свободу. Автор подчеркивает, однако, что эта свобода предоставлялась в обмен на выплату весьма обременительного оброка, что требовало в дополнение к сельскохозяйственным работам в поместье отхода крестьян на заработки (например, в Ярославль или в столицы). Таким образом, исследование Сретенского, несмотря на его явно устаревшую теоретическую концепцию, содержит ценные наблюдения, указывающие, по мнению упомянутого автора, на наличие в мировоззрении Щербатова противоречия между абстрактными теоретическими установками и практикой его же собственной повседневной хозяйственной деятельности.
Ценным дополнением к упомянутым двум работам может служить исследование Эдгара Мелтона{836}, лишь мимоходом упоминающее о Щербатове, но тем не менее позволяющее понять его взгляды не как изолированное явление, а в контексте поведения целого круга крупных землевладельцев, практику которых автор обозначает как Enlightened Seigniorialism. Для этой группы было характерно перенесение методов государственного управления на поместье (достаточно крупное для этой цели) путем создания своего рода внутреннего законодательства, позволявшего исключить произвол управляющих и отчасти контролировать насилие богатых и влиятельных крестьян над их бедными соседями. Автор исследования придерживается более взвешенной по сравнению с работами советских исследователей оценки крепостничества как общественного явления. По его мнению, стремление владельца поместья к извлечению максимально возможного, но стабильного дохода не противоречило в определенной мере его заботе о благосостоянии «подданных», об их здоровье, житейском благополучии и возможности поддерживать их собственное хозяйство. Такая забота предполагала некоторую материальную помощь со стороны помещика при нехватке земли или скота, а также в случае каких-либо чрезвычайных бедствий. Таким образом, односторонний тезис марксистской историографии о том, что единственным стремлением дворян-землевладельцев было простое «выколачивание» из крестьян как можно большего дополнительного дохода, подвергается существенной корректировке.
Обратимся теперь к анализу собственных произведений Щербатова, для того, в частности, чтобы оценить, насколько реальным было отмеченное Сретенским и Дэниэлом противоречие между его идеологическими установками и хозяйственной практикой. Как я постараюсь показать, это «противоречие» является своего рода иллюзией восприятия, возникающей в сознании исследователей в силу недопонимания характерного для Щербатова рационально-прагматического подхода к решению теоретических и практических проблем.








