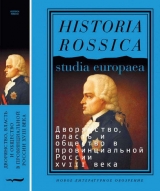
Текст книги "Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц)
ДВОРЯНСТВО, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ XVIII ВЕКА
Ред. О. Глаголева и И. Ширле
ПРЕДИСЛОВИЕ
Исследование дворянства в исторической науке последних десятилетий переживает своего рода ренессанс. Ученые ставят новые проблемы применительно к европейскому дворянству, формам его существования и созданным им социальным сетям, а также к статусу и функции дворянства в различных обществах Европы{1}. Весьма продуктивным и перспективным выглядит изучение дворянства с точки зрения региональной истории, дающей простор для сравнения отдельных групп внутри дворянства и их жизненных пространств{2}.
В нашем сборнике представлены труды конференции, проведенной Германским историческим институтом в Москве в апреле 2009 года[1]1
Организаторами выступили Ольга Глаголева, Александр Каменский и Ингрид Ширле; в конференции кроме авторов статей настоящего сборника приняли участие Вероника Долгова, Наталья Сурева, Виктор Мауль и Игорь Юркин.
[Закрыть]. Тема, выбранная для нее, – провинциальная Россия как «место действия» дворянства в XVIII веке – привлекла внимание историков из России и Германии. В фокусе их докладов находились и дворяне, проживавшие постоянно в сельских усадьбах, и те из них, кто вел жизнь между городом и деревней, столицами и поместьями, между регионами внутри империи. Интерес участников конференции был обращен прежде всего к тем местам и пространствам за пределами столиц, где протекала дворянская жизнь. Некоторые доклады представляли собой case studies из истории того или иного региона, в других обсуждалась специфика дворянской жизни в провинции.
Конференция послужила подготовительным этапом проекта «Культура и быт русского дворянства в провинции XVIII века», действующего с 2009 года под нашим руководством. С его первыми результатами можно познакомиться на сайте проекта{3}. Полностью его материалы будут опубликованы в двух изданиях этой же серии.
Успешному завершению работы над этим томом способствовали многие коллеги. В первую очередь нам хотелось бы поблагодарить Андрея Владимировича Доронина, Викторию Биркхольц, Майю Борисовну Лавринович, Нателу Копалиани-Шмунк, Бориса Алексеевича Максимова и Людмилу Михайловну Орлову-Гимон за перевод и редакторскую работу.
Ольга Евгеньевна Глаголева и Ингрид Ширле
1.
ВВЕДЕНИЕ
Ольга Евгеньевна Глаголева.
Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века: Подходы и методы изучения[2]2
Данная статья написана на основе доклада, прочитанного автором во время открытия международной конференции «Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века», проходившей в Москве 23–25 апреля 2009 года.
[Закрыть]
Наше понимание российского дворянства XVIII века и его отношений с государством и обществом в значительной степени сформировано трудами двух исследователей – Марка Раеффа и Юрия Михайловича Лотмана. Эти два основоположника социальной и культурной истории дворянства в России XVIII века не только дали нам базовые научные концепции, на которые до сегодняшнего дня опираются исследователи, но и предопределили наше эмоциональное отношение к изучаемому периоду и его проблемам. В своем фундаментальном труде Происхождение русской интеллигенции: Дворянство восемнадцатого века М. Раефф писал, что «несформированность дворянства как самостоятельного сословия предопределила оторванность обыкновенного дворянина от своих корней и его зависимость от государства», что в конечном итоге «послужило питательной средой для зарождения интеллигенции»{4}. Высказанная почти полвека назад, эта точка зрения находит развитие и в современных публикациях ведущих западных историков. Так, Элиза Виртшафтер в своем исследовании о социальной структуре российского общества дореволюционного периода подчеркивает, что «образы отчуждения, оторванности от реальности, экономического застоя, упадка и кризиса (с которыми ассоциируется наше представление о дворянстве XVIII века. – О.Г.) возникают из-за многообразия и неустойчивости дворянских типов», общими для которых, однако, являются «отсутствие четких социальных параметров и сопутствующие незащищенность и неопределенность дворянского статуса»{5}. Парадигма ущербности и незащищенности становится наиболее сильной в отношении дворянства провинциального, чьи привычки, образ жизни и вкусы традиционно ассоциируются с неразвитостью, невежеством и скукой{6}.
Ю.М. Лотман в книге Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) и других работах дает намного более поэтический образ представителей дворянского сословия в России. Рассматривая быт и традиции дворянства как пространство культуры, включавшее в себя сферу социального общения, нормы практического бытия, а также интеллектуальное, нравственное и духовное развитие, Лотман показывает, что «мир идей неотделим от мира людей, а идеи – от каждодневной реальности»{7}. Вместо картин ущербности и ограниченности жизни в провинции Лотман рисует мир символов и поэзии, в котором «представление, что ценность личности – в ее самобытности, неповторимости, в тех качествах, для которых Карамзин нашел новое слово – “оригинальность”, было чертой, в которой выразился [XVIII] век»{8}. Даже малообразованные «провинциалы» приобретают в изображении Лотмана черты трогательные и самоценные. Две культурные традиции, связанные с отношением к заимствованию приходящих с Запада идей и вещей, определяли взаимоотношения между людьми и одновременно, по мнению Лотмана, разделяли русское дворянское общество в конце XVIII века{9}. Заимствованные на Западе модели поведения не становились органичной частью жизни русского дворянина, но, оставаясь в большой степени чужеродными, ощущались им как «иностранные», что привносило в его бытовое поведение элементы театрализации и двойственности{10}. В итоге это также вело к отчуждению дворянина от своих корней, от традиционной русской культуры. «Двойственность восприятия» русского дворянина ярко выразилась в отношении к «своему» и «чужому», «старому» и «новому» и, наконец, в дихотомии «провинция – столица». Появившаяся у дворянина в результате освобождения от обязательной службы возможность выбора «стиля поведения» предполагала тем не менее разные модели поведения для «московского барина» в отставке и «помещика» в своей усадьбе, т.е. для жизни в столице и в провинции{11}.
Мощное воздействие взглядов М. Раеффа и Ю.М. Лотмана на последующее развитие историографии русского дворянства XVIII века вызвало ощутимую в последнее время потребность в проверке, уточнении и даже, возможно,' пересмотре выдвинутых ими положений на базе накопленных знаний и ставших сегодня доступными новых источников. В первую очередь представляются необходимыми критическое переосмысление концепции отчуждения русского дворянства от своей среды и пересмотр традиционных взглядов на провинциальное дворянство XVIII века{12}. Так как труды Раеффа и Лотмана были построены главным образом на интерпретации материалов, отражающих историю элиты русского дворянства, особую важность приобретает задача теоретического освоения комплексов источников, сконцентрированных в провинциальных архивах, и других малоизученных коллекций документов о дворянстве, жившем в русской провинции. Задачу пересмотра истории русского дворянства в контексте локальной истории поставили перед собой организаторы международной конференции «Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века», организованной Германским историческим институтом (Deutsches Historisches Institut Moskau) в Москве 23–25 апреля 2009 года. Исследовательские работы, представленные на конференции учеными из разных стран, составили настоящий сборник.
Проблемы подходов, терминологии и дефиниций
Необходимость обсудить на широком научном форуме проблемы, связанные с изучением дворянства, власти и общества в провинциальной России XVIII века, определялась в большой степени существованием различных традиций их осмысления представителями различных научных школ. Так, традиционное несовпадение подходов и методов в изучении истории России между российской (советской) и западной научными школами, кажущееся привычным для недавнего прошлого, не преодолено, по мнению некоторых исследователей, и сегодня. Американский историк Дэвид Ранзел в статье с многозначительным названием Единое научное сообщество: Пока нет пишет, что обсуждение на страницах печати и на научных форумах фундаментального труда Бориса Николаевича Миронова Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.){13} отчетливо продемонстрировало «не срастание, а, вероятно, увеличение разрыва между западными и российскими подходами к истории России»{14}. Во времена Советского Союза, несмотря на то что общение советских историков с их западными коллегами было крайне затруднено, обе группы, по мнению Ранзела, двигались в своих научных поисках примерно в одном направлении – от политической, дипломатической и интеллектуальной истории, которая интересовала исследователей в 1950–1960-е годы, к проблемам социальной истории в 1970–1980-е годы, – хотя представители этих групп и приходили нередко к различным выводам в зависимости от понимания задач исторического исследования. Развал коммунистического режима и прекращение контроля партии над обществом в России предопределили обращение российских историков к таким ранее запрещенным или непопулярным темам, как монархия и царская семья, сословия священников и купцов, история предпринимательства и частная жизнь. Многие традиционные темы также требовали переосмысления, учебники истории нуждались в переписывании. Обращение к новой исторической проблематике в России совпало с поворотом интереса западных историков в 1990-х годах к культурной истории и постструктурализму, обычно обозначаемому как «лингвистический поворот». В то время, когда российские ученые, по мнению Ранзела, испытывали острую потребность в более ясном, неидеологизированном понимании своего прошлого и создании истории России, покоящейся на твердом основании «исторической правды», их западные коллеги увлеклись освоением подходов из таких смежных областей знаний, как литературоведение и культурология, антропология и лингвистика, которые «дестабилизировали» историческое знание, уводя исследователей из сферы фактов и однозначных интерпретаций в область гибких категорий и концептуальных догадок{15}.
Данный разрыв в подходах и задачах исторической науки в России и на Западе особенно чувствуется применительно к исследованиям по региональной истории России. Американская исследовательница Сьюзан Смит-Питер, с энтузиазмом приветствуя появление на свет множества новых изданий по истории отдельных регионов, отмечает стремление российских историков к накоплению и освоению нового эмпирического материала, особенно почерпнутого в архивных исследованиях. При этом, однако, российские историки, по мнению Смит-Питер, нередко игнорируют достижения современных теорий исторического анализа. В то же время их западные коллеги преимущественно обращаются к новым теоретическим подходам, нередко забывая подкреплять свои рассуждения основательным фактологическим базисом. В результате, резонно замечает исследовательница, «на Западе мы имеем дело с теорией без местного материала, в России мы видим местный материал без теории»{16}.
Трудности, переживаемые современной исторической наукой в осмыслении истории российской провинции XVIII века, во многом увеличиваются из-за отсутствия ясного представления о том, что же является объектом исследования и в рамках какой дисциплины (или субдисциплины) эти исследования проводятся. История русской провинции, провинциальная история, локальная история России, краеведение, историческое краеведение, региональная история, регионоведение, регионология, местная история и даже местография – эти и подобные им названия применяются в многочисленных и разнообразных работах, обсуждающих проблемы истории отдельных регионов России. Более того, толкование этих дисциплин и субдисциплин, а также сфер их «интересов» встречается самое разнообразное и даже противоречивое. Так, Александр Борисович Каменский в своей книге о жителях Бежецка в XVIII веке осторожно уходит от определения того, как назвать интересующую его область знания. Он пишет в предисловии: «…априорная установка на то, что я занимаюсь микроисторией, локальной историей, антропологией города или историей повседневности, была бы не менее вредна, чем если бы я приступил к этому исследованию с некой уже готовой концепцией повседневной жизни русского города XVIII в.»{17}. Тем не менее Каменский предлагает строго разделять «местную» и «локальную» истории. «Во второй половине [XVIII] столетия […] зарождается […] направление, впоследствии получившее название “Провинциальная историография XVIII в.” […] [и] это стало началом того, что в наши дни именуют местной историей, или краеведением (не путать с локальной историей!)»{18} – восклицает историк и далее приводит определение двух подходов, принятых в локальной истории и отличающих ее от краеведения. Первый из них, в определении Лорины Петровны Репиной{19}, цитируемом А. Б. Каменским,
…«подходит к проблеме со стороны индивидов […] и имеет предметом исследования жизненный путь человека от рождения до смерти, описываемый через смену социальных ролей и стереотипов поведения и рассматриваемый в контексте занимаемого им на том или ином этапе жизненного пространства. Второй подход отталкивается от раскрытия внутренней организации и функционирования самой социальной среды […] включая исторический ландшафт [,..] и социальную экологию человека, весь микрокосм общины, все многообразие человеческих общностей, неформальных и формальных групп, различных ассоциаций и корпораций». Именно это направление получило свое воплощение в трудах историков […] лестерской школы, в частности в работах ее главы Ч. Фитьян-Адамса{20}.
Однако если мы взглянем на труды самого Чарльза Фитьян-Адамса, в частности на его основополагающую работу Переосмысление английской локальной истории, то мы увидим, что английский ученый употребляет термин локальная история как для обозначения исторических поисков, которые ведутся историками-любителями и традиционно называются в России краеведением, так и для «академической» отрасли исторической науки, занимающейся проблемами истории регионов{21}. Более того, в современной англоязычной литературе термин локальная история нередко используется именно для обозначения работ краеведческого характера и противопоставляется региональной истории, которая в этом случае выступает в качестве «научной» альтернативы подходам историков-непрофессионалов. Так, упоминавшаяся выше С. Смит-Питер уже в первых строках своей статьи с говорящим названием «Как “писать” регион: Локальная и региональная историография» дает точное определение того, как она понимает данные термины: «Региональная история (regional history) – это история регионов в рамках теоретического и сравнительного подходов». Ее исследовательница противопоставляет «русской историографической традиции локальной истории, известной как краеведение» («the Russian historiograpMcal tradition of local history known as kraevedenie»){22}. Автор при этом ссылается на работы российских исследователей Аллы Александровны Севастьяновой и Александра Николаевича Зорина{23}. Как видим, у Смит-Питер толкование термина локальная история диаметрально противоположно толкованию Каменского, причем оба автора подкрепляют свои определения ссылками на противоположную сторону историографической традиции.
Если термины локальная история и региональная история имеют вполне «академический» и эмоционально нейтральный характер, то термин провинциальная история несет в себе весьма ощутимую оценочную нагрузку, идущую от негативного багажа слова «провинция». Людмила Олеговна Зайонц в своих работах по истории понятия «провинция» убедительно доказывает, что, благодаря отмене в России провинции как административной единицы по реформе 1775 года, это слово вышло за пределы термина и начало жить «как открытая лексическая форма, порождающая свое текстогенное пространство». Уйдя из административной лексики, существительное «провинция» появилось в словарях конца XVIII века как синоним слова «деревня», постепенно приобретая негативный характер, который закрепился в русской литературе, и, при постепенном срастании грамматической функции слова с поэтической, получило устойчивую эмоциональную и стилистическую окраску. Автор подмечает, что, благодаря углубленному интересу к истории «глухих провинциальных уголков», возникшему в России в начале XX века вокруг публикаций журналов Столица и усадьба, Старые годы и других, культурное пространство провинции было объявлено чем-то вроде «национального заповедника» и обрело свой особый «хронотоп», в результате чего «движение в направлении столица > глубинка фактически означало путешествие во времени (чем дальше [от столицы. – О.Г.), тем ближе к 'седой старине')…». Одновременно поиски в сведениях об уездном быте, усадебной культуре и тому подобном «типичного, характерного, определяющего привели к своеобразной 'сублимации' материала: он трансформировался в галерею культурных символов»{24}.
Закреплению негативного значения слова «провинция» в большой степени способствовал также концепт «красного угла», характерный для русской культурной мифологии. Жесткая иерархия социальных отношений, активно внедрявшаяся усилиями центральной власти в русское сознание начиная с XVIII века, сыграла тут не последнюю роль. Как в каждой избе или дворянском доме существовал «красный угол» – сакральное место, где помещались иконы и усаживались самые почетные гости, – так и в стране существовал свой «красный угол» – столица, где наряду с правительственными указами и распоряжениями появлялись «лучшие» идеи, нормы, моды, распространявшиеся затем на всю страну, и куда стекались «лучшие» люди и продукты всех отраслей функционирования государства{25}.
«Миф провинции» нашел свое яркое воплощение в сложившемся к XIX веку устойчивом стереотипе провинциальности. Его анализу уделяется в последнее время все возрастающее внимание. Однако определить суть феномена с научной точки зрения оказывается не так легко: всеми чувствуемый смысл почти не укладывается в привычные рамки научной терминологии. Так, в недавней статье Михаила Викторовича Строганова Провинциализм / провинциальность. Опыт дефиниции делается попытка разграничить как термины, вынесенные в заглавие, так и явления, которые ими обозначаются. Исследователь пишет:
Провинциализм – это осознанное стремление жителя провинции возместить недостатки своего местожительства […] некоей амбициозностью, родственной амбициозности «маленького человека». Житель областного центра ощущает свою недостаточность перед столичным и вламывается (sic! – О.Г.) в амбицию перед жителем районного центра (и так – по цепочке – до бесконечности). С другой стороны, провинциальность – это не ощущаемое и не осознаваемое самим жителем провинции отставание от жизни. Например, в то время, когда в столицах началась мода на культурологию, провинция все еще жила […] поэтикой, за которую с еще большей степенью устарелости выдаются «художественные ценности». Но не агрессивная провинциальность все-таки гораздо симпатичнее и поправимее, чем агрессивный провинциализм. Провинциализм – это, таким образом, точка зрения самого жителя провинции; провинциальность заметна только «со стороны» «столицы». Провинциализм вызывает резко негативную оценку (сатира, гротеск-обличение), провинциальность же […] вызывает то, что можно было бы назвать снисходительной иронией{26}.
Резюмируя суть этих определений, приходится признать, что обе предложенные дефиниции не несут в себе ничего нового, а скорее отражают эмоционально-оценочный стереотип, выработанный более столетия назад. Оба явления, рассмотренные автором, оцениваются им как негативные, хотя он и признается, что провинциальность – исключительно «не агрессивная» (у автора именно так; бывает, видимо, и агрессивная) – «симпатичнее» провинциализма. В такой трактовке жителям провинции не остается ничего, кроме проявления амбициозности или агрессии, в силу их географической обреченности на «отставание от жизни». Данную точку зрения, увы, трудно признать за результат глубокого научного анализа.
Приведение столь обширной цитаты было бы здесь неуместным, если бы попытка М.В. Строганова предложить новую трактовку категорий «провинциальность» и «провинциализм» была явлением единичным. Увы, большинство предлагаемых сегодня способов категоризовать оппозиции «центр – провинция», «столичный – провинциальный» не идут дальше размышлений на уровне «передовой – отсталый». Пристальный взгляд на материалы локальной истории уже не раз убеждал, однако, что стереотипы плохо отражают динамику и комплексность исторических процессов, происходивших в провинции{27}.
Л.О. Зайонц, анализируя «семантический дрейф» понятия «провинция», отмечает, что некоторые словари иностранных языков, изданные в России в конце XVIII века (то есть уже после отмены административной единицы, существовавшей в России на протяжении почти всего столетия), характеризуют его как «неизвестный в России европеизм». Зайонц определяет этот факт как «уникальное свидетельство того процесса, который можно назвать поиском семантической ниши»{28}. Интересно, однако, подчеркнуть, что, обретя свою семантическую нишу в России, бывший «европеизм», являвшийся по логике культурных заимствований XVIII века феноменом «положительным», по крайней мере в традиционной оценке культурных «трансферов» с Запада в Россию, получил одновременно и диаметрально противоположный лингвистический и культурологический смысл. Из «европеизма», то есть воплощения «прогресса», провинциализм превращается в показатель «отсталости». Очевидно, что тут налицо и уникальное свидетельство неодновекторности культурных трансферов, адаптация «чужого» со знаком «минус», факт превращения при заимствовании «положительного» в «отрицательное», «прогрессивного» в «отсталое».
Справедливости ради следует отметить, что изменение семантического наполнения понятия «провинция» происходило параллельно и на Западе, однако приобретение понятием оценочнонегативного смысла в русской традиции имело, похоже, свои исторические причины, независимые от его трансформаций в европейских языках. Последние проанализировал в своей статье нидерландский славист Биллем Вестстейн (Willem G. Weststeijn) на примере словоупотребления в английском, французском, немецком и нидерландском языках. Как в XVIII веке, так и в настоящее время слово «провинция» широко употребляется в европейских странах для обозначения политико-административной, а также церковноадминистративной территориальной единицы. В этом значении слово имеет нейтральные, смыслообразующие характеристики. Кроме того, слово «провинция» имеет расширительное употребление как обозначение сельской местности или как противопоставление городу. Наиболее ярко это проявляется в немецком и нидерландском языках, поскольку в соответствующих странах центральная власть не обладает решающим влиянием на политической арене. Во Франции, стране с гораздо более сильной центральной властью, слово «провинция» приобрело значение «вся страна, кроме столицы». Однако и в этом семантическом поле слово имеет нейтральный, фактический смысл. Тем не менее, как и в русском языке, в европейских языках сложилась устойчивая традиция нагружать слово эмоционально-оценочными характеристиками, когда «речь идет о пренебрежительном отношении горожанина к глупому, ограниченному деревенщине или столичного жителя ко всем остальным»{29}.
Негативное восприятие «провинции» как играющей «вторичную» роль в истории страны предопределило на долгие годы и восприятие «провинциальной истории» как «немагистрального» направления в истории России, чего-то маргинального и потому не заслуживающего серьезного осмысления с теоретических высот исторической науки. К счастью, ситуация в последнее время заметно меняется, и как региональные, так и центральные издательства выпускают все большее количество литературы по истории регионов.
Выбирая в качестве объекта изучения определенный регион или какие-то аспекты его истории, исследователи вполне обоснованно сравнивают свой объект с соседними или близкими и нередко подчеркивают их общие, «типические черты». Выявление общих, «родовых» черт, характерных для различных «нестоличных» регионов страны и позволяющих говорить об особом культурном контексте русской провинции, дает плодотворные результаты, если используется наряду с другими подходами, накопленными в результате развития такого научного направления, как локальная или региональная история. Этот подход, однако, нередко используется в работах, авторы которых видят свою задачу в поиске и «открытии» в изучаемом регионе подтверждений процессам, которые протекали в рамках «большой» истории России, – проникновения в провинцию идей Просвещения, распространения в регионе культуры и образования, развития капиталистических отношений и так далее. В подобных исследованиях объектом являются процессы истории макроуровня, нашедшие свое воплощение на уровне локальном. Данный подход свойствен не только и даже не столько краеведческим работам, сколько «историям» отдельных регионов, продолжающим традицию советской исторической науки, хотя авторы подобных работ нередко обозначают дисциплину, в рамках которой они написаны, как регионоведение, локальная история и тому подобное, сознательно отделяясь от краеведения.
При активизировавшихся научных контактах между российскими и западными историками проблема дефиниций усложняется также отсутствием устойчивой традиции перевода терминов, употребляемых, в частности, в английском языке (сегодня наиболее влиятельном в сфере научного общения), на русский язык и обратно с русского на английский. В отдельных случаях это приводит к смещению смысла даже в таких базовых понятиях, как, например, «дворянство». Так, Теодор Тарановский заметил, что в трудах англоязычных историков о русском дворянстве нередко происходит взаимозамещение терминов gentry и nobility, landlord и state servitor, употребляемых как синонимы. Это ведет к тому, что, подвергая анализу данные о дворянах-землевладельцах, некоторые исследователи делают выводы о сословии в целом. Указывая на факт серьезной стратификации дворянства в России в XVIII–XIX веках, Тарановский видит необходимость четко разграничить употребление таких терминов, как the hereditary nobility («потомственное дворянство»), the landed gentry («поместное дворянство») и the personal nobility («личное дворянство»), отмечая также наличие большой группы безземельного потомственного дворянства на государственной службе, к которому часто применяется термин the state servitors{30}. Обратная тенденция выражается в заимствовании иностранных терминов для обозначения специфически российских явлений или социальных институтов. Так, употребление некоторыми российскими исследователями термина «джентри» по отношению к российскому дворянству этого периода – как к сословию в целом, так и к отдельной его части – является исторически некорректным и представляется нецелесообразным. Чрезвычайное увлечение отдельных российских историков заимствованием английских слов и выражений нередко приводит к возникновению не общего языка общения между российскими и западными коллегами, а, наоборот, новых моментов взаимонепонимания. Заимствуемые термины зачастую употребляются в семантически ограниченном варианте и приобретают характерные для русского языка грамматические формы, что искажает их изначальный смысл и сферу применения.
К привычным дихотомиям «столица – провинция», «передовое – отсталое», «культурное – невежественное» добавляются проблемы «культурного трансфера» с Запада и российской «отсталости» в период эпохи Просвещения. Последняя нередко усиливалась российскими мыслителями прошлого и продолжает подчеркиваться современными историками в устойчивой традиции русского самобичевания, а в западных работах иногда мягко называется «оригинальностью» – вероятно, из соображений политической корректности. Примеры подобного рода процитированы в статье Клауса Шарфа, приводящего высказывание Петра Яковлевича Чаадаева о том, что «русские не добавили ни одной идеи в копилку идей человечества», и вторящую ему цитату из книги нашего современника, британского профессора Саймона Диксона о модернизации России в XVIII веке: «Вследствие своей оригинальности практически ни один русский текст не входит в пантеон европейской политической мысли»{31}. Если уж русские «в целом» не смогли ничего дать миру, то что же говорить о провинциальных дворянах XVIII века, большинство из которых, по распространенному до сих пор мнению, были неграмотными? Этот клубок стереотипов подводит нас вплотную к необходимости разбираться с проблемой провинциализма, «природа» которого, по мнению Майкла Куглера, «еще совершенно не прояснена» даже на материалах европейской истории{32}. Отсутствие общей методологии и теоретического осмысления проблем провинциальной истории России требует, по мнению американской исследовательницы Анн Лоунсберри, создания специальной дисциплины «провинциальных исследований» (provincial studies), так как русская провинция до сих пор остается «вопросом без ответа»{33}.
Терминологическая неразбериха, существующая на сегодняшний день в трудах по локальной, региональной или провинциальной истории России, хорошо отражает степень «молодости» данной отрасли исторической науки, ту ее ступень, на которой пока еще не разработаны ни терминологический аппарат, ни теоретические подходы, ни даже собственно предмет осмысления. Краткий обзор подходов и методов, применявшихся в течение уже более чем полувековой истории этого направления на Западе, может быть полезен для становления и развития локальной истории в России.
История возникновения и развития локальной истории в западноевропейской традиции
Локальная история как научное направление начала развиваться в Англии после Второй мировой войны. В 1948 году произошло два важных в этом отношении события: было открыто отделение английской локальной истории в Лестерском университете во главе с профессором Уильямом Хоскинсом (W.G. Hoskins) и была основана Постоянная конференция по локальной истории (Standing Conference for Local History), предшественница Британской ассоциации локальной истории. Этими событиями локальная история как бы разделилась на два потока: Лестерская школа стала разрабатывать подходы и методы локальной истории как «академической» научной дисциплины, а Конференция повела активную работу по накоплению и пропаганде фактов местной истории, опираясь на историков-любителей и энтузиастов. Последнее направление организационно оформило многовековую традицию английской локальной истории, уходящую корнями в так называемую «антикварную традицию» (antiquarian tradition), выдвигавшую на первый план фиксирование и коллекционирование фактов, а не их интерпретацию. Данное направление, однако, накопило огромный материал по генеалогии, семейной истории и истории повседневности, что позволило публиковать многочисленные журналы краеведческого характера и многотомные издания, такие как, например, Victoria County History (История графства Виктория, 73 тома за 1932–1977 годы){34}.








