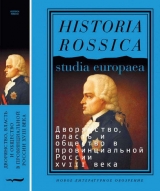
Текст книги "Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
«Академическая» локальная история, в отличие от «антикварной», меньше всего была «озабочена складированием (stockpiling) индивидуальных, детализированных, региональных, локальных или приходских историй», как подчеркивал Ч. Фитьян-Адамс{35}. Главное концептуальное новшество «академической» школы локальной истории можно грубо определить как переход от количественного подхода к качественному, от накопления фактов к их интерпретации. На этом пути, однако, с самого начала, по выражению Герберта Финберга, возникло «напряжение между “локализованной национальной историей” и “локальной историей как таковой”»{36}. Традиция рассматривать процессы, характерные для национальной истории, на локальном уровне нашла отражение в работах таких авторов, как Фрэнк Стентон, Элеонора Карус-Уилсон, Джон Плам и другие{37}. К примеру, Джонатан Чамберс в своем исследовании о графстве Ноттингемшир в XVIII веке поставил своей целью
…показать развитие локальной истории в период, предшествовавший индустриальной революции, на фоне национальной истории и [выявить] локальный материал, который не может интерпретироваться как факт национальной истории или дополнение к ней и потому традиционно исключается из существующего [исторического] знания.
В то же время Чамберс подчеркивал, что его намерение состоит в «использовании локальной истории в угоду общей истории», и адресовал свою книгу тем историкам, которые расценивают локальную историю как средство, а не как «конечную цель» знания{38}. Таким образом, Чамберс не отходил от традиционных методов «общей» истории, лишь обогащая ее локальным материалом.
Историки Лестерской школы не были, однако, удовлетворены таким подходом. Их интересовала «провинция сама по себе», причем в большом хронологическом срезе и в своей целостности. Финберг писал: «Дело локального историка, как я его вижу, состоит в том, чтобы восстановить в собственном сознании и изобразить для читателя Происхождение, Развитие, Упадок и Смерть локального сообщества»{39}. По этому принципу был написан ряд интересных работ, отражавших историю конкретных мест или сообществ на протяжении длительных отрезков времени{40}.
В конце 1950-х годов наметился новый поворот в развитии английской локальной истории – активное освоение ею достижений французских историков, и в первую очередь ученых, объединившихся вокруг издаваемого в Париже с 1929 года и основанного Марком Блоком и Люсьеном Февром журнала Анналы. Наиболее ценным для локальной истории оказалось предложенное «анналистами» изменение объекта исследований – в центре внимания историков оказывались не «великие» люди и «судьбоносные» события прежде всего политической истории, а обыкновенный человек и его жизнь во всем ее многообразии. Историки этой школы пытались выявить и описать все существовавшие в обществе связи – экономические, социальные и культурные, – а человека рассматривали «как субъекта в его социокультурной обусловленности»{41}. Исследование общества в его целостности было возможно только при междисциплинарном подходе к объекту изучения, использовании данных различных наук, среди которых не последнее место занимали такие дисциплины, как история техники, языкознание, история религии, психология, антропология, история экономики и так далее. Новый подход диктовал и новый взгляд на источники – не только в смысле привлечения источников смежных дисциплин, ранее не использовавшихся в исторических исследованиях, но и в смысле новых методов работы с ними. «Источник сам по себе нем», – считали представители школы Анналов, и историк, прежде чем приступить к его изучению и анализу, должен сформулировать вопросы, на которые он надеется получить ответ. Этот подход коренным образом менял принцип исторического исследования – из поиска фактов оно превращалось в «диалог с прошлым». Главное новаторство этого направления состояло, по определению Арона Яковлевича Гуревича, в замене классической «истории-повествования» «историей-проблемой»{42}.
Подходы «анналистов» в локальной истории с успехом применил Уильям Хоскинс. В своих трудах Создание английского ландшафта (1955), Крестьянин средней полосы (1957), Провинциальная Англия (1963) и других{43} Хоскинс сформулировал вопросы, которые до него не рассматривала историческая наука: что собой представляла жизнь обыкновенного крестьянина-фермера; какой была система земледелия, в которой он работал всю свою жизнь; из чего складывался каждый день крестьянина; что определяло ритм его занятий и как этот ритм изменялся в зависимости от сезона, географического местоположения его жилища и других факторов; какой была крестьянская культура во всех ее проявлениях и как она «строилась» и функционировала. Анализируя и сопоставляя данные археологии, топографии, аэрофотосъемки, старинных карт и антропологии между собой и с историческими документами, Хоскинс не только продемонстрировал, что география и антропология могут быть такими же важными источниками для исторического исследования, как архивные материалы, но и сумел показать, что в историческом процессе нет мелочей и что самые обыкновенные предметы быта могут рассказать внимательному историку не меньше, чем летописи или декларации об объявлении войны или заключении мира. Главное внимание Хос-кинса было направлено на «состояние человека в его целостности на локальном уровне», и, отмечая великие циклы изменений в существовании человека, историк видел их «в терминах историй цивилизаций». Исследуя историю «провинциальной Англии», Хоскинс открыл различные цивилизации, существующие одновременно и взаимозависимо: «цивилизацию крестьянина», «цивилизацию провинциальных городов», «цивилизацию усадебного дома» и другие. Назвав Хоскинса «гениальным локальным историком», Ч. Фитьян-Адамс отметил его «персональную самоидентификацию с умирающей провинциальной культурой»{44}. Новаторство Хоскинса предопределило современное развитие локальной истории и привело ее к сближению с так называемой «тотальной историей»{45}.
Поворот в сторону структурализма и «тотальной истории» произошел в 1960-е годы опять-таки в среде французских ученых, главным образом благодаря работам Фернана Броделя, ставшего во главе журнала Анналы и Института Человека (Maison des Sciences de L'Homme) в Париже. В своем обширном труде Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII века{46} Бродель перенес фокус исторического исследования с человека на большие структуры – экономические, географические, структуры народонаселения и тому подобные, на «медленные» перемены в истории. Озаглавив первый том своего исследования «Структуры повседневности: возможное и невозможное», Бродель широко использовал количественные и компаративистские методы и оперировал данными из области истории, экономики, демографии, социологии, военной истории, истории техники и других дисциплин, сопоставляя между собой материалы, накопленные на протяжении четырех веков в разных уголках земного шара, для создания глобальной картины материального мира. Главная цель ученого состояла в том, чтобы увидеть разнообразные сцены человеческой жизни «как единое целое – от еды до мебели, от технических достижений до городов – и определить, что же из себя представляла материальная жизнь»{47}.
Критика структурализма, «ушедшего» от человека в область экономических и других глобальных процессов, привела к «антропологическому повороту» в исторической науке конца 1970-х годов, проявившемуся в усилении внимания историков к проблемам противоположного свойства – частной жизни, повседневности, быту, ментальности и отражению реальности. Исследования, составившие многотомную Историю частной жизни под редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби{48}, в рассмотрении отношений между человеком и социальной средой опирались на анализ, «с одной стороны, объективных структур прошлого (“реальность как таковая”), с другой – образов, представлений, верований, идей, понятий, в которых эта реальность воспринималась людьми прошлого и которые составляли “вторую реальность”»{49}. Последняя объявлялась важной стороной человеческого бытия, и историки, наряду с изучением исторических событий и факторов материального окружения человека, впервые обратились к изучению систем ценностей, ментальности, истории чувств, массовых представлений и историчности сознания. Использование в исторических исследованиях подходов, заимствованных из антропологии, предопределило появление «микросоциальной истории» (термин Алана Макфарлейна){50} и «исторической антропологии» (термин Питера Бёрка){51}, что дало новый толчок локальной истории. Английская школа локальной истории по-прежнему лидировала, но интерес к проблемам, поднимаемым ею, стал заметно проявляться в 1970-е годы и в других странах Европы и Северной Америки{52}.
Отходя еще дальше от традиционного для исторической науки рассмотрения процессов в регионах с высот национальной истории, историки, включившиеся в разработку микросоциальной истории, выдвинули на первый план внимание к деталям, видимым только на микроуровне, но незаметным или даже невидимым на макроуровне «общей» истории. Главным объектом исследований стали низшие социальные слои, остававшиеся до того анонимной массой. Историки обратились к частным случаям, казусам, детальной проработке обстоятельств жизни «частного» человека, что потребовало укрупнения масштаба видения предмета, находившегося в поле исследовательского внимания, как бы рассмотрения его «в лупу». Среди исследований по локальной истории, использовавших методы микроистории, классическими стали труды Роберта Дарнтона, Карло Гинзбурга, Натали Земон Дэвис и других{53}. Книга Дэвис Возвращение Мартина Герра, рассказывая о том, как в 1540-х годах во французской провинции Лангедок крестьянин по имени Мартин Герр, оставив молодую жену и ребенка, ушел на заработки, а спустя несколько лет вернувшийся домой человек был судим за присвоение им чужого имени, открывает перед нами объемный мир возможностей, доступных людям того времени, и разнообразных ограничений, определявших их выбор моделей поведения. Основанная на тщательнейшем анализе огромного корпуса самых разнообразных источников, глубоко теоретически осмысленных, книга Дэвис анализирует локальное сообщество неграмотных крестьян, с его особой формой традиционной культуры, обусловленной специфическими географическими, историческими, экономическими и другими факторами, и показывает, как это сообщество в целом и конкретные люди в нем реагируют на изменения, вызываемые к жизни факторами «большой» истории страны. Как сказано в одной из рецензий, Дэвис «возвращает людей в историю, не уничтожая при этом ее социальной или политической силы»{54}. В книгах Дэвис мы наблюдаем отличительную черту локальной истории конца 1980-х – 1990-х годов – стремление к синтезу микро– и макроподходов.
Идея «локального сообщества» или, уже, «общины» пришла в историческую науку из антропологии и социологии. До 1970-х годов большинство ученых следовало теории, сформулированной в работах немецкого социолога Фердинанда Тенниса (Ferdinand Tonnies), противопоставлявшего общину (Gemeinschaft) – характерную для доиндустриальных обществ группу людей, связанных узами родства, совместного проживания, чувством «принадлежности» и общими целями, – и общество (Gesellschaft), понимаемое как пришедший на смену общине с модернизацией и развитием капиталистических экономических отношений способ социальной организации людей, проживающих рядом в целях наилучшего удовлетворения своих личных потребностей и целей{55}. Серьезную критику данной теории высказал в 1977 году Алан Макфарлейн, показавший в своей книге Реконструкция исторических общин, что община продолжает существовать в индустриальный период и не вытесняется полностью обществом{56}. Взгляды Макфарлейна развил Ч. Фитьян-Адамс, подтвердивший существование локальных общин в новые времена и разработавший теорию локальных сообществ и культурных провинций. В работах Фитьян-Адамса произошел отход, по его собственному определению, от «индивидуальных, имеющих четкие границы событий и фактов как главного объекта изучения и замена его на качественное понимание разнообразно определяемых моделей социальных связей – между индивидуумами, между социальными образованиями (entities), а также между этими образованиями и социальными и культурными структурами более высокого уровня»{57}. В центре внимания Фитьян-Адамса оказывается провинция, которую он рассматривает «как микрокосм всего общества, в особенности в периоды значительных изменений»{58}. Фитьян-Адамс указывает на то, что историку, выбравшему объектом своего исследования проблемы местной истории, приходится все время сталкиваться с проблемами истории национальной и поэтому ему необходимо четко осознать отношения между «локальным» и «национальным». Кроме того, важно видеть различия между краткосрочными и долговременными переменами, проявляющимися как на локальном, так и на национальном уровнях{59}. Социальная организация, то есть набор правил и принципов организации государства или нации, предоставляет, по мнению Фитьян-Адамса, «словарь возможных вариантов, которые реализуются и интерпретируются различно в различных регионах страны в зависимости от структур, сформировавшихся на местах в результате традиций, культурного контекста места с его собственными специфическими особенностями топографии, исторического, демографического и экономического развития». «Общество», однако, «может быть только там, где есть люди», которые взаимодействуют между собой в соответствии с «разделяемым всеми кодом жизнеустройства (shared habitual code)», то есть общепринятым стилем жизни, и это общество всегда локализовано в конкретном пространстве. Историк, таким образом, должен смотреть не сверху вниз, а снизу вверх, оттуда, где социальные структуры «населены» людьми, в сторону более «широких» социальных организаций{60}. Локальные общины, располагающиеся рядом, могут также образовывать «культурные провинции», для которых свойствен общий «культурный контекст» – местный диалект, схожая удаленность от центра, этническая или религиозная общность проживающих там людей, их одинаковая восприимчивость к культурным влияниям извне и так далее. Такие «культурные провинции» являются большими социальными структурами, чем локальные общины, и составляют, в свою очередь, нацию. Принципы соотношения истории локальных сообществ и национальной истории, разработанные Ч. Фитьян-Адамсом, не только позволили ему самому приблизиться к разрешению «многих загадок» в исследовании «утраченного культурного и социального прошлого провинциальной Англии»{61}, но и открыли для исследователей, занимающихся локальной историей, возможность выйти на уровень глубокого теоретического осмысления роли отдельных регионов в общей истории страны, увидеть историю нации «как локальную метафору»{62}.
Лорина Петровна Репина в своей книге Социальная история в историографии XX века подчеркивает:
…в последнее десятилетие активные поиски историками новых путей сосредоточиваются вокруг осмысления роли и взаимодействия индивидуального и коллективного, единичного и массового, уникального и всеобщего […] Ответ на вопрос, каким именно образом унаследованные культурные традиции, обычаи, представления определяют поведение людей в специфических исторических обстоятельствах (а следовательно, сам ход событий и их последствия), не говоря уже о проблеме творческого начала в истории, требует выхода на уровень анализа индивидуальной деятельности. Включение механизмов личного выбора является необходимым условием построения комплексной объяснительной модели, которая должна учитывать наряду с социально-структурной и культурной детерминацией детерминацию личностную и акцидентальную{63}.
Использование подходов и данных антропологии, лингвистики, психологии, культурологии и других дисциплин существенно расширило исследовательское поле исторической науки и внесло значительные изменения в ее объект и задачи исследования. Размышления историков над методами работы с источниками и способами их интерпертации привели к осознанию необходимости соединения в историческом исследовании микро– и макроподходов, изменили способ отношения историка к фактам в истории и позицию самого историка в историческом нарративе. В последние годы все большим интересом пользуются работы, в которых автор не предлагает изложения последовательной череды событий с готовым ответом на вопрос «как это было?», а побуждает читателя посмотреть на возможные варианты развития событий, проанализировать потенциальные возможности их участников, мотивацию поступков и причины, по которым реализовались или не реализовались те или иные возможные сценарии в истории. Иначе говоря, по определению Л.П. Репиной, историки сегодня стремятся не писать историю с точки зрения настоящего, представляя ее в уже свершившемся, «победившем» варианте, а смотреть на прошлое как на развивающееся настоящее{64}, выдвигая интересные гипотезы и по-новому анализируя устойчивые концепции и привычные категории{65}.
Надо отметить, однако, что большинство перечисленных выше работ по локальной истории, использовавших новые методы и подходы, были посвящены изучению различных сторон жизни либо локальных сообществ в их целостности, то есть с разнообразным социальным составом населения, либо сообществ крестьянских и городских низов. Тенденция перехода в исторических исследованиях с позиций национальной истории на региональный уровень привела к смене объектов анализа и на персональном уровне: как уже отмечалось, историки «отвернулись» от «выдающихся деятелей» элиты и обратили свое внимание на неграмотных крестьян и им подобных представителей низших социальных групп. Это привело к тому, что дворянство, жившее в провинции, осталось на долгое время практически вне поля зрения историков.
Подобная ситуация сложилась, в частности, в области изучения дворянства Франции. Так, Роберт Форстер еще в 1963 году заметил, что методы, предложенные Марком Блоком и Люсьеном Февром, не оказали существенного влияния на исследования по истории французского провинциального дворянства XVIII века, представления о котором у большинства историков продолжали «моделироваться в необычайной степени по образцу литературной карикатуры», заимствованной из комедий Мольера, Бомарше и Шатобриана. «Исторический портрет» провинциального дворянина, «иногда меланхоличный, чаще смехотворный», есть, по мнению Форстера, не что иное, как «изображение гордого, но тупого деревенщины, обреченного на нищету и безделье в разваливающемся провинциальном шато». Причина подобного результата крылась, по мнению историка, в том, что это изображение основывалось более на традиционном стереотипе, чем на основательном изучении источников{66}. Пытаясь преодолеть указанный недостаток, Форстер проанализировал данные об экономической деятельности провинциальных дворян XVIII века в трех регионах Франции (Тулузе, Бордо и Ренне), почерпнутые из не использовавшихся ранее архивных источников, и убедительно доказал, что провинциальный дворянин эпохи Просвещения – «далеко не бездельник, тупица и обнищавший “дворянчик” Qtobereau)», а, «скорее, активный, практичный и процветающий землевладелец»{67}. Форстер подчеркнул важность изучения дворянства XVTII века именно на региональном уровне, так как при разнообразии географических, экономических, социальных, культурных и других особенностей регионов специфические черты жизни провинциальных дворян в большой степени определялись их реакцией на окружавшую действительность.
Несмотря на появление в последние десятилетия ряда интересных работ по истории дворянства отдельных регионов Европы, позволивших по-новому взглянуть на опыт жизни дворянства в провинции{68}, историки по-прежнему подчеркивают недостаточную изученность дворянства Европы на региональном уровне. В частности, четыре десятилетия спустя после появления работ Форстера французские историки сегодня по-прежнему обеспокоены сохранением и устойчивым бытованием стереотипных образов не только провинциальных дворян, но и сословия в целом и видят необходимость пересмотра многих основополагающих теорий относительно места и роли французского провинциального дворянства в истории нации. Например, авторы сборника Французское дворянство в XVIII веке: Переоценка и новые подходы подчеркивают, что положение дворянства Франции при «старом порядке» до сих пор оценивается с позиций деструктивной роли этого сословия в истории страны, а его «смерть» как лидирующей силы в обществе воспринимается как неизбежность{69}. Отталкиваясь от исторической традиции рассматривать историю дворянства в Европе нового времени как историю «феодального класса», переживавшего кризис и упадок, исследователи, представившие свои работы в двухтомном издании Европейское дворянство в XVII и XVIII веках, приходят к выводу, что детальное изучение способов адаптации дворянства в различных странах Восточной и Западной Европы, в качестве группы или на индивидуальном уровне, к менявшимся условиям жизни и давлению на него как сверху, так и снизу убеждает в способности дворянства к консолидации и трансформации. Несмотря на различия в конкретных проявлениях трудностей и проблем, встававших перед привилегированным сословием в отдельных странах, дворянство в Европе на протяжении XVIII века выходило из них в немалой степени более сильным и влиятельным, чем раньше{70}. Подобную потребность в пересмотре взглядов на дворянство европейских стран и провинциальное дворянство в частности ощущают и историки других национальных школ{71}.
Регионализация[3]3
Начинающийся с этого места раздел об историографии немецкого дворянства написан Ингрид Ширле, и я благодарю ее за любезное разрешение включить этот фрагмент в мою статью.
[Закрыть], отделяющая одни «дворянские ландшафты» от других, характерна для исследований многослойного и очень разнообразного немецкого дворянства{72}. Это направление фокусирует свое внимание на роли дворянства в формировании региональных культур. К настоящему времени написаны обстоятельные исследования дворянства различных регионов Германии, среди которых достойны упоминания труды Хайнца Райфа о дворянстве Вестфалии{73}, Силке Марбург и Йозефа Мацерата о саксонском дворянстве{74}, сборники работ о дворянстве Баварии{75} и Гессена{76}. Группа чешских, немецких и польских историков работает над темой Дворянство Силезии{77}.
Подчеркнуто ориентированные на культурную историю, упомянутые труды развивают концепт «жизненных миров». Этот вариант микроисторического подхода исследует «формы созидания, поведенческие стратегии и стили жизни, способы интерпретации мира и основные представления о нем» как индивидов, так и целых групп{78}. Дворянские миры Рейнской области – так называется сборник исторических источников, сопровождаемых обширными комментариями, недавно вышедший в свет в рамках проекта «Прорыв в модерность. Рейнское дворянство в западноевропейской перспективе, 1750–1850», осуществляемого Германским историческим институтом в Париже{79}. Ценность такой региональной перспективы – возвращение мелкого дворянства в поле зрения исследователей{80}.
Поворот интереса в последние десятилетия в сторону «локальных особенностей» истории предопределил дальнейшее развитие локальной истории как в ее «антикварной», любительской ипостаси, так и на академическом уровне. Книги о том, «как заниматься локальной историей», выходят в Европе и Северной Америке массовыми тиражами, привлекая все большее число людей, историков-специалистов и непрофессионалов, к этому увлекательнейшему жанру исторического поиска{81}. Компьютерная революция последних лет предоставила совершенно уникальные возможности в этой области и тем и другим, что обусловило появление большого числа новых исследований по истории регионов, отдельных городов, сел и деревень, малых локальных сообществ, отдельных групп людей, а также семей и просто индивидуумов не только из числа деятелей истории и культуры национального масштаба, но и весьма обыкновенных людей. Появление в открытом доступе в Интернете таких массовых источников, как переписи населения, метрические книги и так далее, породило настоящий взрыв интереса к исследованиям по семейной истории, что привело, по замечанию одного из ведущих британских специалистов по локальной истории Джона Беккетта, к тому, что «семейная история стала второй по популярности областью использования Интернета»{82}. Как результат – невиданный рост публикаций по локальной истории, как в традиционном книжно-журнальном варианте, так и в электронном виде, где заметно преобладают публикации непрофессиональные. Это усложняет и без того «непростые» отношения между историками-профессионалами и энтузиастами-любителями локальной истории. Размышляя о новых направлениях развития локальной истории в XXI веке, Беккетт видит настоятельную необходимость «поженить» концептуальные поиски академической локальной истории с практической работой краеведов. «Хорошая» локальная история, подводит итог Беккетт, должна отталкиваться от реальных событий или фактов, должна уметь анализировать и интерпетировать их; в то же время она должна помещать конкретный материал в исторический контекст (неумением это делать обычно грешат непрофессиональные работы), видеть всевозможные связи на разных уровнях и иметь потенциал целостного взгляда на прошлое. И, добавляет Беккетт, «хорошая» локальная история должна, безусловно, становиться известной многим – через публикации, как «бумажные», так и электронные, всевозможные публичные лекции, школьные и университетские курсы по локальной истории, средства массовой информации, общества, группы по интересам и другие формы распространения знаний{83}.
Локальная история в России и изучение русского провинциального дворянства XVIII века
Нет нужды говорить о том, что пожелания британского историка легко применимы к ситуации с локальной историей в России. Так же как и на Западе, в России локальная история долгое время была уделом энтузиастов-непрофессионалов. Появившаяся в XVIII веке «провинциальная историография», позже получившая имя «краеведение», была популярным занятием образованного общества в XIX веке и особенно в начале века XX. После Октябрьской революции и Гражданской войны краеведение переживало свой «золотой век»: если в 1917 году в России было 155 краеведческих кружков и обществ, то к 1930 году их насчитывалось уже 2334, с числом членов около миллиона человек. В следующем году, однако, вышло постановление О мерах по развитию краеведного дела, в котором краеведение было квалифицировано как «гробокопательско-архивное» и осуждено как «гнилой либерализм». «Дело академиков», по которому были репрессированы 115 ученых, участвовавших в краеведческом движении, окончательно разгромило это направление науки в России{84}. Созданные в первые годы советской власти в областных центрах страны краеведческие музеи были призваны отражать и пропагандировать магистральные направления идеологической доктрины партии и правительства и, хотя вели большую работу по сбору местных материалов, научно-исследовательскими центрами развития локальной истории в силу ряда причин не стали.
Возрождение краеведческих исследований произошло в 1960-е годы. Однако только в конце 1980-х годов история регионов стала выходить за рамки краеведения. В 1990 году на конференции в Челябинске был создан Союз краеведов России, который возглавил академик Сигурд Оттович Шмидт. Чтобы подчеркнуть необходимость развития такого научного направления, как местная история, Шмидт ввел тогда термин «историческое краеведение», который, по мнению многих историков, вполне соответствует термину «академическая локальная история»{85}. Интересные работы научного характера по истории отдельных регионов начали появляться еще в 1980-е годы. С упрощением доступа в архивы в постсоветское время в области краеведения наступил бурный период «накопительства», сравнимый с «антикварным» направлением локальной истории на Западе. Российские исследователи стремились ввести в научный оборот как можно больше новых фактов и источников, неизвестных или замалчивавшихся ранее по идеологическим или иным причинам. Это дало настоящий взлет краеведения, особенно заметный в последнее десятилетие в связи с развитием Интернета. Однако это накопление фактов, к сожалению, до сих пор по-настоящему не стало основанием для развития «академического» направления исследований по истории регионов. Хороших аналитических работ, построенных на солидном основании новых архивных материалов, осмысленных и интерпретированных в рамках современных достижений теории истории, пока крайне мало{86}. И нельзя сказать, чтобы западные теории истории были не знакомы российским исследователям: еще в конце 1990-х годов в России прошли многочисленные круглые столы, конференции и симпозиумы по проблемам применения микро– и макроподходов к изучению прошлого, при академических институтах открылись постоянно действующие семинары, на которых обсуждались и обсуждаются проблемы обыденности, частной жизни, новые подходы к изучению взаимоотношений власти и общества, в том числе в провинции, проблемы локальной истории. Большую роль в популяризации западных теорий в России сыграли работы Арона Яковлевича Гуревича, Юрия Львовича Бессмертного, Лорины Петровны Репиной и других{87}. Однако по-прежнему большинство публикаций по провинциальной или региональной истории, издаваемых в России, можно отнести скорее к «антикварной» или краеведческой традиции, чем к «академической» или научной историографии. Не намного лучше обстоит дело с исследованиями, изданными на Западе, в которых новые методы локальной истории сравнительно недавно начали применяться к изучению провинциальной России. Среди наиболее значительных следует назвать работы Кэтрин Евтюхов, Мэри Кавендер, Валери Кивельсон, Дэвида Ранзела, Дональда Рэйли, Грегори Фриза, Дженет Хартли и других{88}.
Если же подойти ближе к проблемам локальной истории России XVIII века и еще конкретнее – к провинциальному дворянству XVIII века, то здесь мы, к сожалению, оказываемся на практически нехоженой территории. Большинство изданных в России работ по провинциальной истории, стремящихся применить аналитический подход, не идут дальше рассуждения о дихотомии «столица – провинция». Работы западных исследователей по истории дворянства России XVIII века, даже если построены с использованием большого количества материалов из региональных архивов, редко фокусируют свое внимание именно на проблемах локальной истории{89}. Хочется, однако, еще раз подчеркнуть, что устойчивые стереотипы восприятия русского провинциального дворянина XVIII века, подобно традиционному изображению историками французского провинциального дворянина того же времени, не выдерживают проверки с помощью детального анализа местных материалов. Это продемонстрировало обращение историков к комплексам архивных документов по истории отдельных регионов России, остававшимся ранее вне исследовательского поля либо рассматривавшимся под другим углом зрения{90}. В частности, детальное изучение провинциальных усадеб русских дворян XVIII века, предпринятое недавно Юрием Александровичем Тихоновым на основе анализа описей имущества должников, позволило российскому историку «развеять сложившийся в художественной литературе образ помещика-барина, равнодушного и неумелого хозяина, полного пленника своих приказчиков и управляющих. Конкретный материал показывает сельскую усадьбу в виде культурно-бытового гнезда, проводника в провинциальной жизни новых веяний в духовной жизни общества»{91}. Дальнейшее обращение к региональным материалам в рамках проблем локальной истории поможет преодолеть привычные стереотипы и выйти на уровень теоретического осмысления истории русской провинции.








