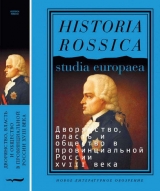
Текст книги "Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Поэт, искусство поэзии и дружба в горацианской традиции были многократно – хотя и противоречиво с точки зрения логики – соотнесены друг с другом. С одной стороны, Капнист переложил свободно горацианскую оду I, 26: «жизнь и лиру / Любви и дружбе посвящу»{1036}. С другой стороны, поэт характеризовал себя как «друг муз», вновь обращаясь в одном из свободных переложений горацианских од (I, 32) к лире с прописной буквы, как будто это было ее собственное имя: «О Лира, милая подруга!»{1037} В-третьих, дружба между поэтами, вдохновленная и определенная горацианством, была клятвенным сообществом, созданным в интересах искусства. Союзы друзей-поэтов, читателей, искренних критиков и меценатов – объединенные общей программой или не имевшие ее – начиная с 1760-х годов стали и в России, и в Германии «фундаментальной институцией»{1038}. Совета и помощи друзей искали и принимали как что-то само собой разумеющееся, будь то более последовательное рассуждение или изысканная стихотворная строка, подготовка публикации или возможность открыть двери в дом той или иной влиятельной персоны. Совместное служение музам конституировало общественные отношения и исполнялось с религиозной серьезностью и профессиональной дисциплиной даже в тех случаях, когда по дидактическим причинам или из уважения использовались такие литературные средства, как шутка или сатира. Так, Капнист, будучи искушенным знатоком театра, сделал набросок пьесы для домашнего театра своего соседа и приятеля – высокого сановника Дмитрия Трощинского, а распределяя в ней роли, сознательно выбрал для себя свою: «Себе взял роль поэта, ибо таково мое ремесло»{1039}.
Снисходительно и весьма отстраненно, но с полным пониманием друзья реагировали на написанные кем-либо из них на скорую руку, из соображений служебной карьеры, торжественные оды для двора{1040}. Основательная, добротная работа – как поэта, так и критика, – напротив, требовала, по мнению Капниста, времени, спокойствия и свободы от материальных забот. В течение всей жизни он оставался верен усвоенному им еще в юные годы представлению о себе как о друге муз, будучи уверенным в том, что среди равных возможен рациональный диалог о сильных и слабых сторонах каждой работы. Даже по поводу горацианской оды Державина 1797 года (Капнисту) – частью довольно точно переведенной, частью же заметно отклоняющейся от оригинала – он заметил не без жеманства, хотя и с благодарностью, что она ему представляется более удачной, чем другое переложение Горация, сделанное другом (II, 10), – На умеренность. А поскольку такой отзыв показался Капнисту слишком одобрительным, он предложил ряд содержательных и формальных изменений{1041}. Весной 1813 года Капнист с большой симпатией похвалил патриотическое стихотворение своего сына Сергея о наполеоновском вторжении, падении Москвы и спасении отечества. Вместе с тем, отправляя сыну рукопись, он снабдил ее многочисленными критическими замечаниями на полях, добавив при этом совершенно определенно, что Сергей должен составить свое независимое суждение, «ибо я также ошибиться могу». В то же время он не считал свои собственные поэтические творения безупречными: в благодарность за поэтический подарок он отправил своему сыну только что вышедшую из печати оду Жуковского Певец во стане русских воинов, принятую им за стихотворение Батюшкова, и рекомендовал ее в качестве поэтического образца{1042}. В 1818 году он выразил свое особое уважение Жуковскому, отправив поэту письмо о литературе: «…искреннее уважение к превосходному стихотворческому дарованию вашему и любовь моя к отечественной словесности», – писал Капнист, послужили ему поводом для послания. Однако главным образом его не оставляло в покое то, что этот уважаемый поэт позволил себе взяться за гекзаметр, который Капнист считал стихотворным размером, неприемлемым для русского языка. Однажды уже высказавшись публично против его употребления, теперь он позволил себе сообщить свое «беспристрастное мнение» лично Жуковскому{1043}. Хотя не позднее 1812 года служение музам также и для Капниста переросло в «любовь к отечественной литературе», склонность к критике ради интересов поэтического искусства осталась у него по-прежнему очень выраженной.
Античный риторический топос «аффектированной скромности»{1044}, смирение перед величиной стоящей перед ним задачи, самокритика и саморефлексия, а также самоирония в подражание Горацию{1045} отличали репрезентацию собственного поэтического труда в «автобиографических» трудах Капниста и письмах, направленных друзьям-поэтам, меценатам и высокопоставленным персонам. Этот труд в принципе не мог быть легким, он должен был быть тягостным. В посвящениях и сопроводительных письмах к своим сочинениям Капнист просил прощения, ссылаясь, по принятой формуле, на «бессилие музы моей»{1046}.
Тем не менее в переложениях горацианских од, таких, например, как Предпочтение стихотворца (I, 1) и О достоинстве стихотворца (IV, 8), можно различить гордость поэта за свои художественные достижения{1047}. В переводе, названном К Мельпомене (IV, 3), поэт с уверенностью рассчитывает на общественное признание своего труда: «Но эолийскими стихами / Он будет славен меж творцами; / Столица мира, Рим, уже меня в причет / Певцов приемлет знаменитый…»{1048} Даже если такого рода пассажи нельзя рассматривать как непосредственные высказывания Капниста о самом себе, их следует учитывать как контекст его отзывов о собственном поэтическом несовершенстве. Во всяком случае, в сравнении с образцами античной, западноевропейской и русской литературы даже тематика «аффектированной скромности» подтверждает, как его волновал вопрос о своем месте в европейской поэтической традиции. С годами все более беспокоясь о своей посмертной славе, Капнист был готов тем не менее смиренно довольствоваться скромным, даже провинциальным положением в памяти будущих поколений, чтобы тем более уверенно занять это место. Тяготы поэтического труда обязательно должны быть вознаграждены бессмертием – «долговечным памятником». Подобно Ломоносову, Державину, Востокову Капнист – а за ним позднее Пушкин и другие – перевел на русский язык оду Exegi monumentum (III, 30){1049}. Из двух значительно отличающихся друг от друга редакций только одна была опубликована при жизни поэта – в 1806 году: «Я памятник себе воздвигнул долговечный; / Превыше пирамид и крепче меди он…»{1050} Более раннее и в то же время более вольное переложение, найденное в архиве Державина, было опубликовано в собрании сочинений Капниста лишь в 1960 году: «Се памятник воздвигнут мною / Превыше царских пирамид, / И меди с твердостью большою, / Он вековечнее стоит»{1051}.
Горацианская философия жизни и христианство
Горацианские оды стали популярными прежде всего благодаря содержащейся в них традиции философских, в основном греческих по происхождению, принципов – простых жизненных мудростей, заключенных в совершенную форму: помнить о конечности человеческой жизни, наслаждаться каждой минутой, но ответственно использовать ее, не гнаться за земными благами, но довольствоваться правильно понимаемым собственным интересом{1052}. Именно потому, что жизнь и творчество Горация в европейской традиции не во все времена считались созвучными христианской морали, следующее утверждение В. Буша применительно к России просто озадачивает: «Почти не было эпох, когда Горация не признавали бы философом жизни, о чем свидетельствуют переводы его од»{1053}. Такой вывод несомненно правилен, когда речь идет о периоде расцвета горацианства в России, о столетии от Кантемира до Пушкина, на которое пришлось творчество Капниста. Это время было отмечено значительным влиянием европейского Просвещения «с его акцентом на разуме и морали», выдвинувшим «на передний план подход, в рамках которого поэт понимался в первую очередь как моральная инстанция»{1054}.
Переложения Горация, выполненные Капнистом, тоже распространяли элементы античной моральной философии. Уже упомянутые высказывания о скромности поэта встраиваются в общий горацианский контекст добродетели, складывавшийся из ограничения личных притязаний: «Честей я не служу кумиру, / Ползком я злата не ищу; / Доволен малым – жизнь и лиру / Любви и дружбе посвящу»{1055}. В травестийном по духу свободном переложении Горация под названием Желания стихотворца (I, 31) поэт отвергает стремление к высоким прибылям от сельской экономии и внешней торговли и ограничивает собственные желания самым простым – хорошим здоровьем, бодростью духа и миром в душе{1056}. В целом топос отказа от богатства и осуждения алчности находит у Капниста свое выражение в переложениях од Горация с тематическими названиями: Ничтожество богатств (III, 1) и Против корыстолюбия (III, 24){1057}. Горацианская ода Умеренность (II, 10) рисует позитивный образ – осторожного парусника, держащего срединный курс между рифами в открытом штормовом море, – и, восхваляя невзыскательную жизнь хотя не в золоченом дворце, но и не в бедной хижине, рекомендует соблюдение меры, aurea mediocritas. О популярности именно этой оды в России говорит тот факт, что В. Буш смог обнаружить двадцать четыре ее русских переложения. Среди них одно принадлежит и Капнисту, а центральными для его понимания являются строчки: «Кто счастья шумного тревоге / Средину скромну предпочтет, / Не в златоглавом тот чертоге, / Но и не в хижине живет»{1058}. Ранее, еще в конце 1790-х годов, Капнист переложил горацианскую оду Весна (I, 4), в которой использовалось как раз противопоставление золотого дворца и простой хижины с целью напомнить о равенстве всех – бедных и богатых – перед смертью{1059}. Таким же образом carpe diem – эпикурейское напоминание о смерти из горацианской оды I, 11, цитировавшейся еще Сумароковым и Державиным, было в свободной форме переведено Капнистом: «Миг, в который молвим слово, / Улетел уже от нас: / Не считай на утро ново, / А лови летящий час»{1060}. Подобным же образом звучит эта тема в оде Другу моему (1,9) начала 1800-х годов: «Что завтра встретится с тобою, / Не беспокойся узнавать; / Минутной пользуйся чертою; / И день отсроченный судьбою, / Учись подарком почитать»{1061}, а также – хотя и несколько сжато – в переработанном в 1818–1819 годах свободном Подражании горациевой оде (II, 16): «Когда ты в радости сей день, / О завтрашнем не суетися…»{1062}.
Однако заимствованная у Горация философия жизни отразилась в творчестве Капниста не только в переводах и переложениях горацианских од{1063}. К свидетельствам такого рода относятся и подражания другим образцам, например Оде на счастие Ж.-Б. Руссо, довольно часто становившейся предметом переложений. Впервые напечатанная в версии Капниста в 1792 году, она содержала похвалу природе и естественности{1064}. Не так явно за заголовком Богатство убогого открывается любовная проблематика. Мораль стихотворения в том, что отказ от славы и богатства компенсируется покоем в скромной хижине с возлюбенной{1065}. В стихотворении Алексею Николаевичу Оленину стремлению к богатству и внешнему блеску противопоставлена истинная, основывающаяся на морали, добродетельная, сострадательная, ориентированная на общественное благо жизнь{1066}. Кладезью таких моральных максим, направленных, в частности, против роскоши и высокомерия, являются 104 миниатюры и афоризма в стихотворной форме, некоторые из них – сатирические. Начало их создания относится к рубежу веков, а в 1814–1815 годах они составили два поэтических цикла, предназначенные для детей поэта: Встречные мысли и Случайные мысли. Из опыта жизни{1067}. Также определенно идентифицируемой с горацианскими принципами является изображение жизни в «автобиографическом» стихотворении Обуховка. Хотя это стихотворение предваряет девиз «Neque ebur, neque aureum / Mea renidet in domo lacunar» («Потолок моего дома не блещет ни слоновой костью, ни золотом»{1068}) из оды II, 18, топографические указания в их совокупности не оставляют сомнения в том, что это философское высказывание есть личный девиз Капниста, интерпретирующего собственную жизнь созвучно Горацию. Настоящее счастье жизни в сельской местности основано на единственно правильной моральной установке, и это вновь «умеренность», к которой поэт взывает как к богине, ведущей его по жизни: «Умеренность, о друг небесный! / Будь вечно спутницей моей! / Ты к счастию ведешь людей; / Но твой олтарь, не всем известный, / Сокрыт от черни богачей. / Ты с юных дней меня учила / Честей и злата не искать…»{1069}Гораций, любимец муз и граций, со всей определенностью прославляется как «веселый философ» и как учитель жизни: «…Как он, любимец Муз и Граций, / Веселый любомудр, Гораций / Поднесь нас учит скромно жить…»{1070} Другой горацианский мотив Капнист так же свободно использовал в Гимне благотворению, где бессмертие предвещается скорее благотворителям, а не военным героям{1071}. В то же время Капнист сочинял и духовные стихотворения: например, около 1800 года он, подобно Державину, сделал несколько свободных переложений псалмов{1072}. Конечно, письма создают впечатление, что Капнист ориентировался непосредственно и исключительно на античную этику, однако в повседневной жизни поэта философия умеренности Горация была скорее тесно связана с христианской верой и неотделима от христианской этики. Капнист не касался противоречий внутри горацианской философии между эпикурейством и стоицизмом или антагонизма между эпикурейством и Евангелием, – очевидно, никогда их и не видя. Напротив, простые жизненные правила Горация, которые Капнист усвоил, без всяких проблем соединялись с его христианским пониманием мира. «Не ропщу, но молю»{1073} – эти слова повторяются и как добровольное признание, и как совет ближним. Когда Державин временно оказался в опале, Капнист призвал друга воспринимать выпавший ему по воле Господа жребий с «равнодушием» и «с должною покорностию» – христианскими эквивалентами аигеа mediocritas и «аффектированной скромности»{1074}.
В написанных Капнистом полных благочестия письмах Господь обещает спасение, направляет жизнь его собственную и его семьи, налагает испытания, но дает и силы, чтобы эти испытания выдержать, вооружиться терпением и скромностью. Капнист взывает к Богу в письмах, когда ему не пишет жена, когда болеют дети, умирают родственники и друзья, случается плохой урожай, длительная тяжба с соседской помещицей Феклой Тарновской решается не в пользу поэта и его братьев, когда торжествуют противники и не находится необходимой протекции. За хорошие новости и сведения он благодарит Господа – иногда формально, а подчас и весьма выразительно. В письмах издалека, во время разлуки с женой, Капнист стремился утешить ее в испытаниях, во время ее беременностей и выпадавшей время от времени на ее долю ответственности за всю семью, хозяйство и поместье, уверяя, что молится за нее. Также и от нее он требовал молиться за него, выражая надежду, что ее сердце наполнено любовью к Богу, к добродетели и к нему{1075}. Эмоциональные высказывания Капниста по вопросам веры в письмах касались также заботы о спасении души его брата Петра, посвятившего себя начиная с 1780-х годов философии Просвещения. Как представляется, под влиянием Канта Петр Капнист заявил о своем sapere aude, о самостоятельном мышлении, которое все-таки тоже было горацианским, но которое молодой Василий считал несовместимым с христианской верой в Бога: «Ах, брат мой! И когда только освободитесь вы от повелительного желания постичь и познать все вашим собственным разумом? И когда увидите тщету философии?»{1076} В адресованных брату пассажах из писем Капниста к жене он демонстративно покоряется воле Господа: «Да будет во всем воля Божия», а также: «Человек предполагает, а Бог располагает»{1077}.
Как видно из этих, а также и других цитат, Библия безоговорочно принадлежала к образовательному канону. Тем не менее в письмах специфические, свойственные православному человеку признания и высказывания о церкви и ее учении все же отсутствуют, и только по отдельным свидетельствам можно судить, что Капнист придерживался церковных ритуалов, постов и праздников. Последнее давалось ему гораздо проще, когда он был со своей семьей и «всем домом» в малороссийском отечестве, чем во время служебных и частных поездок, среди петербургского, московского или киевского общества{1078}. Кроме того, задуманное им уже в летах, но так и не осуществленное паломничество в Иерусалим должно было послужить очищению от грехов молодости{1079}. В некоторых письмах помещик Капнист выступает патроном своей приходской церкви. Так, в 1791 году он просил киевского протоиерея Леванду прислать в его церковь диакона, известного своим прекрасным голосом, а в 1817 году поэт обращается к расположенному к нему малороссийскому генерал-губернатору Н.Г. Репнину с просьбой освободить от солдатской службы священника Обуховки, записанного в рекруты мещанским обществом Миргорода{1080}. Можно утверждать наверняка: в исследованиях о культурном «жизненном мире» (Lebenswelt) провинциальных дворян в Российской империи эпохи Просвещения вопрос о значении религиозности, в том числе и о позиции индивида по отношению к православной церкви, должен ставиться для каждого случая в отдельности, а результаты ни в коем случае не могут подвергаться обобщению.
Похвала сельской жизни и критика города
О восхвалении сельской жизни как об одном из горацианских мотивов в творчестве Капниста уже шла речь. Подобно античным поэтам, он стилизовал мирную, уединенную и непритязательную, но свою собственную резиденцию в сельской местности как прибежище размеренного и потому истинного счастья. В его поэзии можно обнаружить также и моральную стилизацию – контраст между похвалой сельской жизни и критикой, обращенной к городу. В переложении эпода Beatus ilk (II) – Похвала сельской жизни – Капнист, сравнительно с Горацием, даже заострил это противопоставление, передав «negotia» (отрицание «otium», досуга) – понятие, включающее торговлю и разные дела, – как «градский круг»: «Блажен, градским не сжатый кругом, / Кто так, как древни предки мзды, / Заботы чужд и чужд вражды, / Своим в полях наследных плугом / Взвергает тучные бразды»{1081}. «Ничтожество богатств» (III, 1), достижимое, согласно Горацию, только ценой преодоления страха за его сохранность, выливается в горацианскую похвалу собственному, хотя и скромному, клочку земли: «Почто желать, столбы воздвигнув приворотны, / Чтоб новый вкус мой дом на зависть все одел / И на сокровища променивать заботны / Сабинский малый мой удел?»{1082} Так же по-горациански восхваляет Капнист жизнь в тиши своего имения среди природы в переложении Оды на счастие Ж.-Б. Руссо{1083}.
Капнист остался в памяти современников и потомков поэтом, восхвалявшим дворянскую сельскую жизнь, лишь в небольшой степени благодаря своим переложениям Горация. Значительно большее внимание читателей заслужили те его стихотворения, где Капнист открыто и с большой любовью описывает свое собственное поместье в малороссийской Обуховке на реке Псёл вблизи Миргорода и красоту окружающей природы. В большинстве из этих стихотворений он не обращается к утопии. Скорее он – «друг Муз, друг родины» – всегда стилизовал место, где он жил и которое предельно точно описывал как свой Сабинум, а «уединенность» Обуховки среди истинной природы – как подходящее место для своей горацианской сельской жизни, как свой locus amoenus, где любовь, дружба и счастье находят себе приют. Еще в конце 1770-х годов, задолго до начала систематических переложений Горация, он, находясь в Петербурге, вспоминает в посвященной брату Петру оде их общую родину – место зарождения их дружбы: «О сколь тот край уединенный / Мне мил, где в юности, мой друг! / Взаимным чувством привлеченный, / Пленился дружеством наш дух!»{1084} В травестийном подражании горацианской оде II, 6 Капнист последовательно заместил италийскую топографию украинской топикой, переместив и место жительства античного классика с Тибура на тенистый берег Псёла{1085}. Однако поэтической кульминацией этой горацианской интерпретации собственной сельской жизни несомненно является ода Обуховка, в которой дополняют друг друга упомянутые идеи философии жизни и высказывания, содержащие точные топографические указания и идиллические описания как нетронутой, так и возделанной природы. За цитированной выше строфой о его «приютном доме», который – весьма корректно с моральной точки зрения – описывается как скромный дом, наполненный дружбой, следует описание природы в его окрестностях:
Горой от севера закрытый,
На злачном холме он стоит
И в рощи в дальний луг глядит;
А Псёл пред ним змеей извитый,
Стремясь на мельницы, шумит.
Вблизи, любимый сын природы,
Обширный многосенный лес
Различных купами древес,
Приятной не тесня свободы,
Со всех сторон его обнес…{1086}
Он всегда восхваляет уединение как целебное для каждого, а для поэта – еще и созидательное. В то же время его усадьба – гостеприимное место для членов давнего дружеского союза, возникшего в Петербурге, для трех поколений членов его семьи, для его корреспондентов-интеллектуалов, даже для служебного начальства и высоких сановников. В насыщенном цитатами из Горация стихотворении Зависть пиита при взгляде на изображение окрестностей и развалин дома Горациева поэт, как представляется, действительно не без зависти противопоставил свой «скудный дар» непреходящей славе Горация, Вергилия и их друга Мецената. Однако он, описывая место, где протекала его жизнь, где звучала его «томная лира», ни в коем случае не спорил с собственной судьбой:
Вотще звучу на томной лире,
Когда окончу жизни путь,
Из всех, оставленных мной в мире,
Никто не прийдет и взглянуть
На ветхий тот шалаш, убогий,
Где, скрыт от шумныя тревоги,
На безызвестных Пела брегах,
Протек мой век уединенный,
Как скромной рощей осененный
Ручей, извившийся в лугах{1087}.
Однако похвалы эти не лишены противоречий. В противовес своей жене Капнист особенно превозносил Обуховку, когда сам находился вдали от родины. Он, конечно, тосковал по дому, но в то же время, видимо, стремился по-горациански преобразить скучную сельскую повседневность для своей выросшей в Петербурге, образованной и иногда довольно нетерпеливой жены. А когда он сам с годами стал меньше ездить, участились его собственные жалобы на отсутствие газет, необходимость подолгу дожидаться книг, оторванность от новых литературных и научных течений и невозможность поговорить с кем-либо о Горации после отъезда ученого соседа.
Капнист, «любимец муз посреди Обуховки», в буквальном смысле зарыл свой талант в землю, иронически противопоставив недостаток у себя компетенции поэтической своей экономической компетенции помещика: «Я знаю, что кладется в копну по шестьдесят снопов, и вовсе позабыл, в какую сколько строфу поведено вмещать стихов»{1088}. Подобным же образом он кокетничал с Николаем Михайловичем Карамзиным, попросившим его написать статью о современной русской литературе для гамбургского журнала Spectateur du Nord, назвав себя простым скотоводом, который гниет на земле, а его муза вовсе не скупа, в чем его уличил Карамзин, но бедна{1089}.
Для того чтобы описать поместье Василия Капниста как центр семейного землевладения и провинциальный культурный центр, потребуются новые архивные изыскания, однако и в переписке поэта можно найти высказывания о садоводстве, земледелии, скотоводстве, о снабжении «всего дома» собственной продукцией, сбыте, управлении имением и долгах. Многие письма сами по себе являются свидетельствами культурных контактов, которые поддерживала Обуховка с внешним миром, – как с украинским, так и со столицами. Природу своей родины Капнист описывает зачастую и как неподдельную, данную Богом райскую идиллию, и – с другой стороны – как плодоносную и простую в хозяйственном отношении, а потому полезную людям.
Что касается критики городской жизни, то она никогда не затрагивает Киев или Москву, но всегда – столицу, Санкт-Петербург. Со времени, проведенного Капнистом в полку, этот город так и остался для него связанным со службой, став впоследствии местом неотложных судьбоносных решений о карьере государственного чиновника – как его собственной, так и его сыновей, – об исходе судебных тяжб по спорному землевладению, о петициях украинского дворянства. Здесь он должен был проводить время в передних власть имущих и судебных инстанциях, здесь находились его патроны, меценаты и влиятельные друзья, с которыми он поддерживал отношения, здесь же он неоднократно встречался лично с императрицей Екатериной II. Однако несмотря на преобладание критики в адрес города, у Капниста можно найти и свидетельства обратного свойства. Некоторые признаки указывают на то, что в юные годы он очень любил столичное общество, да и позднее с удовольствием посещал театры и концерты, наслаждаясь временем в кругу своих старых друзей и членов их семей.
Содержащиеся в письмах Капниста сведения о службе неоднозначны. С одной стороны, он многократно описывает службу как гнетущую, обременительную или скучную из-за отсутствия занятий и пытается добиться милости – отставки. Возможно, Капнист с большим удовольствием задерживался в Обуховке именно как в месте, полностью противоположном изменчивой служебной стезе. Взволнованно выражал он свое соучастие, лишь издалека сочувствуя перипетиям служебной карьеры Державина. Тем не менее собственное общественное положение он определял своей службой, будь то назначения на различные должности в гражданской администрации, избрания предводителем дворянства Миргородского уезда или дворянским маршалом Киевской и Полтавской губерний. От должности зависела также интеграция в сеть патронажа и клиентелы. Только внутри этой сети государственный чиновник второго разряда мог получать содействие сам и помогать другим. Если Капнист вынужден был задерживаться в дорогом для жизни Петербурге ради урегулирования своих дел, наличие у него должности означало все же, что государство компенсировало расходы на жизнь в столице. С другой стороны, постоянно соглашаясь на занятие выборных должностей в дворянском самоуправлении на своей родине, он придавал политический смысл единству с товарищами по сословию и участию в движении за автономию и благополучие своего украинского отечества.








